Конституционные начала современной уголовно-процессуальной политики: промежуточные итоги
Дается оценка основных тенденций развития современной уголовно-процессуальной политики через призму ее соответствия провозглашенному в ст. 2 Конституции РФ приоритету прав и свобод личности и закреплению их в качестве высшей ценности. Авторы останавливаются на особенностях развития уголовно-процессуального регулирования таких вопросов, как недопустимость поворота к худшему, а также на изменениях законодательства в части реформирования действующей судебной системы, а именно - судов общей юрисдикции и инстанцион-ного характера их деятельности. В результате проведенного исследования формулируются выводы о том, что как в первоначальной редакции УПК РФ, так и в ныне действующей прослеживается формальное соответствие процессуальной формы Конституции РФ. Однако приоритет публичного начала и публичного интереса не позволяет в должной мере обеспечить фактическое соблюдение прав личности в сфере уголовного преследования.
Constitutional Principles of the Modern Criminal Procedure Policy: Interim Results.pdf Конституция РФ была принята 12 декабря 1993 г. всенародным голосованием. Двадцатипятилетний юбилей ее действия обусловливает необходимость анализа сложившихся подходов к реализации отдельных конституционных предписаний, регламентирующих права и свободы личности. В рамках борьбы с преступностью именно данный ракурс исследования представляется крайне актуальным и значимым, поскольку в сфере уголовного судопроизводства наиболее остро стоит вопрос о возможности достижения баланса частных и публичных интересов и выборе соответствующего инструментария для этого [1, 2]. Итак, ст. 2 Конституции РФ закрепляет приоритет прав и свобод личности, их признание в качестве высшей ценности в государстве, что предопределяет и основной вектор реализации современной уголовно-процессуальной политики. В частности, имеет место полное соответствие ст. 6 УПК РФ конституционным положениям, направленным на защиту прав личности; получило свое закрепление и развитие судебное санкционирование; развивается судебный контроль; реформируется судебная система со ссылкой на необходимость обеспечения реального доступа к правосудию и т.п. Вместе с тем возникает резонный вопрос: насколько перечисленные и иные объективно существующие тенденции в сфере уголовно-процессуального регулирования и правоприменения действительно направлены на защиту частного интереса? Во-первых, хотелось бы еще раз обратить внимание на то обстоятельство, что до сих пор ст. 6 УПК РФ является ценностным оценочным суждением [3, с. 41-42], но не оценкой-констатацией, а оценкой-предпочтением, которая связана с выбором должного и желаемого, с фиксацией не того, что уже сложилось и существует, а того, в чем нуждается общество [4, с. 127]. Более того, наличие такой нормы в УПК РФ является ярким проявлением рефлексивного варианта развития уголовно-процессуального законодательства, который характеризуется спонтанным реагированием на сложившуюся ситуацию [5, с. 59]. И такое положение проявляется не только применительно к ст. 6 УПК РФ, но и в иных случаях. Например, явно конъюнктурный характер носят перечень оснований для возбуждения уголовного дела (ст. 140 УПК РФ), который периодически подвергается корректировке, круг лиц, наделенных свидетельским иммунитетом (ч. 3 ст. 56 УПК РФ) и т.п. Во-вторых, заложенное сущностное противоречие в содержание ст. 6 УПК РФ в части защиты и обеспечения прав ключевых участников уголовного судопроизводства, чьи интересы преимущественно вступают в конфликт друг с другом, закономерно приводит к балансированию как самого законодателя, так и Конституционного Суда РФ между ними, что влечет перманентное изменение уголовно-процессуального закона, признание отдельных норм УПК РФ не соответствующими Конституции РФ. Это привело к кардинальному изменению парадигмы уголовного судопроизводства, проявлению ретроградных тенденций в его развитии. Данный тезис в полной мере может быть проиллюстрирован на примере принципа недопустимости поворота к худшему. Как известно, в первоначальной редакции УПК РФ этот принцип носил неопровержимый характер. В соответствии со ст. 2 Конституции РФ и ст. 6 УПК РФ в целях защиты прав и законных интересов лиц, вовлеченных в орбиту уголовного судопроизводства, действовал запрет возвращения уголовного дела с судебных стадий процесса в досудебное производство для устранения неполноты проведенного расследования; исключительно предъявленным обвинением очерчивались пределы прав суда первой инстанции при осуществлении правосудия; действовал запрет на пересмотр приговора, вступившего в законную силу, в сторону ухудшения положения лица; возобновление производства по уголовному делу ввиду новых обстоятельств рассматривалось как инструмент восстановления справедливости всякий раз, как появляются обстоятельства, устраняющие преступность и наказуемость деяния. Вместе с тем более чем пятнадцатилетний период реализации обновляемого уголовно-процессуального законодательства привел к концептуальному пересмотру позиции законодателя. Так, согласно правовой позиции Конституционного Суда РФ, выраженной в постановлении от 2 июля 2013 г. № 16-П «По делу о проверке конституционности положений части первой статьи 237 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации в связи с жалобой гражданина республики Узбекистан Б.Т. Гадаева и запросом Курганского областного суда», устранен запрет возвращения уголовного дела с судебных стадий процесса в досудебное производство: «Возвращение уголовного дела прокурору в случае нарушения требований данного Кодекса при составлении обвинительного заключения, обвинительного акта или обвинительного постановления может иметь место по ходатайству стороны или инициативе самого суда, если это необходимо для защиты прав и законных интересов участников уголовного судопроизводства, при подтверждении сделанного в судебном заседании заявления обвиняемого или потерпевшего, а также их представителей о допущенных на досудебных стадиях нарушениях, которые невозможно устранить в ходе судебного разбирательства» [6]. Конечно, предложенный уголовно-процессуальный механизм не является традиционным возвращением уголовного дела для производства дополнительного расследования, однако содержит отказ на ранее существовавший состязательный сущностный элемент в уголовном судопроизводстве, который предусматривал роль суда как арбитра в споре сторон. Победа публичного начала уголовного судопроизводства в виде такого решения является несомненной. Не менее значимо и решение Конституционного Суда РФ, которым ст. 405 УПК РФ была признана не соответствующей Конституции РФ в той мере, в какой она не допускала поворот к худшему при пересмотре судебного решения в порядке надзора по жалобе потерпевшего (его представителя) или по представлению прокурора, что, по мнению Конституционного Суда РФ, не позволяло устранить допущенные в предшествующем разбирательстве нарушения [7]. Если ранее возобновление производства по уголовному делу ввиду новых обстоятельств рассматривалось как инструмент восстановления справедливости всякий раз, как появляются обстоятельства, устраняющие преступность и наказуемость деяния, то решением Конституционного Суда РФ пересмотр дела в порядке надзора по обстоятельствам, ухудшающим положение подсудимого, был явно переоценен в пользу публичного интереса. Внимательное изучение перечисленных актов Конституционного Суда РФ позволяет с уверенностью утверждать, что правовые позиции Конституционного Суда РФ сформулированы в соответствии со ст. 2 Конституции РФ. Так, одновременно в постановлении присутствуют тезисы о том, что человек, его права и свободы являются высшей ценностью, а признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина -обязанностью государства. Аналогичным образом право каждого на судебную защиту рассматривается через призму ст. 2 Конституции РФ: «По смыслу статей 1 (часть 1), 2, 4 (часть 2), 15, 17, 19, 118 (часть 1) и 123 (часть 3) Конституции РФ право каждого на судебную защиту предполагает обеспечение всем субъектам права свободного и равного доступа к правосудию, осуществляемому независимым и беспристрастным судом на основе состязательности и равноправия сторон.» [6, 8]. Не менее интересные тенденции прослеживаются и в части реформирования органов судебной власти по пути обеспечения, с одной стороны, единообразия в принципах формирования судов на территории Российской Федерации, а с другой стороны, для реального доступа граждан к правосудию. Как справедливо утверждает В. В. Ершов, система органов государственной власти должна поддерживаться в состоянии подвижного равновесия, саморегулирования [9, с. 49]. Поэтому в свете очередного витка судебной реформы повышенный интерес к суду представляется вполне обоснованным и закономерным [10-13]. Так, к осени 2019 г. должно быть завершено создание отдельных апелляционных и кассационных судов, распространяющих свою юрисдикцию одновременно на несколько субъектов РФ. Идеями, послужившими стимулами к изменению сложившейся инстанционной системы судов РФ, стали: максимальное обеспечение независимости и самостоятельности судов при рассмотрении апелляционных и кассационных жалоб и представлений, деятельность которых не будет осуществляться в том же субъекте Российской Федерации и тем более в том же суде; оптимизация в распределении нагрузки при осуществлении правосудия по первой, апелляционной, кассационной и надзорной инстанциям. Однако рядом ученых высказываются гипотезы относительно появления проблем, связанных с соблюдением прав и свобод граждан при реализации реформы. Так, развивающим положением признания человека, его прав и свобод высшей ценностью является, в соответствии с Конституцией РФ, обязанность государства обеспечить доступ к правосудию. Конституционный Суд РФ отмечал, что доступ к суду следует понимать в том смысле, что заинтересованное лицо должно иметь возможность добиться рассмотрения своего дела в суде, и ему не должны помешать чрезмерные правовые или практические препятствия [14]. Следует согласиться с позицией А. А. Рукавишниковой, предполагающей, что в условиях экстерриториальности апелляционных судов проблематично гарантировать непосредственное исследование доказательств (вызов и допрос свидетелей, экспертов, специалистов и т.д.) [15, с. 105]. Защита прав и законных интересов лиц и организаций, потерпевших от преступлений, защита личности от незаконного и необоснованного обвинения могут быть достижимы только при наличии независимости судей [16, 17]. Именно такая цель преследуется проводимой реформой, тем не менее результаты проведенного К. Д. Титаевым исследования арбитражных судов (которые имеют схожую с предлагаемой реформой систему судов) показали, что «сорасположение в одном регионе суда апелляционной, кассационной и первой инстанций каким-либо значимым образом не влияет на поведение этих судов», однако «меняются технические приемы отстаивания своих интересов - стороны реже приезжают на заседание в апелляцию, когда она географически удалена» [18, с. 12]. Таким образом, на сегодняшний день приоритет публичного начала, формирующий уголовно-процессуальную политику, не позволяет в должной мере ни- приоритета прав личности в сфере уголовного пресле-велировать декларативный характер провозглашенного дования.
Ключевые слова
Конституция РФ,
уголовное судопроизводство,
уголовно-процессуальная политика,
права личности,
публичность,
Constitution of the Russian Federation,
criminal proceedings,
criminal procedure policy,
rights of person,
publicityАвторы
| Смирнова Ирина Георгиевна | Байкальский государственный университет | доцент, доктор юридических наук, заведующая кафедрой уголовного права, криминологии и уголовного процесса Института государства и права | smirnova-ig@mail.ru |
| Казарина Марина Игоревна | Байкальский государственный университет | ассистент кафедры уголовного права, криминологии и уголовного процесса Института государства и права | kazarinami@yandex.ru |
| Гуджабидзе Георгий Автандилович | Байкальский государственный университет | кандидат юридических наук, доцент кафедры уголовного права, криминологии и уголовного процесса Института государства и права | gg@gio.ru |
Всего: 3
Ссылки
Андреева О.И. Соотношение прав и обязанностей государства и личности в правовом государстве и специфика его проявле ния в сфере уголовного судопроизводства (теоретический аспект). Томск : Изд-во Том. ун-та, 2004. 135 с.
Зайцев О.А. Уголовно-процессуальная политика Российской Федерации: содержание и основные направления // Вестник Тверского государственного университета. Право. 2013. № 35. С. 92-99.
Манджян К.Х. Введение в социальную философию : учеб. пособие. М. : Высш. шк. : КД Университет, 1997. 448 с.
СмирноваИ.Г. Социальная ценность российского уголовного судопроизводства : дис.. д-ра юрид. наук. Томск, 2012. 517 с.
КлейменовМ.П., Пронников А.В. Понятие и цели уголовно-правовой политики // Российская юстиция. 2006. № 12. С. 58-59.
По делу о проверке конституционности положений части первой статьи 237 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации в связи с жалобой гражданина республики Узбекистан Б.Т. Гадаева и запросом Курганского областного суда : Постановление Конституционного Суда РФ от 02.07.2013 № 16-П // Вестник Конституционного Суда РФ. 2013. № 6.
По делу о проверке конституционности статьи 405 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации в связи с за просом Курганского областного суда, жалобами Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации, производственно-технического кооператива «Содействие», общества с ограниченной ответственностью «Карелия» и ряда граждан»: Постановление Конституционного Суда РФ от 11.05.2005 г. № 5-П // Вестник Конституционного Суда РФ. 2005. № 4.
Зайцев О.А. Концепция государственной защиты участников уголовного судопроизводства в Российской Федерации // Вест ник Оренбургского государственного университета. 2006. № 3 (53). С. 77-81.
Ершов В.В. Правовое и индивидуальное регулирование общественных отношений. М. : РГУП, 2018. 625 с.
Кириллова Н.П., Смирнова И.Г. Основные скрипты современной уголовно-процессуальной политики // Всероссийский криминологический журнал. 2018. Т. 12, № 1. С. 116-127.
Смолькова И.В., Вилкова Т.Ю., Мазюк Р.В., Насонов С.А., Ничипоренко А.А. Перспективы совершенствования механизма судебной защиты в российском уголовном судопроизводстве: проблемы теории и практики // Всероссийский криминологический журнал. 2018. Т. 12, № 3. С. 387-395.
Смолькова И.В. Соотношение частных и публичных начал в уголовном процессе - методологическая основа определения оснований и пределов вмешательства правоохранительных органов и суда в охраняемые законом тайны // Социально-экономические и правовые проблемы Восточно-Сибирского региона на пороге третьего тысячелетия : материалы науч.-практ. конф. (13-17 мая 1998 г.). Иркутск : Изд-во ИГЭА, 1998. С. 77-79.
Смолькова И.В. Гласность - важнейшее условие судебного разбирательства // Итоги и перспективы развития судебной реформы в Российской Федерации : материалы Всерос. науч.-практ. конф. Иркутск : Вост.-Сиб. ФГБОУВПО «РАП», 2012. С. 9-13.
По жалобам граждан Евдокимова Дениса Викторовича, Мирошникова Максима Эдуардовича и Резанова Артема Сергеевича на нарушение их конституционных прав положениями статьи 333.36 Налогового кодекса Российской Федерации и статьи 89 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации : Определение Конституционного Суда РФ от 13.06.2006 № 272-О // Вестник Конституционного Суда РФ. 2006. № 6.
Рукавишникова А.А. Возможные перспективы развития системы обжалования и проверки судебных решений в уголовном процессе при реализации проекта Федерального конституционного закона «О внесении изменений в федеральные конституционные законы в связи с созданием кассационных судов общей юрисдикции и апелляционных судов общей юрисдикции» // Уголовная юстиция. 2018. № 11. С. 103-107.
Буфетова М.Ш., Катрухина Т.Н. Проблемы защиты прав и законных интересов потерпевшего в уголовном процессе // Уголовно-процессуальные и криминалистические средства обеспечения эффективности уголовного судопроизводства : материалы междунар. науч.-практ. конф. Иркутск, 2014. С. 53-57.
Принципы современного российского уголовного судопроизводства / науч. ред. И.В. Смолькова; отв. ред. Р.В. Мазюк. М. : Юрлитинформ, 2015. 384 с.
Титаев К.Д. Cуды разных инстанций в одном городе: есть ли взаимное влияние? : препринт. СПб. : ИПП при Европейском университете в СПб, 2018. 20 с.
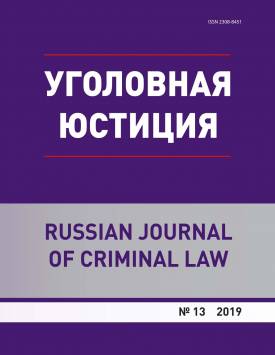

 Вы можете добавить статью
Вы можете добавить статью