На материале художественных текстов писателей XIX–ХХ вв. прослеживается эволю- ция внешнего облика роботов в связи с расширением представлений науки и искусства об их функциональных возможностях и роли в обществе. Актуальность данной темы обуслов- лена значимостью литературного опыта в вопросе осмысления и развития социальной ро- бототехники.
CULTURAL EVOLUTION ROBOT INTERFACE IN FICTION.pdf Для науки литература является не только инструментом популяриза- ции изобретений и открытий, но также дополнительным источником идей и образов, предсказывающих появление или развитие научных направлений и техники. Так, К.Э. Циолковский отмечал влияние на него сочинений «известного фантазера Жюля Верна», пробудившего у иссле- дователя «работу мозга» в космическом направлении [12], а один из ос- новоположников голографии Ю.И. Денисюк подчеркивал, что идею сво- его открытия он почерпнул в рассказе Ивана Ефремова «Тень Минувшего» [11]. Фантастика является своего рода «эстетическим зерка- лом науки» [9], прослеживая весь путь научной мысли от ее возникнове- ния до конкретного воплощения, моделируя воздействие результатов научных опытов на жизнь человека, как позитивных, так и драматиче- ских. Это особенно актуально для робототехники, берущей свое начало в литературе1. Фантасты К. Чапек, А. Азимов, С. Лем [13, 2, 7] и др. в своих произведениях поставили и рассмотрели в художественной форме ряд фундаментальных вопросов робототехники – от способов создания робо- тов, размеров производства и области использования до социально-пси- хологических аспектов взаимоотношения «умных машин» и людей. В этой связи анализ эволюции внешнего облика роботов на материале тек- стов писателей XIX и ХХ вв. представляется вполне обоснованным и не- обходимым для последующего изучения проблемы культурных интер- фейсов в контексте социальной робототехники (см. [5]). В рамках данной статьи планируется проследить развитие и измене- ние образа робота как машины с антропоморфным поведением [10], а также выявить связь его облика с выполняемыми задачам. Ввиду обшир- ности художественного материала в работе будут рассмотрены наиболее хрестоматийные и репрезентативные персонажи научной фантастики XIX и первой половины XX в., представленные в произведениях Э.А.Т. Гофмана, К. Чапека, А. Азимова. Выбор хронологических рамок обусловлен интенсивным развитием науки и техники в робототехниче- ском направлении в этот период. И если понятия робота и робототехники как самостоятельной науки окончательно оформились в ХХ в., то экспе- рименты механики XIX в. в полной мере можно считать этапом ее зарож- дения. Во второй половине XVIII-XIX в. особую популярность приобрели механические куклы – автоматоны. Используемые преимущественно в развлекательных целях, они представляли собой модели людей, имити- руя движение тела, речь и даже дыхание. Их главным отличием от обыч- ных кукол было умение воспроизводить (подобно некоторым современ- ным андройдам) человеческие способности: рисовать, писать, играть на музыкальных инструментах. Вместе с тем заводной автомат вызывал двойственное к нему отношение: как отмечал Ю.М. Лотман, в сопостав- лении с неподвижной куклой – «он менее кукла и более человек», из-за «возросшей натуральности», но в сопоставлении с живым человеком резче выступала его условность и ненатуральность [8]. Такое положение автоматонов на пересечении «древнего мифа об оживающей статуе и новой мифологии мертвой машинной жизни» сде- лало их «воплощенной метафорой слияния человека и машины» [Там же], определив тем самым широкое распространение образа механиче- ской куклы в романтической эстетике. Наиболее яркие примеры пред- ставлены в творчестве Э.А.Т. Гофмана, определившего традицию изоб- ражения искусственного человека в литературе XIX столетия. В новеллах «Автомат» (1814 г.) и «Песочный человек» (1816 г.) описываются совре- менные писателю автоматоны, детально повторяющие облик человека: «фигура, весьма пропорционально сложенная», «лицо, одухотворенное на восточный манер», «высокая, очень стройная девица» [3]. Человеко- подобие кукол, сотворенных людьми, обусловлено здесь не только моти- вом «игры в Бога» их создателей, но и функциональным назначением ав- томатов. В первой новелле деревянный турок и музыкальные куклы профес- сора Х предназначены для увеселения публики. Игровой момент, осно- ванный на чрезмерном сходстве куклы и человека, подчеркивает грань между настоящим и искусственным. Именно искусственная природа ав- томатонов как образца «механического искусства» позволила им в пол- ной мере соответствовать своей функции развлечения, подчас превос- ходя в этом самого человека. Так, один из героев новеллы приводит пример автомата «канатоходца Энслера», который смешит зрителей своим выступлением на канате, там, где выступление обычного человека вызывало ужас [3]. Осознание зрителями «кукольности» канатоходца, его «не-настоящности» делало машину столь привлекательной. В то же время писателя пугала чрезмерная правдоподобность искус- ственных механизмов, позволяющая им заменить человека; пугала сама возможность совместной жизни человека с искусственными созданиями. Как отмечает Г. Гримм, литература позволила вскрыть тайные страхи, которые охватывают людей в присутствии машин, и в первую очередь, проблему идентичности: «если автоматы похожи на людей до такой сте- пени, что их можно перепутать, как может человек распознать своего ви- зави, как он может быть уверен в самом себе?» [1]. Психическое смяте- ние, которое автоматы могут вызвать в человеке, изображено в новелле «Песочный человек». Здесь Гофман впервые «позволил» автомату заме- нить человека в его основной социальной роли – «субъекта общества». Профессор Спаланцани свое изобретение – автомат Олимпию представ- ляет не как механическую куклу, а как дочь, тем самым поднимая статус машины до уровня «человека». По сути опыт Спаланцани напоминает работы современного робото- техника Хироси Исигуро, ставящего перед собой задачу изучения вос- приятия человеком андройдов [6]. В одном из экспериментов робота по- садили в кафе за столик, где тот просидел целый день. Мало кто из посетителей догадался, что перед ними не человек, некоторые к нему даже подсаживались и заводили разговор. Подобная ситуация описыва- ется и в «Песочном человеке». Ввиду анатомической точности Олимпии, ее внешней идеальности, наличия человеческих качеств и умений, уни- верситетское сообщество первоначально принимает автомат как чело- века, не замечая подлога, объясняя ее «странности» «тупоумием» или «принужденностью». В новелле грань между человеком и подобной ему машиной, все бо- лее приобретающей человеческий вид, практически стирается. Главными признаками «нечеловечности» Олимпии становятся не изъяны внешно- сти («Ее можно было бы почесть красавицей» [4]), а особенности поведе- ния (взгляд ее был «безжизненный», пение напоминало «такт поющей машины», движение «подчинено ходу колес заводного механизма» [4]). Автомат не может чувствовать, сопереживать, страдать – у него нет души. Это в первую очередь вещь, механизм, игрушка. Именно наруше- ние баланса между «человекоподобием» и «искусственностью» Олимпии послужило причиной отторжения ее обществом как явления, противоре- чащего духу самой природы. «Нет ничего более чуждого человеку, чем робот» [13], напишет в своей пьесе «Р.У.Р» (1920 г.) чешский писатель и драматург К. Чапек. Роботы Россума, внешне еще более, чем автоматы Гофмана, неотли- чимые от людей, были созданы исключительно для замены человека на производстве. Все, что не отвечало этой цели, в том числе и душа – ис- ключалось из их конструкции. Из робота исключался человек, со всеми своими потребностями (ощущать радость, играть на скрипке, любить по- гулять), что превращало его в рабочую машину. Продолжая линию ис- кусственных людей, заложенную еще античной мифологией и средневе- ковой литературой (золотые служанки Гефеста, Голем), Чапек вновь возвратил им функцию помощника человека, его раба. Раба, интеллекту- ально и технически более совершенного, чем хозяин, но ниже его соци- ально. Такое положение роботов Россума сделало их широко распростра- ненными среди людей, но в то же время стало причиной восстания роботов и гибели человечества в пьесе. Позже, в цикле рассказов о роботах А. Азимов объяснит необходи- мость человекоподобия машин, выполняющих функции людей: «если ма- шина должна выполнять все человеческие действия, – то ей, действи- тельно, лучше придать форму человека. Дело не только в том, что форма человеческого тела приспособлена к окружающей среде – техника, со- зданная человеком, в свою очередь, приспособлена к формам его тела… Иначе говоря, робот, имеющий форму человеческого тела, наилучшим образом «вписывается» в мир, создавший человека, а также в мир, со- зданный человеком. Такая форма способствует его «идеальности» [2]. В художественном мире Азимова люди осознают дистанцию между машиной и человеком, не стремясь сделать их частью общества. Теперь робот – часть быта людей, но его действия ограничены Тремя законами, не позволяющими ему ни при каких условиях причинить вред человеку. Этот робот не раб, а друг и помощник, выполняющий за человека более сложную работу (работа на рудниках, изучение новых планет и т.д.). Раз- нообразие функций определило и внешние особенности человекоподоб- ных машин, уже не столько копирующих людей, сколько уподобляю- щихся им, что также подчеркивало грань между роботами и людьми, позволяющая им сосуществование в одном пространстве. В произведениях Азимова представлена целая галерея «новых робо- тов», чей внешний облик во многом определил современные представле- ния об интерфейсе «умных машин». Общая для всех роботов «начинка»: «механизмы и металл, электричество и позитроны», а главное «разум, во- площенный в железе» [2] – была оформлена в различные «оболочки», учитывающие задачи, которые роботы выполняют, сферу и пространство их использования. Так, например, на спине у старых роботов из рассказа «Хоровод» был специально устроенный горб, на каждом плече – по углублению для ног, чтобы на нем было удобнее сидеть, так как одной из функций этих машин была транспортировка людей. У робота-няни Робби голова, туловище (выполненые в виде «параллелепипедов с закруглен- ными углами») и «металлическая «кожа» (в которой нагревательные эле- менты поддерживали постоянную температуру в 21 градус» [2]) не только уберегали ребенка от случайных травм во время игры, но и слу- жили развлечением (кожа Рабби «была приятной на ощупь, а барабаня пятками по его груди, можно было извлечь восхитительно громкие звуки»). В целом, культурный интерфейс роботов, представленных в литера- туре XIX и ХХ вв., достаточно устойчиво развивается вокруг образа че- ловека. Механистичность искусственного человека, тождественная в ро- мантической эстетике бездушности и безликости, будет восприниматься в литературе как враждебное человеку начало вплоть до ХХ в. Человек продолжает оставаться эталоном, к которому стремятся и от которого от- талкиваются ученые. Но если в XIX в. это всегда была попытка прибли- зиться к человеку, то к середине ХХ в. научная фантастика делает по- пытки «ухода» от его образа, в стремлении создать его вариации, но не эквивалент. В таком антропоцентризме можно видеть проявление двух устойчивых традиций. С одной стороны, архаическое стремление к со- творению себе подобного, наиболее знакомого и как следствие привыч- ного и понятного. С другой – попытку «стать богом». Мотив богоподобия и раскаяния человека за свое деяние проходит практически через все ро- бототехнические сочинения, актуализируя целый комплекс этических во- просов, связанных с процессом и результатом создания искусственного человека. 1. Термин «робот» (чеш.) был впервые был предложен драматургом Карелом Чапеком в пьесе «Р.У.Р.» (1920 г.).
Grimm Giinter. «Elektronische Hirne». Zur literarischen Genese des Androiden // Das Goethezeitportal // Das Goethezeitportal [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.goethezeitportal.de/fileadmin/PDF/db/wiss/epoche/grimm_hirne.pdf (дата обраще- ния: 14.02.2013).
Азимов А. Я робот: сб. рассказов. М., 2005. 1296 с. Гофман Э.Т.А. Автомат // Гофман Э.Т.А. Серапионовы братья. Соч.: в 2 т. Т. 1. С. 266–267.
Гофман Э.Т.А. Песочный человек // Гофман Э.Т.А. Серапионовы братья. Соч.: в 2 т. Т. 1. С. 267–290.
Зильберман Н.Н., Галкин Д.В. Социальная робототехника в контексте гуманитар- ной информатики // Открытое дистанционное образование. 2012. № 2(46). С. 71.
Лекция Хироси Исигуро «Об исследованиях роботов, связанных с человеческой де- ятельностью». Видеозапись. Режим доступа: http://www.hse.ru/video/38591371.html (дата обращения: 14.02.2013).
Лем С. Сказки роботов. М., 2007. 603 с.
Лотман Ю. М. Куклы в системе культуры // Лотман Ю.М. Избр. ст. Таллин, 1992. Т. 1. С. 379.
Парнов Еремей. Фантастика в век НТР. М., 1974. С. 11.
Робот // Толковый словарь Ожегова [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://ozhegov-dictionary.info Словарь_Ожегова/30377/Робот (дата обращения: 14.02.2013).
Федорченко С.Н. Научная фантастика как особый метод прогнозирования буду- щего человеческой цивилизации // Футурологический конгресс: будущее России и мира. Материалы Всероссийской научной конференции (Москва, 4 июня 2010 г.). М., 2010 [Элек- тронный ресурс]. – Режим доступа: http://scipeople.ru/publication/111863/ (дата обращения: 14.02.2013).
Циолковский К.Э. Исследование мировых пространств реактивными приборами. Калуга, 1926. С. 3.
Чапек К. Р.У.Р. М.: Мир, 1966. 568 с.
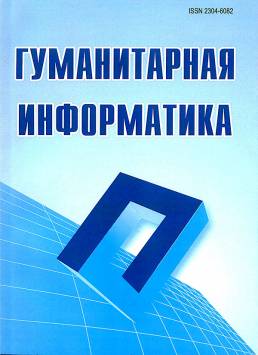
 Вы можете добавить статью
Вы можете добавить статью