Рассматривается интерпретация вопроса об участии Дунайской армии в войне 1812 г. авторами уникального издания, вышедшего из печати в Москве в 1814 г. и включающего в себя почти все написанные в 1812 - начале 1814 г. русские стихотворения об Отечественной войне. Художественно-идеологическое осмысление исторических событий и его участников, представленное в антологии, отличается документальной точностью и вместе с тем осуществляется в русле нациострои-тельства и социальной мифологии. Вводя исследуемый материал в систему многих контекстов, автор статьи приходит к выводу о том, что издание теснее всего связано с идеологическим контекстом, демонстрирующим внедрение в общественное сознание россиянина представлений о русской нации как гражданской, в духе которых и трактуется роль Дунайской армии в Отечественной войне 1812 г. На страницах «Собрания...» последовательно создается коллективный образ мощной и непобедимой российской армии, единой в своем порыве с монархом и народом, на этом фоне выделяются конкретные исторические детали действий Дунайской армии, индивидуальные портреты ее представителей, которые в конечном итоге органично входят в славную историю войны 1812 г. и национальный пантеон героев, отражая черты общей судьбы России и национального характера росса.
The Danube army and the War of 1812 as interpreted by the authors of the Collection of Verses Related to Unforgettable 1.pdf «Собрание стихотворений, относящихся к незабвенному 1812 году», вышедшее из печати в Москве в 1814 г., явилось непосредственным откликом на события Отечественной войны 1812 г., получило известность у его современников, представляя и в наше время значительный историко-литературный интерес, так как это - единственный сборник, содержащий почти все написанные в 1812 - начале 1814 г. русские стихотворения, имеющие отношения к теме Отечественной войны 1812 г. Рассмотрение собранных под одной обложкой поэтических текстов как единого метатекста позволяет создать целостную картину, составленную между тем из многих представленных в творениях авторов начала XIX в. образов и идей, связанных с военными событиями 1812-1814 гг., и одновременно осмыслить отдельные вопросы в контексте целого - в частности, оно дает возможность понять, как и почему именно так представлено в издании место Дунайской армии в истории войны с Наполеоном. Издание было подготовлено к печати князем Н.М. Кугушевым (1777-1825, не ранее октября)1, участником итальянского похода А.В. Суворова, автором одного из первых подражаний «Слову о полку Игореве», а также ряда литературных произведений разных жанров, творческая деятельность которого пришлась на два первых десятилетия XIX в. и который сегодня относится к числу забытых писателей второго ряда2. Составленную им антологию, по справедливому замечанию В.С. Киселева, трудно «причислять к продуманным и тщательно организованным... призванным донести до читателя лучшее и наиболее показательное в отечественной словесности. Для Н.М. Кугушева главным при составлении «Собрания стихотворений» были не чисто эстетические мотивы, которые определяли композицию и отбор в антологиях В.А. Жуковского и, позднее, А.Ф. Воейкова. Поэт-солдат и поэт-патриот желал в первую очередь сохранить в памяти читателя образ «незабвенного 1812 года», еще вполне живой и порождавший множество ассоциаций» (Киселев 2012: 36-37) и, позволим себе продолжить мысль автора, определявший целостность издания. Подчеркнем также, что целостность, а также ценность и значение рассматриваемого памятника культуры и литературы в большой степени определяются важностью и тематической связанностью представляемых в ней исторических событий и их участников, а также формированием их уникального художественно-идеологического осмысления, происходившего, с одной стороны, в духе летописания, осуществляемого с документальной точностью, а с другой - в русле нациостроитель-ства и социальной мифологии. Дунайской армии и ее роли в ходе Отечественной войны 1812 г. в концепции «Собрания.» отводится весьма показательное место. Выстраивая историю политических и военных столкновений России и Франции, предшествующую войне 1812 г., антология не раз обращает читателей к итальянскому и швейцарскому походам Суворова 1799 г. и к более приближенным к 1812 г. событиям. Например, неоднократно, прямо или косвенно, упоминается Тильзитский мир, заключенный в 1807 г. между Александром I и Наполеоном, к которому в России отнеслись как к национальному позору, делающему войну с Францией неизбежной: Неаполь, Рим сбирают легионы, Богемец, венгр, саксон ополчены, И стали в строй изменники сарматы! Им нет числа! Дружины их крылаты! И норд и юг поток сей наводнил! Вождю вослед, а вождь их за звездою, Идут, летят - уж всё под их стопою! Уж росс главу под низкий мир склонил!.. О, замыслы! О, Неба суд ужасной! О, хищный враг!.. (В.А. Жуковский. Князю Смоленскому) (Собрание 1: 83). Но этим договором «царь обеспечил себе свободу действий на севере Европы и на Балканах», «передышку, отвоеванную им для подготовки отпора покорителю Европы, и использовал ее для разрушения антироссийского фронта, создаваемого на западных и южных рубежах России дипломатией не только Франции, но и ее противницы Англии» (Шорников 2012: 12). О русско-шведской войне 1808-1809 гг., закончившейся мирным договором и обеспечением безопасности второй столицы России -Петербурга, читателям напоминают через последовательное введение в произведения знаковых имен: командующего дивизией, а затем корпусом П.И. Багратиона, руководившего Аландской экспедицией 1809 г. (в «Собрании...» ему посвящен ряд стихотворений: «Лирическая песнь при известии о кончине генерала от инфантерии князя Петра Ивановича Багратиона» Н.Ф. Остолопова, «Память князю Багратиону» Н.Д. Иванчина-Писарева, «К портрету князя Петра Ивановича Багратиона» П.И. Шаликова), Я.П. Кульнева, который во время русско-шведской войны 1808-1809 гг. командовал отдельным отрядом корпуса Багратиона и совершил героический переход по льду Ботнического залива, овладев Гриссельгамом (в стихотворении Жуковского «Певец во стане русских воинов» он назван «свирепым пламенем брани», «рушителем сил», «незабвенным героем») и др. В этот ряд встает и Бухарестский мир, положивший конец русско-турецкой войне 1806-1812 г. и обеспечивший вхождение Молдавской (Дунайской) армии, всех ее корпусов и резервов, в состав Российской армии, что также было направлено на «нейтрализацию вероятных противников» (Шорников 2012: 12) России накануне грядущей войны с Наполеоном. События этой войны представлены в «Собрании.», кроме упомянутых выше имен Багратиона, который был главнокомандующим Молдавской армии до марта 1810 г. (армия переименована в Дунайскую в 1812 г.), и Кульнева, в 1810 г. командовавшего авангардом Молдавской армии, рядом образов других военачальников, также ставших в дальнейшем героями Отечественной войны 1812 г., символами ее побед. Среди них - М.И. Кутузов, который в марте 1811 г. был назначен главнокомандующим Молдавской армии и благодаря которому был заключен Бухарестский мир (ратифицированный буквально накануне вторжения наполеоновский войск в Россию). В результате этого договора России и Турции Наполеон потерял союзника в практически уже начавшейся войне с Россией. Образ Кутузова можно считать одним из центральных в антологии, о его заслугах и заслугах руководимой им Молдавской армии в русско-турецкой войне 1811 г., о роли заключения Бухарестского мира пишет С.А. Ширинский-Шихматов в стихотворении «На кончину генерал-фельдмаршала князя Смоленского»: Вижу героя в подвигах ратных: Благом Отчизны дышущ и движим, Благу Отчизны жизнь посвятив, Выше и выше славой взносился. Лавром дунайским, свежим, ветвистым, Блеск заслоняя гордой луны, Орлим полетом с жаждой стремится Гнать от России скопища тигров, Гнать от престола хищника царств (Собрание 2: 147). Неоднократно называется в «Собрании.» имя еще одного героя войны 1812 г. - генерала М.А. Милорадовича, который с 1806 г. являлся командиром 10-й дивизии Молдавской армии, отличился в сражении при Бухаресте, был награжден за это золотой шпагой (Победы Милорадовича в ходе русско-турецкой войны 18061812 гг., в том числе освобождение Бухареста 13 декабря 1806 г., прославляются в «Авангардной песне» Ф.Н. Глинки: Над дунайскими брегами Слава дел его гремит; Где ни встретится с врагами, Вступит в бой, врагов разит. Вязьма, Красный, Ней разбитый3 Будут век греметь у нас; Лавром меч его обвитый Бухарест от бедствий спас (Собрание 1: 184). В ряде стихотворений увековечивается имя героя Отечественной войны 1812 г., генерала от кавалерии Н.Н. Раевского, судьба которого также была связана с Молдавской армией, где он служил во время Русско-турецкой войны 1806-1812 г.: командовал пехотной дивизией армии («Гимн лиро-эпический на прогнание французов из отечества 1812 года, во славу всемогущего бога, великого государя, верного народа, мудрого вождя и храброго воинства российского» Г.Р. Державина, «Певец во стане русских воинов» В.А. Жуковского, «Ода на Новый 1813 год» М. Виноградова, «Ода победам российского воинства» Н.П. Николева и др.). В галерею героев отечества в «Собрании.» встали образы и ряда высших офицеров, чьи судьбы связались с Дунайской армией во время событий 1812-1814 гг. Это - адмирал П.В. Чичагов, назначенный главнокомандующим Дунайской армией, вместо Кутузова, 29 мая 1812 г. (получил бессрочный отпуск по болезни в феврале 1813 г.), генерал-майор М.С. Воронцов, командовавший отдельным летучим отрядом в армии Чичагова, генерал-майор Л.А. Денисьев, отличившийся в сражениях при Бресте и Борисове, генерал от кавалерии А.П. Тормасов - находившаяся под его командованием 3-я армия воевала бок о бок с армией Чичагова, и др. («Певец во стане русских воинов» В.А. Жуковского, «Сражение при Бородине. Эпическая песнь, посвященная храброму российскому воинству» Д.П. Глебова, «Песнь отечеству на победы над французами» В.В. Измайлова). Движение Дунайской армии в период 1812 г. отражено в антологии с большой степенью точности. Например, в стихотворении, открывающем первую часть издания - «Гимн лиро-эпический на прогнание французов из отечества 1812 года во славу всемогущего Бога, великого государя, верного народа, мудрого вождя и храброго воинства российского посвящает Державин», в авторских примечаниях упоминается «реляция от 23 августа» 1812 г., т. е. «Донесение М.И. Голенищева-Кутузова от 23 августа (4 сентября) 1812 г.», в котором Главнокомандующий всеми действующими армиями генерал от инфантерии князь Голенищев-Кутузов из главной квартиры при селе Бородине доносил Его императорскому величеству за 3 дня до Бородинского сражения следующее: «Позиция, в которой я остановился при деревне Бородине в 12 верстах впереди Можайска, одна из наилучших, какую только на плоских местах найти можно. Слабое место сей позиции, которое находится с левого фланга, постараюсь я исправить посредством искусства. Желательно, чтобы неприятель атаковал нас в сей позиции, в таком случае имею я большую надежду к победе, но ежели он найдя мою позицию крепкою, маневрировать будет по дорогам, ведущим к Москве; тогда должен буду идти и стать позади Можайска, где все сии дороги сходятся» (Прибавление 1812; Северная почта 1). В «Донесении М.И. Голенищева-Кутузова от 4 (16) сентября 1812 г.», т. е. уже после Бородинской битвы, Главнокомандующий армиями подробнее раскрывал предусмотренный ранее план отступления от занятой французами Москвы, в котором он рассчитывает на взаимодействие с армией Чичагова, уже выдвинувшейся в северном направлении на соединение с 3-й армией генерала Тормасова (которое произошло 7 (18) сентября в Волынской губернии): «Осмеливаюсь всеподданнейше донести ВАМ, ВСЕМИЛОСТИВЕЙШИЙ ГОСУДАРЬ, что вступление неприятеля в Москву не есть еще покорение России. Напротив того с армиею делаю я движение на Тульской дороге. Сие приведет меня в состояние прикрывать пособия, в обильнейших наших Губерниях заготовляемые. Всякое другое направление пресекло бы мне оные равно и связь с армиями Тормасова и Чичагова. Хотя не отвергаю того, чтобы занятие Столицы не было раною чувствительнейшею, но не колеблясь между сим происшествием и теми событиями, могущими последовать в пользу нашу с сохранением армии, я принимаю теперь в операцию со всеми силами линию, посредством которой начиная с дорог Тульской и Калужской, партиями моими буду пресекать всю линию неприятельскую, растянутую от Смоленска до Москвы, и тем самым отвращая всякое пособие, которое бы неприятельская армия с тылу своего иметь могла, и обратив на себя внимание неприятеля надеюсь принудить его оставить Москву и переменить всю свою операционную линию» (Северная почта 2). Органично вошедшее, наряду с множеством документов и специальных бюллетеней, публиковавшихся в периодике военной поры, в российское информационное пространство «Собрание.», с одной стороны, изображает события войны 1812 г. предельно конкретно, исторически достоверно, чуть ли не документально, а с другой, параллельно, в нем творится миф о войне 1812 г. в целом и об отдельных его событиях и участниках. Появление издания было смоделировано как средство объединения нации и одновременно вызвано объективной, естественной потребностью ответа русской литературы и культуры на грозные вызовы реальности. Оно само строилось по законам национального единства, демонстрируя русскую историю, культуру, литературу как органичный элемент единого национального целого. В этой связи показателен авторский состав издания, красноречиво передающий образ России в ситуации всенародной войны за ее освобождение. В издании опубликованы стихотворения более ста авторов, среди которых представители чуть ли не всех социальных групп России, принимавших или не принимавших непосредственное участие в боевых действиях 1812 г.: московский священник Матфей Аврамов, командир егерского полка Московского ополчения А.В. Аргамаков, можайский дворянин Б.К. Бланк, член ополчения, бригад-майор сычевской дружины С.Н. Глинка, его брат Ф.Н. Глинка, будущий декабрист, П.В. Голенищев-Кутузов, государственный деятель, генерал-адъютант, А. Прожика, житель Харькова, И.А. Кованько, поэт, родом из малороссийских дворян, И.И. Нечаев, воронежский купец, Г. Окулов, учитель Санкт-Петербургской духовной семинарии, писатель, П.И. Шаликов, писатель, из грузинского княжеского рода и мн. др. Кроме того, в «Собрание стихотворений, относящихся к незабвенному 1812 году» вошла и мужская, и женская поэзия. Последняя представлена произведениями широко известных в свое время поэтесс А.П. Буниной, А.А. Волковой. Примечательно и то, что под одной обложкой издания объединились в патриотическом и нациостроительском порыве творчества сторонники классицизма, сентиментализма и зарождающегося в русской литературе романтизма. Так что при всем разнообразии авторского состава «Собрания.», которое может произвести даже впечатление пестроты и отсутствия принципов отбора, в издании постепенно вырастает образ автора с единой целостной позицией по отношению к читателю, изображаемым событиям и их участникам. Его можно охарактеризовать такими чертами, как патриотизм, безусловная вера в победу над врагом и столь же безусловная вера в царя, армию и народ Российской империи. Телеология издания, безусловно, вытекала из историко-культурной ситуации 1812-1814 гг. и в то же время была связана с установкой на то, чтобы влиять на нее в таких важнейших аспектах, как сохранение народного духа, формирование национального сознания, культурное самовоспроизведение в тяжелейших обстоятельствах войны. Показательно в связи с этим осмысление авторами антологии военных событий и их участников в тесной связи с концептом родной земли и ее границ, за сохранение которых бьются не жалея живота своего все россияне, независимо от их национальной принадлежности, социального положения и отношения к той или иной армии, входящей в состав единых вооруженных сил Российской империи. Ни одна из четрыех ее армий в «Собрании.» не выделяется как ведущая, основная, действующая наиболее результативно и т. п. Все военные действия освещаются в рамках идеологической концепции антологии, направленной на нациостроительство и активно использующей в этих целях средства социальной мифологии. Важнейшей концептульной составляющей антологии является также идея добровольного вхождения бурят, калмыков и др. в общество «российский народ», добровольного объединения представителей всех национальностей, проживающих на территории России, для победы над общим врагом. Напомним, что Пруто-Днестровская область вошла в состав России, в соответствии с Бухарестским миром, незадолго до военных действий 1812 г., в надежде освободиться таким образом от турецкого ига и получить возможность осуществить «молдавский проект окончательного устройства национальной судьбы» молдаван (Шорников 2012: 11). Родная земля ассоциируется во всех стихотворениях «Собрания.» с древнейшим культурным понятием «матери», ее судьба затрагивает самые глубины чувства всего населения Российской империи, и ведущим в антологии оказывается мотив сильного потрясения всех россиян фактом оккупации их земли (а одним из ведущих жанров -«чувствования», выносимый в заглавие стихотворения: «Чувствования Россиянки, возбужденные победами Российских войск над бегущим врагом Отечества» А.А. Волковой, «Чувствования русского в Кремле» Д.П. Глебова, «Чувствования верноподданного, возродившиеся по прочтении призывания к защите Отечества, обнародованного в 10 день июля 1812 года» И.И. Ламанского и др.). Понятие «росс» (одно из самых частотных в «Собрании.» - употреблено около 600 раз (включая слова с корнем «росс»; срав.: «русский» употреблено около 150 раз)) интерпретируется как некая общность народов, проживающих на территории России, все они - дети матери-России и отца-монарха. Поведение россиян (россов) диктуется идеей коллективного спасения, общим чувством долга перед Родиной и царем, общей этикой и верой, единым типом отношения к врагу и ведущейся войне и единым настроем на победу: Различно племя, в разны латы Облекшись, росский род Как исполин встает! «Полна нечестья галлов мера, Спасает россов тепла вера» (Г.Р. Державин. Гимн лиро-эпический.) (Собрание 1: 5). Скажи Европе изумленной, Что росс, победой возвышенный, Хранит судьбу ее в руках! (П.И. Голенищев-Кутузов. Ода на истребление врагов и изгнание их из пределов любезного отечества) (Собрание 1: 28). K Нему возопием, о россы! Падут пред нами все колоссы; Бог с нами, коль мы будем с Ним! (М.И. Невзоров. Ода на случай войны с французами 1812 года) (Собрание 1: 34). Примеры можно продолжать. В этом плане показательна и поэтика заглавий вошедших в антологию текстов, в которых подчеркивается идея коллективного чувства, единого патриотического порыва россов - воинов и гражданского населения: «Гимн лиро-эпический, на прогнание французов из отечества 1812 года во славу Всемогущего Бога, Великого Государя, верного народа, мудрого Вождя и храброго воинства российского» Державина, «Ода на истребление врагов и изгнание их из пределов любезного отечества» Голенищева-Кутузова, «Ода на освобождение Москвы» Ламанского, «Ода на бегство Наполеона от Малоярославца чрез Можайск, Гжатск и Вязьму, беспрерывными поражениями его армии сопровождаемое» Кованько, «Глас московского жителя на освобождение России от врагов» Глебова и т. д. Этот миф о многонациональном мирном и воюющем населении России как целостности, корнями своими уходящий в идеи соборности, крестьянской общины, очень многое определяет в содержании и отдельных стихотворений, и издания в целом. Он становится механизмом толкования грозных событий, упорядочивая изображение суровой реальности войны, указывая авторам и читателям на должное: россы сливаются в единую армию, в единое воинство, чтобы защитить отечество. Это было недалеко от исторических фактов: в частности, интересующая нас Молдавская армия, как было сказано выше, благодаря Бухарестскому миру, прославляемому в «Собрании.», вошла в состав вооруженных сил Российской империи и была специально «высвобождена для войны против французов» (Шорников 2012: 17). Звучание рассматриваемого издания в целом и интерпретация его авторами участия той или иной армии в Отечественной войне 1812 г. связаны также с трактовкой понятий своей и чужой земли, их оппозиции, с одной стороны, тоже складывающейся в логике мифологического сознания, а с другой - вытекающей из конкретного, давнего, исторического противостояния «россы» - «галлы». Обратим внимание на то, что главным признаком врага россов является его принадлежность к чужому роду, чужой земле. Столкновение «своего» и «чужого» в форме войны, изображенное в антологии, создает не только образ общего врага (галла), но и систему координат для самоопределения россиян как некой целостности, четкого осознания ими специфики «своего», по сравнению с «чужим», находящимся за границами России. Решение проблемы национальной идентификации неизменно связывается с идеей угрозы размывания и даже уничтожения независимости государства российского, против чего выступают единым фронтом все российские армии: три Западных и Дунайская. Наиболее очевидна эта идея внешнего, «чужого» вызова, на который дает достойный ответ Россия и ее многосоставная, многонациональная армия, в оппозициях Кутузов - Наполеон и Александр I - Наполеон, символизирующих в «Собрании.» модели глобального, сущностного противостояния «Восток - Запад», «сохранение своего на своей земле - экспансия своего на чужие земли»: Цари Европы и народы! Как бурны вы стремились воды, Чтоб поглотить край росса весь (Г.Р. Державин. Гимн лиро-эпический.) (Собрание 1: 13). .россов царь, Подвигнув Север за собою, Разил надменного врага; Что росс злочестие земли Рукою сильной исторгает (Д.И. Хвостов. Освобождение Москвы) (Собрание 2: 2). Необходимость сопротивления вызову, брошенному российскому народу, т. е. необходимость боевых действий всех армий интерпретируется как общероссийское дело и даже предпосылка к ускорению процесса нациострои-тельства, всеобщего объединения, которое в ситуации Отечественной войны приобретает форму единения народов, проживающих на территории России, и народного единения в виде ополчения, о чем написан ряд стихотворений, вошедших в издание («Военная песнь при получении высочайшего манифеста в Нижегородской губернии об ополчении на защиту отечества июля 15 дня 1812 года» Шаликова, «На пожертвование в пользу нового ополчения, учиненное Всеавгустейшею материю государя императора» С. Глинки, «На возвращение ополчения» Хвостова и др.). Причем «собирание» россиян и российской армии в единое целое описывается как процесс, производимый сознательно и сверху, и снизу - властью и рядовыми гражданами. В связи с этим обратимся к еще одной идее, поддерживающей конструкцию «Собрания.» - к идее государственной и государевой военной политики, которая интерпретируется как неразрывно связанная с интересами всего российского народа. Народ, государство, государь, армия понимаются как единое целое, они призваны служить друг другу, защищать друг друга и действовать во благо друг друга: ЦАРЬ россов! ЦАРЬ сердец полсвета! ТЫ наших радостей вина: Не ТЫ ли мудростью совета Прославил наши знамена? Всех благ ТЫ красная денница! (П.И. Голенищев-Кутузов. Ода на истребление врагов и изгнание их из пределов любезного отечества) (Собрание 1: 5). Колико страшен россов гнев: Когда Отечество страдает, То и младенец - духом лев. Чего нам ждать? Мы ополчимся! Допустим ли закон попрать? За веру, за царя сразимся! Долг русских - край родной спасать. (И.И. Ламанский. Чувствования верноподданного, возродившиеся по прочтении призывания к защите отечества, обнародованного в 10 день июля 1812 года) (Собрание 2: 7). и т. д. Попутно отметим и еще один нюанс: антология, мифологизировавшая многие социально-исторические проблемы современности и их решения, по сути, сама является мифом об отношениях политики, в том числе военной, и искусства, литературы, в частности. Поэт, царь и его военная политика, народ и его «чувствования» в рамках издания выступают в завидном единстве взглядов и устремлений. Этот миф, как и другие, о которых шла речь выше, создавал не столько ложные, сколько идеальные представления о должных решениях вечных проблем войны и мира, национальных отношений в многонациональном государстве, государственной власти и общества. В стихотворениях «Собрания.» образы государства и монарха, опирающегося на военную мощь армии и единство с ней, ассоциируются с идеей упорядочивания бытия на всех уровнях даже в трагической ситуации войны. Образ Александра - это образ вождя единой российской армии, ведущей справедливую войну за мир, он - надежный защитник всех народов, проживающих на российской земле, победитель их общего врага, освободитель России и Европы от власти Наполеона и идеологии наполеонизма. Руководимая им российская армия поддерживает распространяемые им ценности, проливает за них кровь. Сражения, проводившиеся в ходе войны всеми армейскими корпусами и дивизиями, а также народным ополчением, велись из любви к Отечеству, за мир, справедливость, сохранение границ родной земли и т. д. - идеология, явно противопоставляемая наполеонизму с его установками на насилие, индивидуализм, экспансию. Ключевой статус в «Собрании.» придается вопросу о роли религии в трагической ситуации войны. Какую бы большую роль в ней не играли народ или отдельные личности, армия в целом или конкретные ее части и воины, в конечном итоге все, что происходит с Россией в 1812-1814 гг. (и во все остальные времена), происходит по воле Бога - такова концепция антологии, вполне соотносящаяся с раннеромантическим пониманием законов и двигателей истории. В сфере христианского чувства находятся представления авторов «Собрания.» о родной земле и ее границах, о россах и их царе, о российской армии, ее действиях и конкретных представителях. Вера понимается как основа единства России (государя, армии, народа, о чем уже говорилось выше), воплощение патриотического духа российского воинства, с благословения Божьего идущего к победе. Этот пафос издания свидетельствует об органичном слиянии идеологии и религии в нациостроительстве начала XIX в., направленном, как уже было отмечено, в сторону превращения многонационального народа в единую гражданскую нацию, поддерживаемую единой российской армией. Уже в начале ХХ в. и по сегодняшний день на этой почве в России возникают сложнейшие проблемы, попытка разрешения которых чаще всего приводила к весьма трагическим последствиям, вплоть до военных столкновений. Не менее мощной нациостроительной силой в «Собрании.» очевидно наделяется история, которая тоже активно мифологизируется. Из поколения в поколения передающиеся имена национальных героев, транслируются в нем, переходя из одного стихотворения в другое. События и герои войны 1812 г. рассматриваются в этом контексте, раскрывая свой мифогенный потенциал в традиционных художественных формах оды, песни, гимна, молитвы, гласа и др. Историко-мифологический пантеон издания, в котором достойное место заняли представители Дунайской армии, включен также в контекст активно и программно используемых в антологии библейских образов (например, образы Давида, Соломона, агнца, Моисея и др.), а также образов античной мифологии и «примеров» или «образцов» из русской и европейской истории (наиболее часто упоминаются имена Аттилы, Герострата, Нерона, Карла XII, Мамая, Батыя, а с другой стороны - Суворова, Петра I, Кутузова, Александра I, Багратиона, Д.М. Пожарского, П.А. Румянцева-Задунайского). В русле такого понимания истории создается и само «Собрание.», переплетающее историческую достоверность с социальной мифологией. Не случайно столь последовательно через всё издание проводится идея непобедимости армии, народа, монархов и военачальников России. В этой связи показательно замалчивание в «Собрании.» сражения при Березине, особенно заметное на фоне общего принципа детального летописания истории войны 1812 г., согласно которому в антологии отражены все значительные сражения 1812-1814 гг. Напомним, что 30 августа (11 сентября) Александр I направил Кутузову план военных действий, согласно которому следовало использовать во благо России вторжение Наполеона в Москву и искоренить оставленные им в тылу корпуса усилиями четырех российских армий, в число которых входила и Дунайская армия. Императором был отдан приказ адмиралу Чичагову выдвинуть Дунайскую армию, шедшую в Россию после заключения Бухарестского мира, к реке Березина, принять под свое командование армию генерала Тормасова и, объединившись также с корпусом генерала П.Х. Витгенштейна, преградить наполеоновским войскам путь к отступлению. Аналогичный приказ был получен Чичаговым и от Кутузова. Уже 9 (21 ноября) корпус генерала К.О. Ламберта, находившегося в авангарде армии Тормасова, прибыл в Борисов для захвата переправы через Березину, а 10 (22 ноября) в Борисов прибыл Чичагов со своим штабом. Однако без поддержки войск Витгенштейна авангард Чичагова был выбит из Борисова корпусом маршала Н. Удино. Дунайская армия отступила за Березину, хотя уверенность в возможности взять в плен Наполеона у Чичагова оставалась. Но Наполеону удалось отвлечь внимание русского командующего на Борисов и организовать 26-27 ноября переправу через Березину, проходившую с боями на обеих берегах реки. Против Чичагова выступил корпус Удино, а потом маршала М. Нея. Шанс уничтожить Наполеона был упущен. Основную вину за это современники возложили на командующего Дунайской армией3, что и объясняет пробел, образовавшийся вокруг сражения при Березине в изображаемой авторами «Собрания.» истории войны 1812 г. В антологии эти события и их участники нашли отражение лишь в упоминании отдельных деталей в стихотворениях С. Глинки «Побег Наполеона Карловича из земли русской. Шутливое стихотворение», «На новую победу российских войск, одержанную под начальством графа Витгенштейна», в «Песни отечеству на победы над французами» Измайлова. Подводя итог, подчеркнем, что «Собрание стихотворений, относящихся к незабвенному 1812 году», по-видимому, имело своей главной миссией идеологическую, которую оно и содержанием, и художественной формой успешно выполнило4. В издании ярко выражается процесс нациостроительства возможностями литературы, характерный для России начала XIX в. и перекликающийся с современностью как в достижениях, так и в проблемах. Поэтому создание и публикацию антологии, ее состав и пафос необходимо рассматривать в системе многих контекстов: исторического, идеологического, историко-философского, историко-культурного, историко-литературного, тесно связанных с проблемами национальной идентичности, в духе которых его авторами интерпретируется и рассмотренная нами роль Дунайской армии в Отечественной войне 1812 г. ПРИМЕЧАНИЯ 1. Имя составителя «Собрания.» установлено А.С. Бодровой на основании документов из Центрального исторического архива Москвы. См.: Бодрова 2012: 159. О датировке работы Кугушева над составлением антологии см.: Айзикова 2013. 2. О Н.М. Кугушеве см.: Кочеткова 1994: 197-198; Кочеткова 1999: 163-165. 3. См., например, басню И.А. Крылова «Щука и Кот». Сегодня эта версия активно пересматривается историками, см.: Мазинг 1991; Постникова 2012; Постникова 2013; Шорников 2012: 18-26 и др. 4. Не случайно «Собрание.» после 1814 г. ни разу не переиздавалось и оказалось практически забытым, несмотря на своё историко-культурное и литературное значение. В настоящее время, при грантовой поддержке РГНФ, коллективом томских филологов (И.А. Айзикова, В.С. Киселев, Н.Е. Никонова) готовится научное издание этого памятника русской словесности, с атрибуцией и точной датировкой почти всех стихотворений, научным комментарием текстов, вводимых в широкий историко-литературный и социокультурный контекст эпохи.
Айзикова 2013 - Айзикова И.А. Историко-литературное значение «Собрания стихотворений, относящихся к незабвенному 1812 году» // Сибирский филологический журнал. 2013. № 1. С. 24-30.
Бодрова 2012 - Бодрова А.С. Кто же был составителем «Собрания стихотворений, относящихся к незабвенному 1812 году»? // Новое литературное обозрение. 2012. № 118 (6). C. 158-167.
Киселев 2012 - Киселев В.С. Идеологический контекст «Собрания стихотворений, относящихся к незабвенному 1812 году» // Текст. Книга. Книгоиздание. 2012. № 1. С. 35-51.
Кочеткова 1994 - Кочеткова Н.Д. Кугушев Николай Михайлович // Русские писатели. 1800-1917. Т. 3: К-М / Гл. ред. П.А. Николаев. М.: Большая Российская энциклопедия, 1994. 593 с.
Кочеткова 1999 - Кочеткова Н.Д. Кугушев Николай Михайлович // Словарь русских писателей XVIII в. Вып. 2: К-П. СПб.: Наука, 1999. 508 с.
Мазинг 1991 - Мазинг Г.Ю. Березина, год 1812-й. Минск: Полымя, 1991. 125 с.
Постникова 2013 - Постникова Е.А. Великая армия Наполеона на Березине: событие - память: автореф. дис.. канд. ист. наук. Екатеринбург, 2013. 22 с.
Прибавление 1812 - Прибавление к «Санкт-Петербургским ведомостям». 1812. № 70 (от 30 августа).
Северная почта 1 - Северная почта. 1812. № 70 (от 31 августа).
Северная почта 2 - Северная почта. 1812. №75 (от 18 сентября).
Собрание 1 - Собрание стихотворений, относящихся к незабвенному 1812 году: В 2 ч. Ч. 1. М.: Университетская типография, 1814.
Собрание 2 - Собрание стихотворений, относящихся к незабвенному 1812 году: В 2 ч. Ч. 2. М.: Университетская типография, 1814.
Шорников 2012 - Шорников П. Бухарестский мир и участие Дунайской армии в Отечественной войне 1812 года // Русин. 2012. № 4 (30). С. 11-28.
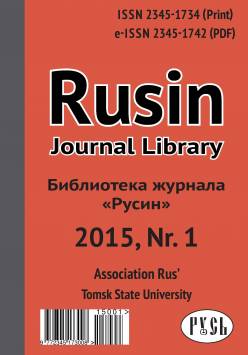
 Вы можете добавить статью
Вы можете добавить статью