Технологическая угроза и риск бытия
Ставится проблема влияния технологического прогресса на способ существования человека. Контекст исследования задается критическим анализом концепта риска. Показано, что риск является ключевым фактором человеческого бытия, поскольку человек действует свободно и ответственно. Снижение уровня риска (безопасность) напрямую коррелирует с редукцией существования к сумме исчислимых данных. Именно такой тренд ведет к «господству техники над человеком» и к отказу от свободы / ответственности в пользу «умных» технологий.
Technological Threat and Risk of Being.pdf Введение в тему Философия как рефлексивная сфера культуры традиционно служит цели самоопределения человека в его сути и обстоятельствах. Это область осмысления экзистенциальных вызовов и формулировки ответов на них. Перманентное удержание в фокусе внимания всего того, что происходит с человеком (человечеством), помогает артикулировать возникающие проблемы, обнаруживать их предпосылки и намечать пути их решения. Именно на почве философии должен быть выработан ответ и на новейший цивилизационный вызов: технологический прорыв, который совершается под знаменем служения интересам человечества, но, по мнению многих, угрожает самому существованию человека1. Серьезнейшей философской проблемой сегодня становится традиционная для философии «проблема самоопределения человека», поставленная, тем не менее, совершенно по-новому -сквозь призму взаимоотношения человека с им же самим созданной техносферой [2. С. 72]. Новизна ситуации заключается в том, что именно на нынешнем этапе научно-технического прогресса техника (механизм) окончательно «достраивается» в технологию (программу), а ведущей характеристикой последней утверждается ее качество, обозначаемое специфическим маркером «smart». Техника/технология как будто перестает быть просто инструментом и начинает конкурировать с человеком на поле его собственных способностей. В результате мы можем констатировать определенную смысловую амбивалентность: с одной стороны, «на смарт-технологии возлагают большие задачи, полагая, что с их помощью можно кардинально что-то улучшить в жизни общества»; с другой стороны, «люди не доверяют смарт-технологиям, поскольку их “умность” связана с отношением к такому качеству человека, как “ум”» [3. С. 39]. Иначе говоря, аксиологическое отношение к «умным технологиям» колеблется в диапазоне от спасительного средства Пока мы не вникнем мыслью в то, что есть, мы никогда не сможем принадлежать тому, что будет. Мартин Хайдеггер. Поворот решения всех проблем до покушения на человека с его собственно человеческими прерогативами. Философско-антропологический анализ процесса индустриального развития в своих радикальных версиях приводит к интерпретации технологических достижений как форм деструкции человека. Специфика смарт-технологий, к примеру, усматривается в том, что они «глубоко интегрируются в индивидуальные, социальные, культурные пространства человека, меняя характер его восприятия мира, коммуникации с ним, а также ценностные приоритеты» [3. С. 33]. Поскольку же такого рода проникновения связываются с самим образом жизни человека, постольку тема последствий технологического прогресса приобретает особую «экзистенциальную остроту» [4. С. 5]. Так называемые умные технологии2, внедряясь в повседневность и начиная определять ее, «сдвигают привычную рамку идентичности человека, меняют антропологическую норму» [2. С. 75]. Трансформации, связанные с развитием и внедрением смарт-технологий, настолько существенны, что они «кардинально влияют на характер сознания, познания и поведения», а также на институты образования, здравоохранения и безопасности [3. С. 33]. Степень такого влияния оценивается по-разному, вплоть до утверждения тенденции ухода человека с исторической сцены. Названный «тренд ухода» формулируется исходя из того, что внедрение «умных гаджетов» провоцирует развитие общей пассивности человека, который «все чаще предпочитает уйти из активной позиции непосредственного участника жизни, передав базовые работы и функции умной машине», устройству, программе, алгоритму и «искусственному интеллекту», что в целом можно назвать «феноменом жизненного аутсорсинга». Это равносильно «выводу человека из позиции субъекта и активного агента в позицию пользователя и потребителя» [2. С. 70-71]. Оценка достоверности и обоснованности такого прогноза требует, прежде всего, утвердить современные технологии в статусе предмета философского осмысления. При этом задача такого осмысления требует делать акцент на философско-антропологических и аксиологических подходах, что позволит, в первую очередь, интерпретировать параметр smart в качестве гетерогенного для самой технологии (ср.: [3. С. 42]), т.е. имеющего не столько техническое, сколько социокультурное происхождение. Поскольку же целевая установка развития смарт-технологий связана «не просто с человеком, а с фактически достигнутыми способами его замены во многих сферах и ситуациях», постольку именно ценностные аспекты этого развития и аксиологические основания его концептуального анализа крайне важны [3. С. 40] и, более того, необходимы для выработки релевантного отношения человека к современному технологическому прогрессу. Таким образом, проблема «умных» технологий в своей актуальности и сугубой значимости в плане влияния на само существование человека должна формулироваться и решаться в контексте философско-антропологического (аксиологического) знания. Это основа, фундамент любой гуманитарной экспертизы, в чем бы конкретно она ни заключалась и какой бы стороне проблемы она ни была посвящена. Задача же такой экспертизы может быть определена как «формирование общих ценностных (культурных) и социальных оснований, гармонизирующих взаимодействие технологической и нетехнологической составляющих для облегчения решения стоящих перед человеком и обществом проблем» [3. С. 41-42]. Выяснение того, насколько смарт-технологии противоречат человеческому существованию как таковому и насколько, следовательно, они опасны, а также с чем конкретно связаны основные риски технологического прогресса, - очевидные вопросы, стоящие сегодня перед философией, и прежде всего - перед философией человека. Как возникает тема риска Развитие технологий, приводящее к «замещению» и / или «вытеснению» человека, по-новому высвечивает общую проблему техники как антропологической угрозы. Речь идет не о том, что техническое устройство как таковое физически угрожает человеку (хотя, конечно, огромное количество людей уже погибло и пострадало от тех или иных механизмов). Более того, прогресс техники обнаруживается как раз в том, что технические устройства становятся не только все более сложными, но и все более безопасными для человека. Нет, речь идет об угрозе экзистенциального порядка, т. е. об опасности, ожидающей человека (человечество как разумную форму жизни) на пути осуществления самой его способности быть собой. Проблема ставится в том ключе, что техника/технология способна полностью вытеснить человека из истории мира. «Исследуя антропологические тренды, - пишет, к примеру, С. С. Хоружий, - мы обнаруживаем, что ведущие, наиболее активные из них радикальны и рискованны, несут в себе высокую степень неопределенности и опасности, а то и прямо направляются к исчезновению Человека. Это характерная и существенная черта современной ситуации» [5. С. 135]. Мы должны спросить, так ли это, а если так, то насколько велика угроза? Прежде всего, вести речь о технике/технологии в категориях угрозы и особенно риска следует более осмотрительно. На первый взгляд, бесспорным кажется тезис С. С. Хоружего о том, что риск «становится ведущей, ключевой чертой существования современного общества, и это одно из самых кардинальных отличий нашего времени от “досовременности”» [5. С. 136]. Однако тот же Хоружий утверждает: «Где есть свобода человека - там есть и его риск! Где есть ответственность человека, там есть и его риск!» [5. С. 137]. Иначе говоря, пока человек существует как свободное и, следовательно, ответственное существо, до тех пор риск неизменно является отличительной особенностью его существования. Свобода и есть риск, связанный с неопределенностью результатов поступка и одновременно готовностью нести персональное возмездие за эти неопределенные результаты [6. P. 157]. Но тогда ясно, что именно снижение уровня свободы/ответственности, т. е. тренд на деперсонализацию, снижает и уровень риска. А это и есть главный мотив «современной» цивилизации. Таким образом, сегодня уровень риска не нарастает, а понижается; и именно в понижении, а не в повышении уровня риска и заключается ведущий тренд «современности». Вот этот-то тренд и представляет угрозу полноте человеческого бытия. Современное общество в своей ведущей тенденции планомерно превращается из «общества риска» (ср.: [7. С. 80]) в общество безопасности. Самому понятию общества риска уже более чем полвека, и оно давно перестало отвечать господствующему характеру эпохи. И если в 1960-х гг. Ульрих Бек справедливо применял этот концепт для фиксации сути происходящего в его время (экологические катастрофы, ядер-ная гонка, тотальное идеологическое противостояние) [5. С. 137], то теперь господствующий вектор - на нейтрализацию любых рисков, в том числе и перечисленных опасностей. Условно говоря, поверх угрожающих факторов складывается глобальная система их нейтрализации [8. P. 260]. От азартной игры на «горячих» площадках человечество учится переходить к анализу, прогнозу и предупреждению негативных последствий таких игр. Современное постиндустриальное общество (как в свое время общество с плановой экономикой) ориентируется на «модель управления с высоким избеганием неопределенности», т. е. с установкой на минимизацию риска; в такой парадигме задача и субъекта, и общества состоит в том, чтобы выбрать решение, при реализации которого риск неудачи был бы сведен к минимуму [9. С. 37-38]. Общество не стало безопасным, угрозы никуда не исчезли (и список их продолжает расширяться), однако обозначился и аксиологически укрепился общий идеологический и прагматический акцент на всемерную элиминацию опасного. Но, может быть, риск надо связывать не с опасностью самого существования, а с тенденцией нарастания его динамики и, следовательно, все большей ориентацией человеческого сознания на будущее? Ведь будущее, которое «всегда открыто и неопределенно» [7. С. 80], невозможно детально предсказать, а значит, чем больше мы ориентируемся в своей мысли и деятельности на это неизвестное будущее, тем выше риск непредсказуемых эффектов, в том числе негативных. «Риск относится к будущему, он характеризует наши будущие действия, перспективы и возможности; а современное сознание, в сравнении с “досовремен-ным”, чрезвычайно усиливает свою ориентацию на будущее, обращенность и направленность к будущему» [5. С. 137]. Действительно, на уровне массовой риторики, связанной с перспективами развития общества, будущее занимает все большее место; но соответствует ли эта риторика реальному положению дел? С одной стороны, сегодня человек располагает не будущим, а лишь его образом; последний же неизбежно конструируется в соответствии с преобладающими тенденциями современности, невольно «подгоняется» под ныне господствующие тренды и моды. С другой стороны, разве в эпоху так называемой досовременно-сти человеческое сознание не было футурологическим? Разве религиозное (к примеру, средневековое) сознание не живет целиком и полностью будущим, не устремлено исключительно в будущее? Безусловно, в этом смысле «досовременное» сознание гораздо более связано с риском, чем так называемое современное. И поэтому нынешнее, пребывающее в современности, секуляризованное сознание значительно меньше связано с риском, чем, скажем, традиционное религиозное. Как видим, ни наличие глобальных угроз, связанных с научно-техническим прогрессом, ни популярная футурологическая риторика, формирующая прагматический дискурс в сфере технологических практик, не могут выступать в качестве аргументов в пользу тезиса о нарастании риска как ведущем тренде современности. Очевидно, что общая ситуация развивается как раз в сторону снижения рисков. Все более последовательно и открыто утверждается стратегическая ставка на предсказуемость. Расцвет бюрократии и превалирование бюрократических сценариев деятельности наиболее ярко выражают названный цивилизационный тренд. Целенаправленное снижение уровня рисков, между тем, наиболее эффективно и быстро обеспечивается не столько за счет повышения степени технологической безопасности, сколько за счет сужения веера возможностей. Чем уже набор возможных путей развития ситуации, тем легче обеспечить безопасность этого развития (особенно если заранее выбраны априорно наименее угрожающие варианты). Отсюда возникает и укрепляется технологически обоснованная необходимость редукции человеческих возможностей к ограниченному набору потенций. Действительно, ограничение поля действий ведет к снижению рисков. Но при этом человек (человечество) в перспективе развития данного тренда как будто рискует потерять себя, перестать быть собой. В чем конкретно состоит эта опасность? Развитие технологий как систем, «облегчающих жизнь», в целом мотивировано установкой на снижение степени риска. Но именно человеческое бытие отличается неопределенностью, вариативностью, открытостью. Следовательно, развитие технологий мотивировано, в конечном счете, стремлением к отказу от специфики собственно человеческого бытия. Опасность, таким образом, заключается не в технологиях как таковых, а в фундаментальной онтологической установке, лежащей в их основе. Элиминация неопределенности, вариативности, риска, стремление к заранее рассчитанной безопасности противоречат отличительной сути собственно человеческого бытия. И наконец, формулируя конечную цель (тг/.ос) развития техники/технологии как комплекса систем, обеспечивающих «облегчение жизни»3, мы должны признать, что та финальная точка, в которую формально направлен вектор «прогресса», - это человек, который ничем не рискует, который максимально обеспечен в плане безопасности и, следовательно, это всегда равное себе существо без перспективы. Цель развития технологий, как видим, - человек, редуцированный к наличному. Человек есть свободно рискующее существо, чье существование - всегда неопределенность, вариативность, а следовательно, его собственная возможность. К числу этих возможностей относится и перспектива собственной редукции, как, впрочем, и перспектива ее преодоления. Человек должен уметь пройти этап такого упрощения существования, если уж он случился, если уж эта возможность реализовалась. Именно должен, но не обязательно пройдет. Риск элиминации риска сохраняет неопределенность человеческого будущего и необязательность наступления посттехнологического уклада, в котором человек попытался бы вернуть себе тот онтологический статус, который он совершенно свободно утратил в погоне за призраком безопасности. Итак, (1) в современном мире риск не нарастает, а снижается; (2) человеческое существование становится все менее рискованным, а следовательно, все более редуцированным, ущербным; (3) редуцирование человеческого бытия и есть подлинная суть технического / технологического прогресса. Как проясняется понятие риска Человеческое бытие, согласно персоналистиче-скому пониманию человека, - всегда риск; точно так же и те формы, в которых реализуется личное существование, неизбежно связаны с риском. Вопросы, требующие прояснения в свете современной антропологии личности, состоят в следующем: что мы имеем в виду, когда говорим о риске и рискованности в сфере развития технологий? Чем мы здесь рискуем и в какой степени? Риск, по определению Хоружего, - это «потенциальная возможность осуществления некоторой опасности, возможность некоторого дурного события или нежелательного положения вещей» [5. С. 136]. Однако это, скорее, описание не риска, а угрожающей неопределенности: риск связан с действием и вариативностью его результатов, которые могут оказаться негативными и даже разрушительными для действующего, имеющего в виду такую перспективу. А вот неопределенность, заключающую в себе возможную угрозу, как раз и можно было бы определить как «вероятность наступления нежелательного исхода в развитии ситуации» [9. С. 31] безотносительно к решениям и действиям человека. Аффект страха перед грозящей опасностью квалифицируется Спинозой в этом же ключе: «Страх есть непостоянная печаль, происходящая из идеи будущей или прошедшей вещи, относительно которой мы до некоторой степени сомневаемся» [10. С. 193]. Описывая последствия развития технологий в категориях опасности и угрозы, мы тем самым оказываемся на позиции детерминизма и развиваем дискурс фатальности, заранее склоняясь к тому, чтобы в конечном счете признать и эти последствия, и сам ход дела чем-то неизбежным, чем-то случившимся с человеком помимо его воли. Переводя разговор в контекст, задаваемый понятием риска, мы получаем возможность занять активную позицию по отношению к проблеме - позицию субъекта, принимающего решения. Концепт риска уместен только в антропологическом дискурсе, в то время как понятие опасности, связанной с неопределенностью развития событий, вполне может применяться и в чисто натуралистическом рассуждении (см.: [7. С. 81-82]). Специфической формой поведения человека является «вменяемое, сознательно программируемое действие (или бездействие)», предполагающее «выработку некоего предварительного плана развития событий и участия в них» [11. С. 336]. Риск - это не просто столкновение с угрожающими обстоятельствами жизни, но ясный признак сознательного, личного выбора [9. С. 38]. Рискующий человек не претерпевает происходящее с ним, но является и участником, и причиной всего этого происходящего. Риск связан с принятием решения и поэтому всегда имеет отношение к так или иначе поступающему субъекту, который не только осуществляет выбор цели и способа действия, но и оценивает вероятность возможных следствий своего решения и связанные с ними потери, «хотя возможный результат в точности ему не известен» [7. С. 85]. Принимая решение, человек осуществляет выбор будущего, «фактически определяя свою судьбу»; он, по словам Г.Л. Тульчинского, «не подчиняется неизбежности обстоятельств, а вырабатывает сознательное решение, т.е. отчетливо представляет себе цели своих действий, их ожидаемый результат и возможные последствия» [11. С. 19]. Таким образом, если мы ведем речь об угрожающей человеку неопределенности развития событий, то мы еще не имеем его в виду в качестве свободного и ответственного существа. И лишь оперируя концептом риска как «измеримой неопределенности» [9. С. 32] и тем самым вписывая вопрос о возможных угрозах в контекст принятия решений о самом себе, мы оказываемся на почве антропологии. Необходимо уточнить, что неопределенность как таковая предполагает вовсе не одну только опасность, поскольку она подразумевает как неблагоприятный, так и благоприятный исход дела [7. С. 85]. Точно так же и риск имеет отношение не только к вероятности негативных последствий, хотя в речи и мышлении его чаще всего связывают именно с возможной неудачей или потерей; для полноты и точности понимания риска необходимо учитывать и то, что он, помимо прочего, есть «деятельность, совершаемая в надежде на успех» [9. С. 32]. У того же Спинозы мы обнаруживаем констатацию этой глубинной и неизбежной связи между надеждой на лучшее и страхом перед худшим. «Надежда, - пишет Спиноза, - есть непостоянная радость, происходящая из идеи вещи будущей или прошедшей, относительно исхода которой мы до некоторой степени сомневаемся» [10. С. 192]. Страх и надежду связывает то, что они возможны только в ситуации неопределенности. Более того, в свете такой непредсказуемости будущего они выступают как две стороны одной и той же аффективной позиции: «Из этих определений следует, что нет надежды без страха и страха без надежды». Пока человек надеется, он «боится, что вещь не случится»; и, наоборот, он до тех пор находится в страхе, пока он «имеет надежду» на то, что угроза не осуществится [10. С. 193]. Если же в чувстве страха исчезает момент надежды, страх превращается в отчаяние, парализующее всякую деятельность. А вот если из надежды удалить страх, основанный на сомнении в благоприятном исходе дела, она превращается в безопасность, т.е. в «радость, происходящую из идеи будущей или прошедшей вещи, относительно которой устранена причина сомнения» [10. С. 193]. Как видим, уже Спинозе ясно, что для достижения безопасности требуется элиминация неопределенности. Диспозиция надежды/страха, лишившись момента неопределенности, трансформируется в диспозицию уверенной безопасности, то есть полного отсутствия риска. И если отчаяние влечет остановку всякой активности, то безопасность - имитацию деятельности. Человек в своей экзистенциальной специфике есть деятельное, действующее, а следовательно, и рискующее существо. Собственно человеческим типом активности является поступок как «произвольное действие», предпринятое «на основе нашего свободного решения, свободного волеизъявления» [11. С. 18]. Одним из ключевых признаков свободного акта представляется как раз неопределенность (или нестрогая определенность) результатов этого акта. Обычно неопределенность понимается как «недостаточность сведений», как «полное или частичное отсутствие информации». Неявной предпосылкой (пресуппозицией) такого понимания неопределенности является уверенность в том, что в случае наличия у человека полноты информации о реальности можно было бы ею управлять, и только наше незнание о законах мироздания мешает нам это сделать. Кроме ни на чем не основанной уверенности в конечности числа таких законов недостатком названной установки является отказ от предположения о наличии «объективной неопределенности», проистекающий, в свою очередь, из предпосылки универсального детерминизма [7. С. 81]. Поскольку же «объективная неопределенность и случайность» является одной из базовых характеристики сущего [7. С. 82], постольку человек никогда не может располагать точным знанием о последствиях своих актов, и, следовательно, любое человеческое действие совершается в контексте неопределенности, т.е. является рискованным. Как видим, действие человека, основанное на его сознательном решении, всегда объективно сопряжено с риском - в силу неустранимого признака неопределенности самой реальности, в которой действует человек. Однако важно не упускать из виду и неопределенность самого действующего. Принятие решения производится субъектом, который «не только осуществляет выбор, но и оценивает вероятности возможных событий и связанные с ними потери», а значит, ситуация риска складывается из двух взаимосвязанных аспектов: объективного, отражающего «неопределенность в среде деятельности субъекта», и субъективного, характеризующего «степень готовности субъекта принимать решения с учетом вида и динамики этой неопределенности» [9. С. 37]. Иначе говоря, способ принятия решения в ситуации объективной неопределенности в каждом конкретном случае зависит от состояния, расположения и мотивации субъекта, принимающего это решение. Если это действительно решение, связанное с существованием, а не тривиальная алгоритмическая операция, то от субъекта требуется формулировка цели и определение способа действия, направленного на ее достижение, а также прояснение альтернатив, ресурсов, критериев и эффектов поступка. Является ли эта процедура чисто рациональной? Определенно, нет. «Поведение людей определяется их ценностями, потребностями, мировоззрением, волей, установками и другими факторами» [7. С. 83-84], а значит, и «задача оценки субъектом возможных потерь в ситуации риска весьма непроста, поскольку детерминируется культурой, ценностными предпочтениями личности и даже политическим контекстом» [9. С. 37]. Поскольку всякий субъект определяется в своей идентичности той системой ценностей, которую он разделяет, постольку «его поведение в условиях риска определяется именно этой системой, а не одинаковыми для всех логикометодологическими стандартами» [7. С. 88]. Принятие решения - это волевой акт, опирающийся на «знания, интересы, мировоззрение человека» [9. С. 38]. Иначе говоря, приходится признать, что ситуацию риска (т. е. человеческой активности в условиях неопределенности) невозможно регулировать с помощью чисто рациональных методов, поскольку личное решение - это не просто мыслительный процесс, но экзистенциальное действие идентичного субъекта. В свете такого понимания риска как ключевой характеристики человеческого способа действия можно утверждать, что, с одной стороны, «нельзя рационально принимать то или иное решение, пока риск не оценен» [9. С. 36], пока рационально не учтены аль-4 тернативы, угрозы и последствия этого решения , но, с другой стороны, сильнейшее влияние на принятие решения (и, следовательно, степень риска) оказывают вне-рациональные факторы, имеющие для субъекта не меньшую степень значимости. Поэтому-то выглядит весьма привлекательной и эвристически сильной позиция, согласно которой в сфере интерпретации поступка «трактовка логики как науки о получении истинных следствий из истинных посылок должна уступить место более широкой концепции, связанной с введением для практических рассуждений специальных аналогов истинности (и, соответственно, ложности) как соответствия, например, идеалам добра, целям субъекта» [11. С. 340], а также базовым ценностям мировоззрения. Итак, поскольку рискованное действие всегда совершается в ситуации неопределенности (рациональной неисчислимости вероятностей), а решение о действии в этой ситуации принимается субъектом на основе собственного аналитически-прогностического ресурса (важнейшей составляющей которого являются ценностно-мировоззренческие установки и соответствующий им личный опыт), постольку риск, связанный с последствиями личной активности, никогда не может быть полностью определен, исчислен и спрогнозирован. Рациональный расчет как форма элиминации неопределенности (достижения безопасности) невозможен именно в силу того, что принимаемое человеком решение, лежащее в основе его активности, никогда не может быть чисто рациональным. Следовательно, представление о возможности достижения безопасности путем рационального учета негативных последствий человеческой активности может сложиться лишь на почве непонимания реальных процессов, составляющих личное существование. Лишь в искаженном, фантастическом, редуцированном, нечеловеческом мире достижим эффект преодоления риска, поскольку именно в таком мире возможен конечный анализ рационально организованного действия в тотально детерминированной среде. Риск и опасность. Мартин Хайдеггер Тема риска, как уже ясно, - вполне философская тема. К примеру, для Хайдеггера, по мнению С.С. Хоружего, характерно рассмотрение проблемы риска «в ее онтологической постановке» [5. С. 140], хотя, по признанию самого Хоружего, в философии Хайдеггера «не представлено отдельной самостоятельной концепции риска», и ее приходится реконструировать [5. С. 139]. Научил ли нас чему-нибудь Мартин Хайдеггер в этой области? Посмотрим. Тема риска (точнее, грозящей человеку опасности) возникает у Хайдеггера в связи с изучением феномена техники и наиболее последовательно изложена в работе «Вопрос о технике» (Die Frage nach der Technik). Это доклад Хайдеггера 18 ноября 1953 г. в Мюнхене, представляющий собой развернутую редакцию доклада «Постав», прочитанного им в 1949 г. в Бремене. Техника здесь характеризуется и оценивается через ключевой концепт Gestell (в переводе В. В. Бибихина, «постав»), указывающий на технику как на то, что имеется в распоряжении [5. С. 140]. С помощью названного концепта Хайдеггер стремится показать специфическое отличие техники Нового времени от техники в ее изначальном значении: ныне это уже не Texvn и не noii]Gic. т.е. не художественное произведение, не творческий вывод неявного в явное, а полная редукция реальности к наличному. Такая концептуальная рамка позволяет поставить вопрос о влиянии технического прогресса не просто на состояние или самочувствие человека, а на сам способ его существования. При этом техника понимается Хайдеггером не в узком «инструментальном» смысле, а с точки зрения человеческого существования в целом - как одна из форм проявления собственно человеческого способа быть. Исходная диспозиция Хайдеггера такова. Термин «техника» восходит к древнегреческому тг'/vi']- что является обозначением «не только ремесленного мастерства, но также высокого искусства и изящных художеств» [12. С. 225]. Результат (или продукт) такого искусства - произведение, das Her-vor-bringen (Хайдеггер буквально понимает это как выведение из скрытости в открытость, выявление). Раньше, говорит философ, не только техника в современном значении слова носила название Texvn. «Когда-то словом Texvn называлось и то раскрытие потаенного, которое выводит истину к сиянию явленности (jenes Entbergen, das die Wahrheit in den Glanz des Scheinenden hervorbringt)» [12. С. 237]. Вот это-то «про-из-ведение истины в красоту (das Hervorbringen des Wahren in das Schone)» и именовалось словом Texvn; кроме того, этим словом обозначался «и noii']Gic изящных искусств (die noii]cic der schonen Kunste)» [12. С. 237]. Поэтому, говорит Хайдеггер, техника -это «вид раскрытия потаенности» [12. С. 225], точнее, просто «способ раскрытия», eine Weise des Entbergens. Но если это только один из многих видов «раскрытия», то суть этого частного вида (способа) может быть прояснена только при ответе на вопрос, в чем состоит суть «раскрытия» (das Entbergen) в целом, в общем. А «раскрытие» в целом есть кратчайший способ определения фундаментальной специфики человеческого бытия. Иначе говоря, понять роль техники в нашей жизни мы можем только в контексте понимания самого способа бытия человека. Таким образом, вопрос о следствиях технического прогресса может и должен быть сформулирован в онтологическом - следовательно, антропологическом - ключе. Если мы понимаем технику (технологию) как частный случай общего способа представленности сущего в человеческом существовании, то мы можем выявить эффекты и следствия ее влияния на человека лишь из анализа ее сути. Пл Хайдеггеру, «сущность» техники не обнаруживается в ней как таковой; эта «сущность» (das Wesen) не есть «что-то техническое» [12. С. 221]. Подлинное содержание вопроса о технике проясняется лишь тогда, когда мы рассматриваем технику в контексте бытия, точнее, специально человеческого бытия. Последнее же всегда организовано в нормативном смысле (см.: [13. С. 11-25]), т.е. ценностным образом ориентировано. Потеря онтологической (бытийно-антропо-логической) перспективы делает невозможным понимание сути техники и, более того, делает человека зависимым от нее, подчиняет ей. «В самом злом плену у техники, - утверждает Хайдеггер, - мы оказываемся тогда, когда усматриваем в ней что-то нейтральное; такое представление, в наши дни особенно распространенное, делает нас совершенно слепыми к ее существу» [12. С. 221]. Итак, суть техники открывается в перспективе ее нормативно-онтологического рассмотрения. Сама по себе техника, на первый взгляд, - это «средство для достижения целей» [12. С. 222]; таково инструментальное отношение к технике. Названное отношение, тем не менее, содержит в себе определенную нормативную установку: оно выражает стремление «поставить человека в должное отношение к технике», что значит «надлежащим образом управлять техникой как средством» [12. С. 222]. Но верно ли инструментальное понимание техники и, следовательно, достижима ли цель, которая ставится из ее чисто инструментального понимания? Не с этой ли ошибкой связана угроза такого положения дел, когда «техника все больше грозит вырваться из-под власти человека» [12. С. 222], когда она угрожает ему? Понимание техники в инструментальном ключе является безусловно верным, но не несет в себе полноты постижения, т. е. не является истинным, не раскрывает феномен техники в его «существе». Просто верное - это еще не истинное; верное определение техники как инструментального феномена «еще не раскрывает нам ее сущности». Чтобы добраться до сути техники, «мы должны, пробиваясь сквозь верное, искать истинного»; лишь найденная истина «впервые позволяет нам вступить в свободное отношение к тому, что задевает нас самим своим существом» [12. С. 222]. Другими словами, сама инструментальность техники, будучи эмпирически бесспорной, нуждается в онтологическом прояснении, как все эмпирическое. Пока мы не выясним истину техники, все ее определения, являясь относительно верными, «останутся темными и необоснованными» [12. С. 223], а взаимные отношения техники и человека не получат адекватного истолкования. Как можно прояснить инструментальное отношение к технике? Инструмент есть средство достижения цели и, следовательно, он относится к сфере причин и следствий. Причина, если идти от античного смысла arna, есть способ выведения (произведения) вещи из потаенного в непотаенное, из небытия в бытие [12. С. 222-224]. Реальность же как «открытость потаенного» есть a/-f]0eia. истина. «Итак, техника не простое средство. Техника - вид раскрытия потаенности (eine Weise des Entbergens). Если мы будем иметь это в виду, то в существе техники нам откроется совсем другая область. Это - область выведения из потаенности, осуществления истины» [12. С. 225]. Так представление об инструментальном характере техники приводит, при прояснении этого представления, к пониманию ее сути. В чем же, согласно Хайдеггеру, состоит эта «сущность» современной техники? «Существо современной техники являет себя в том, что мы называем поставом» [12. С. 231]. Что имеется в виду под поставом? «Назовем теперь тот захватывающий вызов, который сосредоточивает человека на поставлении всего, что выходит из потаенности, в качестве состояще-го-в-наличии, - по-ставом (das Ge-stell)» [12. С. 229]. Постав есть такая парадигма (или модель) осуществления сущего, которая, реализуясь в человеческой практике, «заставляет человека выводить действительное из его потаенности (das Wirkliche zu entbergen)5 способом поставления его как состоящего-в-наличии. По-ставом называется тот способ раскрытия потаенности (die Weise des Entbergens), который правит существом современной техники, сам не являясь ничем техническим» [12. С. 229]. Другими словами, современная техника оказывается способом обналичивания неявного, тем самым получая не узкотехническое (инструментальное), а онтологическое значение. «В по-ставе осуществляется непотаенность (im Ge-stell ereignet sich die Unverborgenheit), в виду которой функционирование современной техники раскрывает действительность как состоящую в наличии (als Bestand)» [12. С. 230], как подлежащую учету и утилитарному распоряжению. Техника (технология), понимаемая и используемая таким образом, репрезентирует и организует (моделирует, транслирует) специфическое «устройство» человеческой реальности, редуцируя последнюю до тонкого слоя сущего, находящегося в наличии и подлежащего использованию. Постав есть фундаментальная онтологическая установка, выражающая, в конечном счете, «современный естественнонаучный взгляд на природу как на некоторую систему сил и действий, измеримых количественным, числовым образом»; в этом состоит коренное отличие нынешней «техники» от античной т£'/_\\'П как «эстетического и гармонического раскрытия-представления того, что изводится из потаенности» [5. С. 141]. Современная техника «опирается на точные науки Нового времени», и хотя она тоже представляет собой «раскрытие потаенного», как и TS'/vi']- но «то раскрытие, каким захвачена современная техника, развертывается не про-из-ведением в смысле nonoic», а продуцирует совершенно нового вида «открытость», которая заставляет все произведенное «быть в распоряжении» [12. С. 226-227], наличествовать. Само по себе создание и применение орудий и инструментов (что обычно понимается под сферой техники в целом) вовсе не обязательно проникнуто такой обналичивающей установкой; последняя «складывается лишь в Новое время, и притом только после того, как возникает точное, математическое естествознание» [5. С. 141]. По словам Хайдеггера, «поставляющая установка человека (das bestellende Verhalten des Menschen) проявляет себя сначала в возникновении точного естествознания Нового времени. Естественнонаучный способ представления исследует природу как поддающуюся расчету систему сил. Физическая теория природы Нового времени приготовила путь, прежде всего, не технике, а существу современной техники. Физика Нового времени - это еще не познанный в своих истоках ранний вестник постава» [12. С. 230]. В свою очередь, подход к природе как к исчислимой сумме сил подготавливает переход к информационной модели науки и практики. Теперь, говорит Хайдеггер, «вся причинность сплющивается до добываемой сложными путями информации об одновременности или взаимоследовании устанавливаемых состояний», что влечет за собой неизбежный «процесс возрастания условности» [12. С. 231], в перспективе - процесс виртуали
Скачать электронную версию публикации
Загружен, раз: 46
Ключевые слова
смарт-технологии, техника, риск, существование, философская антропологияАвторы
| ФИО | Организация | Дополнительно | |
| Аванесов Сергей Сергеевич | Новгородский государственный университет имени Ярослава Мудрого | д-р филос. наук, зав. кафедрой теологии, директор НОЦ «Гуманитарная урбанистика» | iskiteam@yandex.ru |
Ссылки
Мышкин О.С. Человек и техника: в поисках нового способа сосуществования // Вестник Пермского национального исследовательского политехнического университета. Культура. История. Философия. Право. 2015. № 3. С. 31-42.
Смирнов С. А. Антропологическая платформа для национальной технологической инициативы (приглашение к дискуссии) // Философская антропология. 2018. Т. 4, № 2. С. 69-80.
Ардашкин И.Б., Суровцев В. А. Смарт-технологии как понятие и феномен: к вопросу о критериях // Вестник Томского государственного университета. Философия. Социология. Политология. 2021. № 60. С. 32-44.
Бек У. Общество риска. На пути к другому модерну / пер. с нем. В. Седельника, Н. Федоровой. М. : Прогресс-Традиция, 2000. 384 с.
Хоружий С.С. Социум и синергия: колонизация интерфейса. Казань, 2016.
Brannmark J., Sahlin N.-E. Ethical theory and the philosophy of risk: first thoughts // Journal of Risk Research. 2010. Vol. 13.2. P. 149-161.
Диев В. С. Риск и неопределенность в философии, науке, управлении // Вестник Томского государственного университета. Философия. Социология. Политология. 2011. № 2 (14). С. 79-89.
Byskov M.F. Utilitarianism and risk // Journal of Risk Research. 2020. Vol. 23.2. P. 259-270.
Диев В. С. Философская парадигма риска // ЭКО. Всероссийский экономический журнал. 2008. № 12. С. 27-38.
Спиноза Б. Этика. Минск : Харвест ; Москва : АСТ, 2001. 336 с.
Тульчинский Г.Л. Философия поступка. Самоопределение личности в современном обществе. СПб. : Алетейя, 2020. 822 с.
Хайдеггер М. Вопрос о технике / пер. с нем. В.В. Бибихина // Время и бытие. М. : Республика, 1993. С. 221-238.
Аванесов С.С. Нормативная онтология: Петербургские доклады. Томск : Изд-во Том. гос. пед. ун-та, 2013. 94 с.
Heidegger M. Die Frage nach der Technik // Gesamtausgabe. I. Abteilung: Veroffentlichte Schriften 1910-1976. Band 7: Vortrage und Aufsatze. Frankfurt am Main : Vittorio Klostermann GmbH, 2000. S. 6-36.
Хайдеггер М. Поворот / пер. с нем. В.В. Бибихина // Время и бытие. М. : Республика, 1993. С. 253-258.
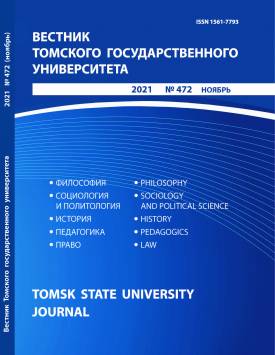
Технологическая угроза и риск бытия | Вестник Томского государственного университета. 2021. № 472. DOI: 10.17223/15617793/472/1
Скачать полнотекстовую версию
Загружен, раз: 578

 Вы можете добавить статью
Вы можете добавить статью