Политическая экономия пространства: крестьянский вопрос и проблематика ренты в СССР в 1920-е гг.
Рассматриваются дискуссии о функционировании земельной ренты в экономике периода НЭПа в связи с крестьянским землепользованием. Анализируются подходы представителей организационно-производственной школы А.Н. Челинцева и Г.А. Студенского, а также исследователей-марксистов Н.Н. Суханова, Л. Шанина, Я.К. Берзтыса и К.В. Островитянова. Делается вывод, что проблематика ренты позволила артикулировать важные социальные конфликты экономики переходного периода и заложила основы для более поздних дискуссий о рациональном природопользовании.
Political economy of space: the peasant question and the problem of rent in the USSR in the 1920s.pdf Как пишет Т. Пикетти, в экономическом дискурсе XX в. «слово “рента” стало ругательством, оскорблением, вероятно, худшим из всех возможных» [1. С. 422]. В модерных западных обществах провозглашаемое равенство прав граждан вступало в слишком заметное противоречие с вопиющим имущественным неравенством. Ответом на этот вызов стало развитие мерито-кратической идеологии. Она подразумевала, что неравенство в распределении доходов (а вместе с ними и власти) могло быть справедливым, если оно «проистекало из рациональных и универсальных принципов, а не из произвольного стечения обстоятельств» [Там же. С. 423], к которым вне всяких сомнений относилось получение различных форм ренты. Тот факт, что само по себе владение земельным или финансовым капиталом может приносить собственнику дивиденды, содержит в себе элемент, противоречащий здравому смыслу самых разных «моральных экономик»; в ренте есть что-то такое, «что сотрясало основы многих цивилизаций, которые на этот вызов давали разные и не всегда удачные ответы, от запрета ростовщичества до коммунизма советского типа» [Там же]. Действительно, с самых первых дней советской власти большевики активно боролись с нетрудовыми доходами, видя в них одно из базовых проявлений несправедливости и нерациональности капиталистической системы. Однако уничтожение рентных отношений в социалистическом обществе не было простой задачей, и особенно это касалось земельной ренты. С одной стороны, все советские экономисты соглашались с К. Марксом в том, что рента «не прорастает из земли». Рента по своей сути - проявление определенных социальных и экономических отношений между людьми, отношений историчных и подверженных изменениям [2. Р. 331]. С другой стороны, многие теоретики и практики, обеспокоенные проблемой ренты, отмечали объективные, естественные элементы, которые делали ренту столь устойчивой к попыткам рационализации и более справедливого распределения. Как пишет Д. Харви, в сельском хозяйстве и добывающих отраслях - советские экономисты называли такие отрасли природоемкими -окружающая среда не только поставляет сырье и принимает отходы, но становится одним из ключевых средств производства [Ibid. Р. 334]. Географическое расположение, плодородие земли, климат, глубина залегания минеральных ресурсов, особенности ландшафта и бесчисленное количество других природных факторов радикально дифференцируют производительность труда на различных предприятиях природоемких отраслей. Например, на современном этапе развития техники неглубокое залегание угольных пластов позволяет разрабатывать их открытым способом и дает почти двукратное превышение производительности труда на угольных разрезах по сравнению с шахтами [3. С. 91]. Разрабатывая более богатые и удобные месторождения или возделывая сравнительно более плодородную землю, производители получают дополнительную прибыль, непосредственно не связанную ни с капиталоемкостью, ни с трудозатратами, ни с эффективностью управления производством. Рента была воплощением естественной неоднородности пространства, которая вставала на пути рациональной и справедливой организации экономики и общества. Дискуссии о ренте в социалистическом обществе то утихали, то разгорались с новой силой в течение всей советской истории. В фокусе данной статьи -1920-е гг., период Новой экономической политики (НЭП), когда вопрос ренты стал важнейшим направлением дебатов по крестьянскому вопросу. Вынужденные отказаться от наиболее радикальных положений своей программы для победы в гражданской войне, большевики в 1921 г. установили режим, который сочетал в себе национализацию крупной промышленности, государственный контроль над внешней торговлей, элементы экономического планирования и относительно свободный рынок в границах СССР. НЭП заведомо был переходной формацией на пути к социалистическому обществу, необходимой для пре- Р.Р. Гильминтинов 42 одоления наследия царизма. Как верно заметил У. Розенберг еще в 1991 г., процесс перехода, ставший ядром НЭПа, не сводится только к политике и интенциям верхушки партии большевиков. Если мы представим НЭП просто как транзит власти от В.И. Ленина к И.В. Сталину, мы упустим куда более важные глубинные процессы: формирование государственной системы и социально-экономического порядка, развитие советской культуры и становление общности советского народа. НЭП был набором «широких социальных и культурных осей, соединявших то, чем была царская Россия, и то, чем советская Россия должна была стать» [4. Р. 4]. Задача данной статьи - исследовать дискуссии о ренте в 1920-е гг. как одну из таких осей, которая стала выражением глубокого социального конфликта в раннесоветском обществе, страха новой власти перед стихийностью и неподконтрольностью крестьянской жизни, заботы об эффективности социалистической экономики и о ее справедливости. Традиционным сюжетом интеллектуальной истории 1920-х гг. является противостояние между традиционной академической элитой, или «буржуазными специалистами», и новыми большевистскими кадрами в науке. В частности, если говорить об историографии аграрной экономики, этот конфликт воплощают в себе организационно-производственная школа А.В. Чаянова и аграрники-марксисты (Л.Н. Крицман, В.С. Немчинов и др.), два исследовательских направления, конкурировавших между собой в стенах Тимирязевской сельскохозяйственной академии [5. Р. 129-153]. Помещая в фокус проблематику ренты, мы видим значительно более широкое и сложно устроенное поле дискуссии. Такие представители организационно-производственной школы, как А.Н. Челинцев и Г.А. Студенский, действительно разрабатывали своеобразные подходы к ренте, но они не противостояли марксистам единым фронтом, а были сфокусированы на дискуссиях между собой. Марксистский метод, в свою очередь, представлял чрезвычайно широкое дискурсивное поле, в рамках которого взаимодействовали не только профессиональные экономисты, но и политики и простые служащие. Как пишет А.Н. Дмитриев, важнейшей чертой интеллектуальной истории СССР было то, что марксизм становился не только особым исследовательским методом, но доминирующей социально-политической идеологией [6, 7]. Эти два воплощения марксизма сходились в определенных точках, но не сводились друг к другу. Марксистские методы завоевали себе большую популярность в российском научном сообществе задолго до революции 1917 г. и не сводились к подходам «воинствующих» ортодоксов, а большевизм при этом был только одним из целого ряда радикальных политических проектов, которые опирались на идеи Маркса и его последователей. В ходе российской революционной эпохи, которая, согласно Т. Шанину, продолжалась с 1902 по 1922 г., крестьяне наконец одержали верх в своем вековом противостоянии с помещиками [8. С. 14]. Этот конфликт зачастую ускользает от внимания исследователей, которые фокусируются на том, как социальные конфликты разворачивались в крупных городах. Процессы в деревне, однако, были не менее, а может быть, и более важны. Отмена крепостного права в 1861 г. переформатировала, но не разрешила конфликт на селе. В большинстве своем освобожденные крестьяне получили скромные по площади и неудобные наделы, они также должны были выплачивать за них значительные выкупные платежи, поэтому им ничего не оставалось, кроме как арендовать землю (зачастую у тех же самых помещиков, чьими крепостными они были до реформы). Необходимость платить аренду землевладельцам, которые не обрабатывали землю своими руками и владели имуществом сверх необходимого, шла вразрез с основами крестьянской моральной экономики [9. Р. 155]. Поэтому падение царского режима в первые месяцы 1917 г. запустило процесс стихийного захвата помещичьих земель. Слабое Временное правительство не могло остановить этот процесс, но при этом не имело политической воли, чтобы легитимировать «черный передел» и новый баланс сил в деревне. Несмотря на страх и недоверие большевиков к «крестьянскому морю», неуправляемому и чуждому их политической культуре, они получили широкую поддержку в деревне благодаря своим лозунгам: «Мир -народам!» и «Землю - крестьянам!» Только признав результаты «черного передела», большевики смогли одержать верх в Гражданской войне, ведь за значительной частью их противников стояли интересы бывших сельских элит, стремившихся получить свою собственность назад. Однако и большевиком пришлось идти на серьезные уступки: они отказались от насильственного изъятия хлеба и попыток проводить последовательную классовую политику в деревне, направленную на мобилизацию бедняков против кулаков. Как пишет Т. Шанин, принятый в 1922 г. Земельный кодекс дал крестьянам почти все то, за что они так яростно боролись на протяжении многих десятилетий [8. С. 14]. Крестьянская революция покончила с праздным классом помещиков, которые в царской России присваивали себе ренту, но уничтожила ли она сами рентные отношения? В период НЭПа у советских экономистов были сомнения на этот счет. Они были убеждены, что революция не могла покончить со всеми формами несправедливости и иррациональности в одночасье. Более того, те компромиссы с крестьянством, на которые новый режим был вынужден пойти на исходе Гражданской войны, создавали реальные проблемы для системы рыночного социализма и вставали на пути построения современной индустриальной экономики в СССР [10. Р. 50-60, 123-130; 11. Р. 137-149, 190203; 12. Р. 57-80, 155-172]. Капиталоемкая промышленность восстанавливалась намного медленнее сельского хозяйства, поэтому городу было мало что предложить деревне в обмен на жизненно необходимую сельскохозяйственную продукцию. Л.Н. Крицман, В.С. Немчинов и другие большевики-экономисты были склонны рассматривать кризисы хлебозаготовок 1923 и 1927-1928 гг. как следствие подъема капиталистических отношений на селе. Страх перед «кулаком», который саботировал цели социалистического государства, становился драйвером не только внутрипар- Политическая экономия пространства: крестьянский вопрос и проблематика ренты в СССР 43 тийных конфликтов, но и дискуссий среди советских экономистов, важнейшей из которых стала дискуссия о ренте. Представители организационно -производственной школы рассматривали крестьянское хозяйство как чрезвычайно устойчивую, трансисторическую форму экономической жизни. Как писал А.В. Чаянов, простое перенесение рыночной логики на деревенскую жизнь мало что объясняет, потому что крестьянское хозяйство существовало задолго до складывания капиталистических отношений и было способно их пережить; оно «вполне мыслимо и в других народнохозяйственных системах, а именно в условиях крепостнически-феодальных, в условиях крестьянско-ремесленных стран и, наконец, в условиях чисто натурального быта» [13. С. 203]. Это утверждение, конечно, не подразумевало, что представители организационно-производственной школы не видели глубоких перемен в крестьянской жизни в конце XIX - начале XX в. Правильнее было бы сказать, что по сравнению с ортодоксальными марксистами А.В. Чаянов, А.Н. Челинцев, Г.А. Сту-денский и другие были просто более внимательными к тому, каким образом рыночные стимулы оказывали влияние и постепенно меняли вековые паттерны сельской жизни, не отменяя их. Они справедливо полагали, что в течение каких-то нескольких десятилетий крестьянин не мог превратиться в homo economicus. Эти соображения оказали влияние на позицию представителей организационно-производственной школы по вопросу об образовании земельной ренты в советском сельском хозяйстве. В этом отношении интересна полемика между одним из основателей данного исследовательского направления А.Н. Челинцевем (1874-1962) и его более молодым коллегой Г.А. Студенским (18981930). Последний в начале 1920-х гг. учился у А.В. Чаянова в Тимирязевской сельскохозяйственной академии, но в 1925 г. выступил с последовательной критикой положений организационно-производственной школы. А.Н. Челинцев утверждал, что в советском сельском хозяйстве вообще не существовало земельной ренты. Исходной точкой его рассуждений было положение о независимости крестьянского хозяйства от внешних рыночных условий. Описывая различные механизмы, которые приводили к уравниванию доходности крестьянских хозяйств, А.Н. Челинцев выдвигал мальтузианское по своему характеру положение об устойчивом «прожиточном минимуме». С одной стороны, его полевые исследования показывали, что при недостаточной продуктивности сельскохозяйственного производства крестьяне были вынуждены искать дополнительные промысловые заработки, или же количество душ в хозяйстве сокращалось естественным образом. С другой стороны, в регионах, где сельскохозяйственная производительность была выше «прожиточного минимума», происходило такое же естественное «сгущение населения» за счет роста рождаемости, которое, в свою очередь, низводило подушевую доходность до общего уровня. Из всего этого также следовало положение об отсутствии накопления в крестьянском хозяйстве. А.Н. Челинцев писал, что «доход хозяйства поглощается потреблением семьи, а размеры последнего определяют величину первого и обратно» [14. С. 66]. Для А.Н. Челинцева ключевым было положение о трудовом характере крестьянского хозяйства. Рента - нетрудовой доход, а значит, о ней можно говорить лишь в той мере, в какой крестьянское хозяйство «прибегает к регулярному найму труда с приобретательскими целями. В прибавляющей от этого части заработка будет иметься и нетрудовая часть дохода, в том числе и рента» [Там же]. Таким образом, концепция А.Н. Челинцева представляла пространство крестьянского мира абсолютно однородным: сама организация крестьянского хозяйства уравнивала доходы, которые стремились к минимуму хоть в хлеборобном Черноземье, хоть в суровой Сибири. В своей книге 1925 г. «Рента в крестьянском хозяйстве и принципы его обложения» Г.А. Студенский не только полемизировал с А.Н. Челинцевем, но и оспаривал самое базовое положение организационнопроизводственной школы об особой, нерыночной логике функционирования крестьянского хозяйства. Прежде всего Г.А. Студенский ставил под вопрос разграничение между трудовым и нетрудовым хозяйством, называя его «терминологической игрой», которая подменяет собой у А.Н. Челинцева теоретический анализ. Г.А. Студенский утверждал, что характер дохода крестьянского хозяйства не зависел от того, использовало оно наемный труд или нет: «По существу, этот “трудовой” доход так же обусловлен существующим соотношением цен, как и “нетрудовая|” земельная рента» [15. С. 14]. Далее, опираясь на богатый статистический материал, Г.А. Студенский опровергал рассуждения А.Н. Челинского о «прожиточном минимуме» крестьянского хозяйства. Его анализ показывал глубокую дифференциацию душевой доходности в крестьянском хозяйстве. Более того, согласно подсчетам Г.А. Студенского, в сельском хозяйстве наблюдалась устойчивая тенденция к накоплению - в среднем крестьяне сберегали и капитализировали около 8% дохода. Темпы этого накопления, однако, были неодинаковы в разных группах: если в хозяйствах с землепользованием до 10 десятин доля накопления в общем чистом доходе составляла около 2,5% (а иногда вообще становилась отрицательной), то крупные, обрабатывавшие более 30 десятин, сберегали до 13,8% [Там же. С. 38]. Соответственно, Г.А. Студенский был убежден, что семейное крестьянское хозяйство присваивало ренту, потому что было таким же участником рыночных отношений, как и крупные фермы, основанные на использовании наемного труда. Из этого следовали и его практические рекомендации в области сельскохозяйственного налогообложения: Г.А. Студенский предлагал сделать ставку на налог на ренту. В теории такой налог никакого влияния не оказывал ни на форму, ни на успех самого хозяйства - доходность труда и капитала оставались бы нетронутыми, а пропорциональные изъятия соответствовали бы установившейся дифференциальной рентности хозяйств. В хозяйствах, где земельная рента равна нулю, налог был бы чрезвычайно низким, поэтому «если бы даже всю поземельную ренту отобрать в налог, земледелие останется в своем прежнем виде» [Там же. С. 102]. Для Г.А. Студенского Р.Р. Гильминтинов 44 пространство крестьянского мира уже не было однородным, поэтому государству было необходимо изымать ренту с помощью налогов, чтобы поставить хозяйства в равные экономические условия. Несмотря на остроту полемики, взгляды А.Н. Че-линцева и Г.А. Студенского объединяло несколько принципиальных моментов. Во-первых, они оба опирались на статистику и позиционировали себя в качестве эмпириков в противоположность другим экономистам, предпочитавшим абстрактное теоретизирование. Во-вторых, для них, как и для других представителей организационно-производственной школы, революция 1917 г. не представляла собой глубокого водораздела в развитии сельского хозяйства страны. Большая часть статистических материалов, которые использовали и А.Н. Челинцев, и Г.А. Студенский в своих работах, были собраны еще до или во время Первой мировой войны. Несмотря на это, оба автора свободно экстраполировали свои данные на ситуацию в советском сельском хозяйстве. В-третьих, А.Н. Челинцев и Г.А. Сту-денский рассматривали вопрос ренты в общих терминах, имея в виду только ту ренту, которую получали хозяйства, обрабатывавшие сравнительно более плодородную или удобно расположенную землю, - марксова теория ренты, на которую опиралось большинство советских экономистов, была значительно сложнее. Таким образом, несмотря на очевидное смещение Г.А. Студенского в сторону марксистской политической экономии, он не пользовался в полной мере ее языком. Марксистские подходы к проблематике земельной ренты в 1920-е гг. в СССР также не представляли собой единого целого. Таких разных людей, как Н.Н. Суханов, Л. Шанин, Я.К. Берзтыс и К.В. Островитянов, объединяла лишь опора на сложную и в некоторой степени противоречивую типологию форм ренты, которая была разработана К. Марксом в незаконченном третьем томе «Капитала». Она развивала наработки классической политической экономии (главным образом идеи Д. Рикардо). Марксова типология включала в себя монопольную, абсолютную и два вида дифференциальной ренты. В общих чертах формирование монопольной и абсолютной ренты зависело от положения сельского хозяйства в целом в структуре капиталистической экономики и было следствием сочетания двух факторов: частной собственности на землю и традиционной технологической отсталости аграрного сектора. То, что Маркс называл низким органическим строением капитала в сельском хозяйстве, подразумевало преобладание затрат на оплату живого труда над затратами на машины и технологические решения, что позволяло получать прибавочную прибыль за счет жестокой эксплуатации крестьян. Частная собственность на ограниченные ресурсы плодородной земли, в свою очередь, создавала барьер для входа новых предпринимателей на рынок и тем самым не давала конкуренции снизить прибыль до нормального уровня. Концепция дифференциальной ренты смещала фокус на отклонения от нормальной прибыльности внутри самого сельского хозяйства. Первый тип дифференциальной ренты являлся прибавочной прибылью собственников относительно более плодородной земли, в то время как второй тип порождался дополнительным капиталом (удобрения, машины и оборудование), которые производители инвестировали в свои участки [16. С. 627-826]. Понятие монопольной ренты описывало исключительные ситуации, а дифференциальную ренту второго типа было достаточно просто подсчитать, поэтому ключевыми для дискуссий советских экономистов стали абсолютная и первый вид дифференциальной ренты; далее в тексте под дифференциальной рентой будет пониматься только первый ее вид. Таким образом, язык марксистской политэкономии использовал понятие дифференциальной ренты, чтобы описать неоднородность пространства аграрной экономики, и понятие абсолютной ренты как отражение дисбаланса экономической власти между городом и деревней. Важную роль в дискуссиях о ренте в советском сельском хозяйстве сыграла работа «Земельная рента и принципы земельного обложения» (1922) известного деятеля революционного движения, меньшевика Н.Н. Суханова (1882-1940). Как отмечает его биограф А.А. Корников, выход из меньшевистской партии в 1920 г. и сближение с большевиками (в январе 1924 г. Н.Н. Суханов пытался вступить в РКП(б), но не был принят) были связаны с его энтузиазмом по поводу НЭПа [17. С. 108-109]. Для Н.Н. Суханова именно сохранение рыночных отношений в советской экономике в течение длительного переходного периода было важнейшим условием построения социализма. Н.Н. Суханов писал: «Октябрьская революция создала в нашей деревне мелкобуржуазный строй - не больше. До всяких идеальных отношений еще бесконечно далеко» [18. С. 77]. Причиной этому была в первую очередь дифференциальная рента, которая, несмотря на отмену частной собственности на землю, делала одни хозяйства сверхприбыльными, а другие - убыточными за счет различного естественного качества обрабатываемой земли. Эта рента оставалась в руках частных пользователей, а значит, их статус мало чем отличался от прежних собственников. Кто-то жил в южных плодородных регионах и получил в пользование участок земли, дававший почти втрое больше, чем такой же надел в таежной зоне. С этой точки зрения даже коллективизация крестьянских хозяйств мало чем меняла ситуацию, потому что дифференциация по качеству земли получала в таком случае лишь укрупненные формы. Именно поэтому, согласно Н.Н. Суханову, «идеалом аграрного строя является превращение мелкого самостоятельного хозяйчика в государственного работника на всенародной земле. Равный его труд, в пределах возможного, должен одинаково вознаграждаться» [18. С. 76]. Однако любая спешка в движении по направлению к «идеальным условиям» будущего социализма была, по мнению Н. Н. Суханова, чрезвычайно опасной. Он отмечал, что в годы революции и Гражданской войны «мы перепробовали немало утопий; стрижка под одну гребенку всей деревни была одним из самых гибельных экспериментов в нашей “коммунистической” политике» [Там же. С. 77]. Поэтому вместо радикальных проектов реорганизации крестьянского хозяйства Н.Н. Суханов предлагал то Политическая экономия пространства: крестьянский вопрос и проблематика ренты в СССР 45 же самое, что и Г.А. Студенский, - обложить налогом дифференциальную ренту, что позволило бы устранить незаслуженные привилегии одних землепользователей перед другими. Еще одним важным участником дискуссии о ренте был Л.Г. Шапиро (1887-1957), который выступал в печати под псевдонимом Л. Шанин. Будучи выходцем из Бунда, еврейской социалистической партии, действовавшей в Восточной Европе с 90-х гг. XIX в., Л. Шанин с 1918 г. состоял в РКП(б), а в 1920-е гг. занимал различные должности в Наркомпросе и Наркомфине [19. С. 631]. В серии своих статей в журнале «На аграрном фронте» Л. Шанин поддерживал положение Н.Н. Суханова о том, что национализация земли в Советской России как таковая не устраняла предпосылок для образования абсолютной ренты. Однако уничтожение класса помещиков создавало возможность, что эти предпосылки не будут реализованы. Важнейшую роль здесь, по мнению Л. Шанина, играл уровень цен на сельскохозяйственную продукцию. Реализация абсолютной ренты - это присвоение добавочной прибыли, которая находит свое выражение в ценах, значительно превышающих стоимость производства. К. Маркс, развивая свою концепцию земельной ренты при капитализме, противопоставлял частных земельных собственников и непосредственных производителей. Производители выплачивали собственникам арендную плату, которую должна была покрыть рыночная цена сельскохозяйственной продукции, а ведь она уже включала в себя себестоимость и норму прибыли. Л. Шанин утверждал, что после революции, «когда класс частных земельных собственников ликвидирован, момент давления земельной собственности, вынуждающей своим монополистическим вето подъем цен, отпадает. Возможность поэтому падения с. -х. цен имеется налицо. Но другой вопрос -осуществится ли это падение» [20. С. 36]. Согласно Л. Шанину, реализации этой благоприятной возможности препятствовала другая тенденция: при отсутствии давления со стороны землевладельцев крестьяне лишались стимула, который раньше вынуждал их поставлять свою продукцию на рынок. В условиях «ножниц цен», когда цена на промышленную продукцию росла, а на зерно - падала, крестьяне предпочитали придерживать хлеб. Зачастую они пускали излишки зерна на производство самогона. Как отмечает И.Б. Орлов, «поворот к НЭПу крестьяне отпраздновали “настоящим общероссийским деревенским запоем”, масштабы которого осенью 1922 г. намного превысили обычные осенние сельские возлияния, связанные со сбором урожая» [21. С. 225]. По его подсчетам, крестьянам было в 5-7 раз выгоднее платить налоги за счет продажи самогона, нежели зерна. Однако экономические факторы могли лишь частично объяснить резкий скачок в объемах самогоноварения. Только согласно данным официальной статистики, в целом за 1923 г. на самогон было переведено 100 млн пудов хлеба (то есть около 2% урожая) [Там же. С. 227]. Таким образом, на пути у потенциального растворения абсолютной ренты в советской экономике стояла несознательность крестьян, которые предпочитали пропивать хлеб, высвободившийся благодаря уничтожению праздного класса землевладельцев. Идеи Н.Н. Суханова и Л. Шанина очень хорошо иллюстрируют разнонаправленность проблематики дифференциальной и абсолютной ренты. Если первого заботило неравенство среди крестьян, обусловленное неоднородностью пространства, то второй изображал крестьянство как единую группу, саботирующую цели социалистического строительства своим несознательным поведением на хлебном рынке. Пожалуй, наиболее резонансной книгой в дискуссии стала «Теория земельной ренты» Я.К. Берзтыса (1895-1938), вышедшая в свет в 1925 г. Ее автор был бесконечно далек от академических кругов. Член партии большевиков с 1912 г., Я.К. Берзтыс окончил учительскую семинарию, трудился на строительстве Мурманской железной дороги чернорабочим и конторщиком, в годы революции и Гражданской войны занимал ответственные посты в Петрозаводском губернском исполкоме РКП(б), работал ответственным редактором «Известий Олонецкого губсовета» и газеты «Олонецкая коммуна» [22]. Несмотря на отсутствие профильного образования и вовлеченности в научное сообщество, Я.К. Берзтыс предложил нетривиальное прочтение проблемы ренты в советском сельском хозяйстве в духе теории государственного капитализма. Я.К. Берзтыс утверждал, что национализация земли как таковая не могла уничтожить рентных отношений в социалистической России. Декрет о земле (1918) и Земельный кодекс (1922) навсегда отменяли частную собственность на землю, минеральные ресурсы, воду и леса; эти блага могли находиться в пользовании различных людей и организаций, но рабоче-крестьянское государство оставалось их единственным правомочным собственником. Несмотря на это, все условия для образования дифференциальной ренты в советской экономике сохранялись, - это прежде всего свободный сельскохозяйственный рынок и естественные различия в плодородии. Для Я.К. Берзтыса, соответственно, вопрос собственности не был решающим в вопросе образования дифференциальной ренты: «Крестьяне, пользующиеся лучшими участками, хотя и не имеют на них права собственности, получают известный излишек против нормального вознаграждения их труда, который и является дифференциальной рентой» [23. С. 141]. Я.К. Берзтыс развивал схожую линию в своих рассуждениях об абсолютной ренте. Он спорил с такими экономистами, как М.Н. Соболев и С.И. Солнцев, которые были убеждены, что абсолютная рента исчезала вместе с уничтожением класса землевладельцев. Такие взгляды, утверждал Я.К. Берзтыс, игнорировали факт включенности советской экономики в мировой рынок, в рамках которого частная собственность и интересы землевладельцев оказывали решающее влияние на ценообразование. Международное разделение труда достигло такого уровня, что ни одна национальная экономика не могла существовать отдельно, а СССР был не более чем незначительной частью капиталистического «мирового хозяйственного организма». В СССР при отсутствии частных собственников земли само государство становится земельным капитали- Р.Р. Гильминтинов 46 стом, который полноправно участвует в мировом рынке: «СССР является собственником советской земли, рядом с другими собственниками за нашими границами, конкурирующими между собой на мировом рынке» [23. С. 142]. Так как цены на мировом рынке уже включали в себя ренту, можно было сказать, что и советское государство ее получало, экспортируя зерно. Главным отличием советской экономики от капиталистической, согласно Я.К. Берзтысу, было не образование ренты, а ее использование. Если в условиях буржуазного хозяйства рента становится «источником средств для прожигания жизни земельному собственнику», в СССР она идет на нужды трудового народа. Так как советское государство представляло интересы крестьян и рабочих, оно направляло полученные на мировом рынке капиталы «к тем стратегическим пунктам, где они в данный момент наиболее всего нужны и где больше всего они могут способствовать общему подъему народного хозяйства в целом, следовательно, общему подъему жизненного уровня самих трудящихся масс» [Там же. С. 145]. В своих рассуждениях об абсолютной ренте Я.К. Берзтыс смещал фокус с проблем внутреннего рынка на внешний, он рассматривал государство прежде всего как продавца зерна, а не покупателя, поэтому абсолютная рента в его схеме превращалась в источник полезных для всего общества капиталов и не была угрозой его целостности. К.В. Островитянова (1892-1969) можно назвать полной противоположностью Я.К. Берзтыса. Уже будучи членом большевистской партии, он в 1917 г. окончил Московский коммерческий институт и к концу 1920-х гг. сделал блестящую академическую карьеру. С 1925 г. он занимал пост заместителя ректора Института народного хозяйства им. Г.В. Плеханова, а позднее еще целый ряд ключевых постов в науке. В 1928 г. вышел написанный им совместно с И.А. Лапидусом курс политической экономии, который выдержал восемь изданий общим тиражом 2 млн экземпляров [24]. В отличие от Я.К. Берзтыса и других марксистских экономистов 1920-х гг., К.В. Островитянов считал, что в вопросе рентообразования частная собственность на землю имела решающее значение. В своей книге «К вопросу о земельной ренте в советском хозяйстве» (1929) он писал, что в Советском Союзе сохранялось типичное для капиталистической экономики отставание сельского хозяйства от промышленности в технологическом развитии и фондоемкости, что должно было служить источником сверхнормативной прибыли в аграрном секторе. Однако только благодаря частной собственности на землю эта прибавочная прибыль «не идет в общий котел для распределения между капиталистами, а остается в земледелии и попадает в карман землевладельца» [25. С. 67]. Национализация земли сама по себе (даже если бы она была проведена буржуазным правительством) уничтожает абсолютную ренту. Более того, абсолютная рента - это избыточная прибавочная стоимость, которая образуется поверх нормы прибыли. Понятие нормы прибыли играет важнейшую роль в марксовой политической экономии: оно подразумевает, что в условиях конкурентного рынка прибыли в разных секторах хозяйства должны стремиться к общему уровню, потому что мобильность капитала позволяют буржуа перемещать его из одного сектора в другой. Если сталелитейное производство начинает приносить меньше дивидендов, чем торговля хлопком, поток инвестиций изменит свое направление в сторону последнего сектора экономики. Абсолютная рента же образуется там, где мобильность капитала натыкается на препятствие в виде частной собственности на землю, и новые предприниматели не могут выйти на рынок, чтобы создать достаточно эффективную конкуренцию. Согласно К.В. Островитянову, в советской экономике норма прибыли больше не играла регулирующей функции, потому что государство направляло капиталы в те или иные секторы экономики, руководствуясь интересами народного хозяйства в целом, и в случае необходимости было готово поступиться прибылями ради развития стратегически важных отраслей. К.В. Островитянов считал, что раз в советской экономике нет нормы прибыли, то поверх нее не может образоваться рента. К.В. Островитянов также отрицал наличие дифференциальной ренты в советском сельском хозяйстве. Он признавал, что естественные различия в плодородии трансисторичны и «не могут быть устранены ни при каком способе производства - будь то феодализм, капитализм, социализм или даже вполне развернутый коммунизм. Везде, всегда и при всяком строе общественных отношений труд, приложенный к более плодородной земле, дает больший результат, чем труд, приложенный к менее плодородному участку» [Там же. С. 78]. Однако этот добавочный продукт далеко не всегда приобретает форму ренты. В советском хозяйстве все более активную роль начинает играть рабочекрестьянское государство, которое своими действиями поддерживает бедняцкие и середняцкие хозяйства, оно же уязвляет в правах кулаков, ограничивая возможности аренды земли и применения наемного труда в земледелии, а также устанавливая прогрессивное налогообложение. Эти меры в том числе перераспределяют дифференциальный доход между крестьянскими хозяйствами, не давая ему принять форму ренты. Нетрудно заметить, что картина советской экономики, которую рисует К.В. Островитянов, разительно отличается от того, что мы читаем у других авторов. Он называет советскую экономику переходной от капитализма к социализму и пишет о сосуществовании в ней разных хозяйственных укладов (социалистическая промышленность, капиталистические элементы деревни и города, простое товарное хозяйство миллионов крестьянских хозяйств). Однако государство и план в объяснительной схеме К.В. Островитянова начинают занимать центральную роль, перераспределяя общественное богатство между секторами экономики и внутри сельского хозяйства, тем самым уничтожая абсолютную и дифференциальную ренту соответственно. Для сравнения, Г.А. Студенский и Н.Н. Суханов предлагали с помощью налогов изымать и перераспределять дифференциальную ренту, а Я.К. Берзтыс считал, что государство обращает абсолютную ренту на пользу общества. В их рассуждениях государство Политическая экономия пространства: крестьянский вопрос и проблематика ренты в СССР 47 использовало взаимодействовало с рентой, но никто из них не пытался отрицать само ее наличие. Опубликованная в разгар жестокой кампании сплошной коллективизации и раскулачивания, книга К.В. Островитянова знаменовала собой качественный скачок в дискуссии о ренте и развитии советской экономической мысли как таковой. Возможно, идеи К.В. Островитянова дали А. Лидсу повод сказать, что сталинизм отрицал экономику в качестве сферы, имеющей свои внутренние законы и логику, сферы, внешней по отношению к политическому [26. Р. 126]. Эта мысль у К.В. Островитянова выражается в противопоставлении двух экономических дисциплин: политической экономии, «которая имеет дело только со стихийными, неорганизованными отношениями товарно-капиталистического общества», и экономической политики социалистического государства [25. С. 62]. Последняя сфокусирована на результатах тектонического сдвига в советской экономике, вызванного победой плана над стихией рынка: «Если в условиях капиталистического хозяйства государственная власть не входит составной частью в производственные отношения этого хозяйства, а относится к политической надстройке над этими отношениями, то в условиях советского хозяйства она составляет важнейшую составную часть этих отношений» [Там же. С. 63]. Таким образом, волюнтаристский подход К.В. Островитянова снимает любые конфликты в экономике, в том числе связанные с проблематикой ренты, как дифференциальной, так и абсолютной. Став непосредственной частью экономического базиса, государство само устанавливает правила и не видит преград, которые бы ограничивали его политику. Как известно, И.В. Сталин резко возражал против изобретения особых законов для социалистической экономики [27. C. 157]. Подводя итог, следует заметить, что дискуссии о ренте в 1920-е гг. образовали сразу две оси. С одной стороны, проблематика абсолютной ренты позволяла артикулировать беспокойство большевиков из-за огромной экономической власти, которую получило село в э
Скачать электронную версию публикации
Загружен, раз: 37
Ключевые слова
рента, НЭП, крестьянство, землепользованиеАвторы
| ФИО | Организация | Дополнительно | |
| Гильминтинов Роман Радиевич | Тюменский государственный университет ; Университет Дьюка | кандидат исторических наук, научный сотрудник сетевого центра «Человек, природа, технологии»; докторант факультета истории | rg214@duke.edu |
Ссылки
Пикетти Т. Капитал в ХХ! веке. М. : Ad Marginem, 2015. 591 с.
Harvey D. The limits to capital. London ; New York : Verso, 2006. 478 p.
Харлампенков Е.И., Кудряшова И.А. Современные аспекты повышения производительности труда в угольной промышленности Кузбасса // Проблемы социально-экономического развития Сибири. 2019. № 1 (35). С. 90-95.
Russia in the era of NEP: explorations in Soviet society and culture / eds. S. Fitzpatrick, A. Rabinowitch, R. Stites. Bloomington : Indiana University Press, 1991. 344 p.
Cultural revolution in Russia: 1928-1931 / ed. S. Fitzpatrick. Bloomington : Indiana University Press, 1984. 337. 309 p.
Дмитриев А. «Академический марксизм» 1920-1930-х гг. и история Академии: случай А.Н. Шебунина // Новое литературное обозрение. 2002. № 2. С. 29-60.
Дмитриев А. «Академический марксизм» 1920-1930-х годов: западный контекст и советские обстоятельства // Новое литературное обозре ние. 2007. № 88. С. 10-38.
Шанин Т. Революция как момент истины. М. : Весь мир, 1997. 554 с.
Gill G. Peasants and government in the Russian Revolution. New York : Barnes & Noble Books, 2014. 233 p.
Carr E.H. The Russian revolution: from Lenin to Stalin (1917-1929). Basingstoke : Palgrave Macmillan, 2004. 200 p.
Siegelbaum L.H. Soviet state and society between revolutions, 1918-1929. Cambridge ; New York : Cambridge University Press, 1992. 284 p.
Brovkin V.N.Russia after Lenin: politics, culture and society, 1921-1929. London ; New York : Routledge, 1998. 266 p.
Чаянов А.В. Крестьянское хозяйство : избр. тр. // редкол.: Л.И. Абалкин и др. М. : Экономика, 1989. 491 с. (Экономическое наследие).
Челинцев А.Н. Есть ли земельная рента в крестьянском хозяйстве? // Южно-Русская сельскохозяйственная газета. 1918. № 10. С. 66-69.
Студенский Г.А. Рента в крестьянском хозяйстве и принципы его обложения. М., 1925. 114 с. (Труды Научно-исследовательского института сельскохозяйственной экономии; вып. 15).
Маркс К. Капитал: критика политической экономии. М. : Госполитиздат, 1951. Кн. 3, ч. 1, 2: Процесс капиталистического производства, взятый в целом. 932 с.
Корников А.А. Судьба российского революционера: Н.Н. Суханов - человек, политик, мемуарист. Иваново : Иванов. гос. ун-т, 1995. 198 с.
Суханов Н.Н. Земельная рента и принципы земельного обложения. 2-е изд. Петроград : Госиздат, 1922. 128 с.
Ленин В.И. Полное собрание сочинений. М. : Изд-во полит. лит., 1968. Т. 17: Март 1908 - июнь 1909. 655 с.
Шанин Л. Рента в условиях советской экономики // На аграрном фронте. 1927. № 1. С. 35-44.
Аксенов В.Б., Багдасарян В.Э., Горлов В.Н. Веселие Руси ХХ век: градус новейшей российской истории: от «пьяного бюджета» до «сухого закона». М. : Пробел-2000, 2007. 476 с.
Берзстыс Яков Карлович // Имена в истории Карелии. URL: http://imena.karelia.ru/persony/n_persones97/#u1
Берзтыс Я. Теория земельной ренты (в связи с этапами развития капитализма в земледелии). М. ; Л. : Центр. упр. печати ВСНХ СССР, 1925. 155 с.
Островитянов Константин Васильевич // Архивы РАН. URL: http://isaran.m/?q=ru/fimd&guid=286D7390-2D64-4EF6-E3CE-EE8C6C9AA60C&ida=1
Островитянов К.В. К вопросу о земельной ренте в советском хозяйстве. М. ; Л. : Гос. изд-во, 1929. 125 с.
Leeds A.E. Spectral liberalism: On the subjects of political economy in Moscow : Ph.D. Philadelphia, PA: University of Pennsylvania, 2016. 482 p.
Сталин И.В. Экономические проблемы социализма в СССР // Сталин И.В. Сочинения. М. : Писатель, 1997. Т. 16. С 154-223.
Всемирная история экономической мысли : в 6 т. / под ред. В.Н. Черковца и др. М. : Мысль, 1987. Т. 4: Теории социализма и капитализма в межвоенный период. 590 с.
Земельная рента в социалистическом сельском хозяйстве : сб. ст. М. : Госпланиздат, 1959. 263 с.
Реформа, цена, хозрасчет в горной промышленности : материалы науч. конф., состоявшейся в Ленинград. горном ин-те 15-17 ноября 1966 г. 1968. 147 с.
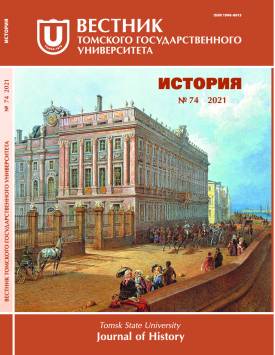
Политическая экономия пространства: крестьянский вопрос и проблематика ренты в СССР в 1920-е гг. | Вестн. Том. гос. ун-та. История. 2021. № 74. DOI: 10.17223/19988613/74/5
Скачать полнотекстовую версию
Загружен, раз: 391

 Вы можете добавить статью
Вы можете добавить статью