Рассматривается творческий феномен немецкого писателя и мыслителя XX в. Эрнста Юнгера, произведения которого художественно оформляют особую, монументально-героическую матрицу европейской культуры. Сущность этой матрицы, задачей которой являлось сохранение смыслового плацдарма для героического и возвышенного в культуре, способного противостоять бездуховным запросам общества потребления, наиболее явно раскрывается в книге Э. Юнгера «В стальных грозах». Показаны специфические аспекты философии творчества Юнгера, воплощенные в виде своеобразной доктрины, которая обеспечивает возвышенность устремлений созидающего и способствует преобразованию отдельных судеб «дальше себя» - в судьбы народов и государств.
Ernst Junger’s Phenomenon: Building “Beyond Oneself”.pdf Творчество великого немецкого писателя, воина, мыслителя Эрнста Юнгера по-прежнему представляет серьезный интерес для исследователей европейской культуры XX в. Юнгер внес большой вклад в немецкую и мировую литературу как автор текстов, посвященных особому, монументальному взгляду на «окопную правду» о Первой мировой войне. Также Эрнст Юнгер - автор произведений, оформляющих идейные границы так называемой «консервативной революции». Ее голос он очень во многом сделал слышимым в эпоху потребления и стремительного технологического прогресса, наступление которого поставило под вопрос этику и будущность европейского аристократизма. Отвечая своими книгами на вызовы современности, Юнгер формировал особый смысловой форпост для тех глубоко и серьезно мыслящих европейцев, которые желали бы сохранить все самое возвышенное, монументальное из героической истории Европы. Борьба за высшие смыслы европейской части человечества определила интерес к Эрнсту Юнгеру как к хранителю монументальной матрицы возвышенного в человеке. Феномен Эрнста Юнгера: созидание «дальше себя» 23 Биография Эрнста Юнгера (1895-1998) поистине грандиозна и монументальна. На протяжении всей своей жизни он неутомимо познавал... познавал себя и мир вокруг. Он написал много книг, среди которых были и романы, и боевые дневники, и повести-эссе, развернутые в широкие трактаты. Менялись стиль, образная система автора, но по большому счету не изменялось главное. Феномен Эрнста Юнгера состоял в том, что всю жизнь он в разных формах ориентировал своего читателя на стремление к идеалам радостного, идущего в наступление, поющего победы твердого духа, желающего все новых и новых свершений, новых вершин и достижений во внутренней борьбе с самим собой, со своими слабостями и немощами. Он показывал всем, что жизнь дается человеку как божественный дар, которым нельзя пренебречь, каждый миг которого буквально даруется лишь для того, чтобы приближаться к своему высшему предназначению, например творчеству в той сфере, где человеку дан талант. Эрнст Юнгер прожил 102 года, прошел через крупнейшие сражения Первой мировой войны сначала рядовым солдатом, а потом офицером, много раз был ранен, удостоен высоких наград Германии за военные заслуги, в том числе высшей военной награды Пруссии - ордена «За заслуги» (Pour le Merite). На его глазах прошел весь двадцатый век, полный сложнейших ценностных противоречий. Можно сказать, что определенную роль в его долголетии сыграла генетика или, возможно, элементарное везение на фронте, но гораздо важнее то, что Эрнст Юнгер был неутомимым оптимистом и жил в режиме строжайшей самодисциплины, постоянно имея перед собой высшую цель - мыслить и воплощать «помысленное» в тексте. Он заставил свою жизнь длиться столько, сколько было нужно автору, чтобы осуществить, вероятно, большинство своих замыслов. В XX в. человечество в целом, не говоря уже об отдельных, особенно крупнейших, государствах, неоднократно меняло доктрины развития, парадигму самого бытия. Менялись формации и идеологические системы: в их рамках как минимум дважды изменялся подход к формированию идеального человека, соответствующего требованиям времени. В связи с этим должна была быть сформирована и модель общественных отношений, в которой концепция идеального человека могла бы полноценно воплотиться. Юнгеровские тексты приходят к нам из самых глубин XX в., который, можно сказать, «удался» у военных поколений, его формиро- А.А. Индриков 24 вавших. На фронтах двух мировых войн погибли лучшие из лучших. Это верно хотя бы потому, что аристократическая Европа воспитала за XIX в. такой подход к жизни, что реализовать себя, считать себя состоявшимся наивысшим, наилучшим образом можно было только в ратном, чаще всего смертном, подвиге. Ю.Н. Солонин, один из исследователей творчества Юнгера, отмечал: «Военная служба для многих молодых людей была желанным поприщем приложения их честолюбия. Статус военного в общественном сознании стоял выше статуса чиновника и едва ли имел конкурентов» [1]. Готовность идти на смерть ради других поистине можно считать тем качеством, которое возносит человека над повседневностью, возвышает его, доказывает, что его родовое начало само по себе уже являет код наивысшей культуры, вершину культурного восхождения народа. И эта самая «высокая генетика» беспощадно расходовалась в ходе мировых конфликтов XX в. Вторая половина XX в. прошла уже под идейным руководством тех, кто имел другие представления о возможностях самореализации, когда на первый план выходят совершенно иные ценности: ценности личного преуспевания, финансовой состоятельности, известности. Другой ценностной моделью стали жесткое противопоставление себя миру и уход в полную внутреннюю свободу, отрицание значимости признания в мире вещей и публичности. Первая половина века в Европе, охваченной коммунистическими движениями и противоборствующими им идейными системами консервативного или националистического толка, требовала создания модели (парадигмы) «вождь-народ». В ней обладающий непререкаемым авторитетом и яркой харизмой лидер, наделенный личным высоким талантом оратора и публициста, становился главной фигурой государства, идеологии и культуры. Он практически обожествлялся, однако олицетворял собой возможность настоящего, земного человека стать подобным ему при надлежащем количестве усилий духовной борьбы. Этим доктрина отличалась от времен империй, когда государством правил император, «божий помазанник», избранный небесами человек, к достижению трона которого простому смертному не представлялось даже теоретической возможности приблизиться. Недаром в начале века, после Первой мировой войны, прекратили существование четыре империи - Российская, Г ерманская, Австро-Венгерская, Османская. Феномен Эрнста Юнгера: созидание «дальше себя» 25 Вторая половина века в Западной Европе протекала уже под флагом либерализма и отвержения идеи обожествления вождя. Сказалось прямое воздействие американской экономической и культурной доктрины, пришедшей на европейский континент вместе с воинскими контингентами США после Второй мировой войны1. Началось разрушение модели отношений «вождь-народ», на смену ей пришла также дуалистическая модель «человек - внутренний мир человека». Господствующей философией в парадигме либерализма как социально-экономического уклада становился экзистенциализм, направляющий фокус размышлений человека о мире и своем месте в нем только в рамку эгоистических переживаний и волнений2. Капиталистическое потребление в экономической (как и культурной) сфере формировало индивидуализм, необходимость удовлетворения личных потребностей, которые человеку было необходимо распознать в себе, разобраться в них. Оказалось востребованным обращение человека к психоанализу, угадыванию своих желаний и т.д. Неслучайно одним из самых популярных философов Запада становится Альбер Камю с его глубинным анализом собственных душевных состояний. Экзистенциализм в том виде, в каком его представлял, например, Сартр, по своей сути очень во многом безрезультатен для тех, кто ищет у его последователей некую схему действий и поступков в жизни, потому что вся жизнь человека при таком подходе протекает именно в пассивном наблюдении за собственными состояниями, схожими с невротическим самокопанием. Результаты этой «внутренней работы» персонажей романов знаменитых экзистенциалистов (Ж.П. Сартр -«Тошнота», «Стена», А. Камю - «Посторонний») не выливаются ни в какое творчество, напротив - болезненный самоанализ становится заменой творчеству, формирует бесконечно усталый взгляд на мир. Возвращаясь вновь непосредственно к Эрнсту Юнгеру, нужно сказать, что он не отстраненно наблюдает эти изменения в европейском 1 Эту доктрину мы называем «диктатурой конвейера» [2]. 2 Так, например, известный писатель-экзистенциалист Жан-Поль Сартр, творчество которого было направлено в первую очередь на раскрытие возможностей индивидуального «Я», связывал значение всех явлений окружающего мира со спецификой и особенностями их авторского восприятия и понимания [3]. А.А. Индриков 26 мышлении, но отслеживает их и остается несмотря ни на что верен своей собственной, монументальной доктрине мышления, для которой характерно стремление к активному, восторженному преобразованию мира внешнего, к созиданию не внутрь себя, а «дальше себя». Такую философию активного первичного преобразования мира вокруг поэтически описал Фридрих Ницше в своем «Заратустре»: «И кто хочет созидать дальше себя, у того для меня самая чистая воля» [4. С. 390]. Такой подход к самому себе и к творчеству вообще - в эпоху обожествления экзистенциалистского мировоззрения (в противовес Ницше - «созидать строго не дальше себя») - уже тогда можно было бы признать некой формой философской смелости и даже своего рода литературным героизмом. Нужны мужество и самоотдача, чтобы развернуть свой внутренний мир на просторах мира внешнего, нужна готовность к борьбе за то, чтобы этот внутренний пейзаж расположился, смог расположиться - на внешнем ландшафте. И, конечно, важно понимать, что глубинная сущность творческой концепции Юн-гера заключается в ее нацеленности на героическое в культуре, в ее -сродни поэтической - гносеологической объемности. Поэтому нацеленная на изображение монументального юнгеровская доктрина творчества требует себе и монументально ориентированных последователей. Именно их она и воспитывает. В данном случае речь должна идти уже о некой системе взглядов и особенностей творчества автора, которая подразумевает монумен-тализм как принципиальную базу для изображения мира вокруг. Монументальный характер всех выведенных автором на передний план персонажей и объектов определяет их вневременное значение, их цель быть вневременными ориентирами в вопросе культурного самостоя-ния и самоопределения. Своего рода матрица с соответствующими характеристиками была создана Юнгером и как образец для грядущих последователей. Монументализм Эрнста Юнгера предполагал воспитание такого человека, который бы направил свой взор не во внутреннюю «экзистенцию», а наоборот - в бытие внешнее, где преобразование мира находится в руках таких же творящих «дальше себя». Так рождаются герои современности, которые творят историю по воле своего духа и в соответствии с представлениями о героическом предназначении человека, человека, рожденного для подвигов и самоотверженных поступков. Феномен Эрнста Юнгера: созидание «дальше себя» 27 Эрнст Юнгер наблюдает во второй половине XX в., как европейская героическая матрица культуры, сформированная в том числе писателями «потерянного поколения» (Ремарк, Барбюс, Олдингтон и др.), стремительно теряет позиции, уступая место матрице индивидуалистической, направленной исключительно на изображение депрессивных, непродуктивных состояний. Эта матрица послевоенной депрессии от ужаса пережитого проявляется во всех сферах культуры, она сметает все героическое под предлогом отдыха от всего «милитаристского», отвращая взоры общества от мужества как черты европейского характера, перенаправляя европейца на переживание чувства вины за это мужество как фактора угрозы новой войны. Такие настроения помогал формировать, например, в ФРГ медиамагнат Аксель Шпрингер, ориентируя читателя на чувственное отдохновение, интеллектуальный покой и жажду примитивных сенсаций. Создавая почву для культуры потребления и ища новых способов эффективного сбыта информации как товара, Шпрингер тем самым формировал и соответствующую матрицу индивидуализма и острой необходимости удовлетворения эгоистических, материальных потребностей1. Юнгер с тревогой наблюдает, как романтизм и героизм начинают сменяться антигероизмом, пропагандой духовной немощи и податливости духа потоку вещей и ситуаций. Подобно последователям субкультуры хиппи, которая распространялась из США, европейцы оказались поглощены идеей построения «общества благосостояния». Недаром в послевоенную эпоху стали известными как минимум два «экономических чуда» - немецкое и японское. И особенность этих чудес состояла в том, что у людей появился хорошо обустроенный быт. Очевидно, что в условиях всеохватывающего комфорта неизбежно пропадало желание работать над собой и своим духовным совершенствованием в той или иной форме. Эрнст Юнгер осознавал всю опасность нависающей над Европой проблемы утраты ею героического, пассионарного духа. Перед глазами у него было два европейских общества: прежнее, скрепляемое традициями воинской доблести, чести, представлениями о героизме, и нарождающееся, в котором потребление и культура развлечений становятся определяющими. 1 Об этой матрице см. подробнее в работах исследователя социокультурных процессов в западных СМИ Л.Ф. Стржижовского [5]. А.А. Индриков 28 Общество, из которого был родом Юнгер, принадлежит XIX в.; оно питалось традициями рыцарства, личной военной доблести. Наивысшей самореализацией могла быть только успешная военная карьера. Романтический ореол вокруг военной службы поддерживался художественной романической и приключенческой литературой. Сам Юнгер много читал в детстве, и среди его любимых авторов были Фенимор Купер и Майн Рид. В данном случае сложно сказать, что было причиной, а что следствием, но можно смело признать: философией эпохи молодости Юнгера в начале XX в. была устремленность к опасностям и подвигам. Воплотить в жизнь все эти идеалы и стремления можно было только на войне, на настоящей войне, где в любую секунду человек мог получить тяжелейшее ранение и даже лишиться жизни. Недаром в ранней биографии Юнгера есть эпизод с побегом в Африку, вступлением во французский иностранный легион. Юнгер мечтал как можно скорее изведать романтику приключений и военного дела. И хотя отцу Юнгера удалось возвратить молодого человека домой, то время, которое будущий писатель все же сумел провести в захватывающем побеге-путешествии и описал впоследствии в автобиографической повести «Африканская игра» (1934), наполнено высшей духовной радостью. Главный герой бесстрашен, свободен и силен, вместе с тем он уважает традиции и законы иностранного легиона, находит товарищей по оружию (см: [6]). Отличительной чертой юнгеровского поколения было презрение к смерти, более того - смутное желание геройской смерти, возвеличиваемой романтической литературой. Дух Юнгера закалялся в совершенно особой атмосфере времени, которое было во многом монолитным, единым в своей философии военной целеустремленности. В «Стальных грозах», дебютном литературном произведении Юнгера (1920), он напишет о людях и времени, как никто другой глубоко выражая качество той среды, в которой он находился и в которой оформлялся его характер. Текст, который в оригинале называется «In Stahlgewittem» («В стальных грозах»), повествует от лица самого автора о суровых буднях Первой мировой войны. Юнгер создал что-то наподобие военного дневника, в котором, с одной стороны, сошлись детальная точность описания континентального конфликта между немецкой и англофранцузской армиями, а с другой - философски смелые, поэтически Феномен Эрнста Юнгера: созидание «дальше себя» 29 яркие, неповторимые размышления о войне как о выдающейся исторической возможности проявиться небывалому героизму человеческого духа: «Время от времени при вспышке осветительной ракеты я видел, как сверкал ряд касок и ружей, и меня наполняло чувство гордости, что я командую горсткой людей, которых можно уничтожить, но нельзя победить. В такие мгновения человеческий дух торжествует над властительнейшими проявлениями материального мира, и немощное тело, закаленное волей, готово противоборствовать самым страшным грозам» [7]. Юнгеровская творческая матрица оформляется сразу же полностью именно в «Стальных грозах». Она же будет присутствовать и во всех его последующих произведениях. Во-первых, события разворачиваются в условиях напряженной исторической ситуации, сложного перелома эпох и судеб. Во всяком случае, герой воспринимает окружающую обстановку как возможность сыграть важную роль в судьбе страны и, соответственно, судьбах поколений: «Мы покинули аудитории, парты и верстаки и за краткие недели обучения слились в единую, большую, восторженную массу. Нас, выросших в век надежности, охватила жажда необычайного, жажда большой опасности. Война, как дурман, опьяняла нас. Мы выезжали под дождем цветов, в хмельных мечтаниях о крови и розах. Ведь война обещала нам все: величие, силу, торжество» [8]. Во-вторых, в центре повествования находится самоотверженный, бесстрашный герой. Он смел и отважен, но при этом его отвага не безрассудна, а опирается на философию осмысленного героического действия. Он как будто знает, что его ведет фатум или провидение, вокруг него могут разворачиваться трагедии, но сквозь них он проходит путем своего предназначения. Оно бережет и хранит его, чтобы по тайному замыслу свершилась воля эпохи. Сущность этого замысла -великий результат, обретение славы не для себя, но в первую очередь для своей страны: «Среди победного ликования я почувствовал резкий удар в левую сторону груди; вокруг меня настала ночь. Конец! Я был уверен, что ранен в сердце, но в ожидании смерти не ощущал ни боли, ни страха. К своему удивлению сразу же поднявшись и не обнаружив в гимнастерке даже дыры, я снова устремился на врага» [9]. В-третьих, и ландшафт, и главный герой обязательно вписаны в общую панораму гигантского действия, запущенного осознающими А.А. Индриков 30 некую высшую необходимость силами. Главный герой - лицо хоть и яркое, центральное, но своими переживаниями он не перекрывает общего фона повествования. Его мысли и действия - часть единого порыва сотен других персонажей, а потому логика его действий обусловлена не только личными намерениями, но и созвучием с единым настроем времени, поколения, всего народа: «При виде этих скопившихся огромных масс казалось, что прорыв неизбежен. Разве не пряталась в нас сила, способная расколоть вражеские резервы и разорвать их, уничтожив? Я ждал этого с уверенностью. Казалось, предстоит последний бой, последний бросок. Здесь судьба народов подвергалась железному суду, речь шла о владении миром» [9]. В тексте «Стальных гроз» Юнгер создает уникальный взгляд на «окопную правду» Первой мировой войны и на сущность войны вообще как главного культурного и человеческого конфликта. У Юнге-ра добавляется философско-эпическое, возвышенное воззрение на противостояние людей. При этом страдания перестают выглядеть индивидуальной болью, они сливаются в большом героическом преодолении народом самого себя и своих ран в движении навстречу победе. Юн-гер - герой произведения, и все, кто рядом с ним, не падают духом, не скатываются только в собственные страхи и переживания. Они все словно с одного эпического полотна и не дают друг другу выпасть из него ни одним своим поступком. У Юнгера под стальными грозами битв не только уже существуют, но и рождаются такие же, как он сам, стальные характеры, люди из металла, готовые совершать такие подвиги, о способности на которые они и не подозревали в мирное время: «Сражения мировой войны имели и свои великие мгновения. Это знает каждый, кто видел этих властителей окопа с суровыми, решительными лицами, отчаянно храбрых, передвигающихся гибкими и упругими прыжками, с острым и кровожадным взглядом, - героев, не числящихся в списках. Окопная война - самая кровавая, дикая, жестокая из всех войн, но и у нее были мужи, дожившие до своего часа, - безвестные, но отважные воины» [10]. В «Стальных грозах» Юнгер впервые воплощает свою базовую идею о героическом. «Стальные грозы» во многом уникальный текст: сам Юнгер, главное действующее лицо, есть воплощение не только себя самого, но и всех своих сослуживцев, товарищей по фронту, как живых, так и мертвых. В тексте сам Юнгер становится метафорой, он Феномен Эрнста Юнгера: созидание «дальше себя» 31 одновременно и простой человек, солдат, но в то же время он и есть вся армия, ее суровое, но героическое, без слез, страха и паники лицо. Исследователь творчества Юнгера Ю.С. Солонин в статье «Эрнст Юнгер: от воображения к метафизике истории» писал: «Возможно, этим определяется ощущаемый нами внутренний динамизм “Гроз”. Динамизм выражается в том, что война, выступая вначале в неразвитых, незрелых начальных формах, постепенно разворачивает свою сущность, подчиняя своей власти и энергии всех действующих лиц по обе стороны линии фронта. Молодые новобранцы, многие из которых пришли на войну любительски, следуя легкомысленным порывам, расстаются с иллюзиями не потому, что война их разочаровывает своей неромантической дегероической сущностью, оказываясь грязным делом, в которое втянули доверчивых простаков прожженные политические игроки, а потому, что она оказывается сущностно иным явлением, постепенно постигаемым срастающимся с ним человеком. Война требует особых качеств и ведет к преображению человека, и он начинает жить и чувствовать совершенно иначе, чем другие люди, которым не открылось чудовищное обаяние войны» [1]. Юнгер встречает войну как неизбежную неотвратимость, он видит во время войны движения духа человека, на войне успевает любоваться природой, он ощущает войну так, словно знает, что его книга о ней должна будет составить представление об истинном героизме: «Вечером я взял из угла свою трость и пошел по узким полевым тропинкам, извивавшимся по холмистому ландшафту. Изуродованные поля были покрыты цветами, пахнувшими жарко и дико. Изредка по дороге попадались отдельные деревья, под которыми, надо думать, любили отдыхать селяне. Покрытые белым, розовым и темнокрасным цветом, они походили на волшебные видения, затерявшиеся в одиночестве. Война осветила этот ландшафт героическим и грустным светом, не нарушив его очарования; цветущее изобилие казалось еще более одурманивающим и ослепительным, чем всегда. Среди такой природы легче идти в бой, чем на мертвых и холодных зимних ландшафтах. Откуда-то проникает в простую душу сознание, что она включена в вечный круговорот и что смерть одного, в сущности, не столь уж значительное событие.» [11]. В «Стальных грозах» мы видим, как биография автора то и дело переходит в художественное полотно, в эпопею, где один характер А.А. Индриков 32 сливается с целым потоком несущихся в эпицентр сражения характеров, судеб, обретающих в ней славу и бессмертие. Таким образом, Юнгер-писатель формировался своей военной эпохой. Формировалась и его творческая доктрина, которая требовала выводить на первый план в произведении человека возвышенного, сильного, не испытывающего страх перед смертью и лишениями, но опасающегося не успеть испытать судьбу и предназначение, не боящегося успеть за грандиозным событием, где шанс проявить монументальные качества личности притягивает, несмотря на ужасы лишений и страх смерти. Юнгера интересуют герои, люди, окрыляемые опасностью, но не просто так, из-за нехватки острых ощущений, а во имя великой цели, победы в войне, спасения товарищей по оружию, во имя воспитания себя и на своем примере всего поколения. Последующие произведения Юнгера, такие как «Война как внутреннее переживание», «Африканская игра», «На мраморных утесах» и др., уже так или иначе должны были оказаться под сильным влиянием «Стальных гроз». Так, по ощущениям автора, для которого Первая мировая война и первый успешный литературный опыт были, безусловно, самыми яркими переживаниями, впечатлениями молодости, Вторая мировая уже не была столь эпичным действом. Сказывались и его неприятие национал-социализма с его шовинистическими, расовыми теориями и его весьма отстраненное, уже далеко не столько активное участие в самой войне. Юнгер больше занимался штабной работой, а впоследствии был вообще уволен из армии из-за личного знакомства с участниками заговора Штауффенберга против Гитлера. Надежды со стороны аудитории, которая ждала от новых книг Юнгера все того же динамизма и идейной уверенности в тексте, присущих «Грозам», не оправдались. Юнгеру нужны были новые идеи для нового времени, в котором, как уже было сказано выше, резко возросли индивидуалистический и даже гедонистический аспекты жизни общества. Первая мировая и ее героизм в наступившем после Второй мировой войны «потребительском рае» ФРГ, скорее, напоминали об ужасах конфликтов вообще, которые за XX в. принесли немцам два крупных поражения. В таких условиях Юнгер должен был дать новую идею своим читателям, соратникам по идеям монументального и героического в культуре. Нужно было одновременно Феномен Эрнста Юнгера: созидание «дальше себя» 33 сохранить монументальность и эпичность взглядов на мир и быть современным, т.е. внести ясность в общественные проблемы второй половины XX в. Очень кратко задачу Юнгера можно было описать так: сохранить идейно-смысловое место для самоотверженного героя-альтруиста в мире потребления и личного коммерческого преуспевания. Определяясь с идейной сущностью своих последующих текстов, Юнгер не мог не учитывать изменений в общественном сознании послевоенной Германии и Европы, при этом он просто обязан был сохранять завоеванные «Стальными грозами» позиции в сердцах читателей. Консервативная часть общества, которая по-прежнему ценила героическое и монументальное, чем, собственно, Юнгер и сумел сформировать привлекательный образ оберегаемого судьбой героя, ждала новых идей. Эти идеи должны были быть окрашены той же краской судьбоносной неуязвимости, что и автор «Стальных гроз», они должны были быть привлекательны своей принципиальной характерной (выделено автором. - И.А.) близостью эпохе мечтателей и борцов, но при этом быть современными, свободными от старческого налета воспоминаний. Юнгер также должен был своими грядущими произведениями помочь последующим поколениям преодолеть комплекс несоответствия тем славным согражданам, которые получали «Железные кресты» на фронтах, у кого были большие задачи и венценосные результаты их выполнения. Ведь в отличие от Второй мировой, где крах гитлеровского фашизма стал и национально-исторической, мировоззренческой катастрофой, Первая мировая была закончена не по причине поражения в ней самих солдат, а, скорее, по причинам политическим. То есть армии, еще готовые сражаться, полные боевого духа, отстаивающие свою государственную, боевую честь, не утратили себя исторически и философски. Недаром сторонники военного реванша Германии охотно усвоили концепцию удара ножом в спину со стороны рабочего класса, концепцию родом из Первой мировой, обнаруживая причину поражения не в решениях властей, а в революционных действиях восставших против тягот войны рабочих. Перед Юнгером встала задача - остаться в единстве с прошлым, не упуская возможности попасть в настоящее и будущее. И для этого он должен будет заложить в смысловые «ландшафты» своих повестей и романов идейные «вершины» «Стальных гроз». А.А. Индриков 34 Прежде всего в эпоху потребления и идейной разобщенности, по мнению Юнгера, необходимо указывать на необходимость почти военного братства ищущих истины, живущих во имя поиска больших идей. В «Стальных грозах» боевое братство спасает жизнь не только самому солдату Юнгеру, это братство определяет успехи всей армии, ее стойкость, бесстрашие в аду Первой мировой. Кроме того, в эпоху послевоенной апатии и страха перед боевым мужеством как фактором милитаристских рисков важно, считает писатель, говорить о борьбе как о праве на самореализацию, демонстрировать, как объективное стремление к действию и преобразованию внешнего мира дает ощущение достигнутых результатов, а значит, продолжает преемственность активных творческих стремлений вообще. (Попутно можно вспомнить о том, как Ф. Ницше писал в «Антихристианине» о чувстве радости, которое может дать только вновь преодоленное препятствие.) Наконец, в эпоху агрессивного индивидуализма требуется, с точки зрения Юнгера, объяснить, что героизм никогда не обретается сам из себя и сам по себе. В наступавшей по всем фронтам «голливудской» картине мира героизм - всегда удел суперменов-одиночек. Юнгер же показывал, что героизм отдельного человека всегда складывается из героического упорства многих, всего народа. Армия у Юнгера в «Стальных грозах» - это и личности, и в то же время монолит идейных воинов, когда каждый по отдельности силен за счет неподдельного братства со всеми. Впоследствии доказательства этих тезисов в виде их воплощения в текстах стали смысловым обоснованием так называемой «консервативной революции», перманентная сущность которой как раз и состояла в идейном сбережении высших достижений героическо-мону-ментального духа прошлого на просторах современной культуры. Противостояние мелкого, суетного, сиюминутного и незыблемого, выстраданного, завоеванного и обретенного определило роль всех юнгеровских текстов, в основании которых находилось эпическое очарование и непреходящее эпохальное звучание «Стальных гроз». Феномен Эрнста Юнгера еще и потому осознается нами как таковой, что мыслитель оставался верен своим идеям до самого конца. Уверенность в своих силах и идеях 102-летнего ветерана, истинного солдата и аристократа духа, во многом доказывает необходимость Феномен Эрнста Юнгера: созидание «дальше себя» 35 сохранения матрицы героического в культуре, которая сделала из Юнгера живой источник верности витальным идеям монументального.
Солонин Ю.Н. Эрнст Юнгер: от воображения к метафизике истории. URL: http://anthropology.ru/ru/text/solonin-yun/emst-yunger-ot-voobrazheniya-k-metafizike-istorii (дата обращения: 28.09.2019).
Индриков А.А. Диктатура конвейера: рефлексия кризиса культуры в Европе и России. Саранск, 2014. 166 с.
Сартр Ж.-П. Экзистенциализм - это гуманизм. URL: https://scepsis.net/ library/id_545.html (дата обращения: 28.09.2019).
Ницше Ф. По ту сторону добра и зла : сочинения : пер. с нем. М. : Эксмо ; Харьков : Фолио, 2003. 848 с. (Антология мысли).
Стржижовский Л.Ф. Стреляет пресса Шпрингера М. : Политиздат, 1978. 80 с.
Солонин Ю.Н. Эрнст Юнгер: опыт первоначального понимания жизни и творчества. URL: http://anthropology.ru/ru/text/solonin-yun/ernst-yunger-opyt-pervo nachalnogo-ponimaniya-zhizni-i-tvorchestva (дата обращения: 20.10.2019).
Юнгер Э. Гийемонт // В стальных грозах. URL: http://militera.lib.ru/memo/ german/junger_e/07.html (дата обращения: 21.08.2019).
Юнгер Э. В меловых окопах Шампани // В стальных грозах. URL: http://militera.lib.ru/memo/german/junger_e/01.html (дата обращения: 28.09.2019).
Юнгер Э. Великая битва // В стальных грозах. URL: http://militera.lib.ru/ memo/german/junger_e/17.html (дата обращения: 28.09.2019).
Юнгер Э. Двойная битва при Камбре // В стальных грозах. URL: http://militera.lib.ru/memo/german/junger_e/15.html (дата обращения: 21.08.2019).
Юнгер Э. Против индусов // В стальных грозах. URL: http://militera.lib.ru/ memo/german/junger_e/11.html (дата обращения: 20.10.2019).
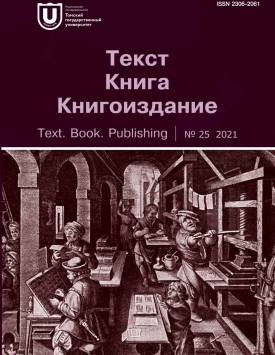

 Вы можете добавить статью
Вы можете добавить статью