Проблема художественной перцептивности рассматривается в аспекте текстовой деятельности. Демонстрируется, что языковые средства создания перцептивных образов являются инструментом анализа семантического пространства художественного произведения. В результате сопоставительного анализа оригинального и переводного текстов выявлены особенности репрезентации перцептивной картины мира автора и переводчика, реализованные на разных текстовых уровнях. Поэтические трансформации свидетельствуют об «особом типе перцептивности», характерном для словацкого поэта как представителя символистского направления.
Perceptual Images in the Poetry of Slovak Symbolists (Based on the Original and Translated Poems by Ivan Krasko).pdf В рамках современной лингвосенсорики проблема художественной перцептивности является одной из активно разрабатываемых и актуальных (см.: работы В.К. Харченко [1], О.Ю. Авдевниной [2], Л.Б. Крюковой [3], С. Корычанковой и соавт. [4], С.Ю. Лавровой [5] и др.). А.В. Бондарко, определяя «образно-поэтическую перцептивность», отмечал, что в художественном тексте элементы наблюдаемости обладают образной конкретностью, которая связана с поэтическим временем, пространством и образом перцептора, восприятием мира и выражением его чувств и мыслей [6. С. 277-279]. В процессе изучения способов языковой репрезентации перцептивной семантики особое внимание уделяется декодированию индивидуально-авторских Л.Б. Крюкова, И.В. Дулебова 6 смыслов в семантическом и концептуальном пространстве художественного произведения. В предлагаемой статье авторы рассматривают категорию восприятия в аспекте текстовой деятельности и показывают, что языковые средства создания перцептивных образов являются инструментом анализа художественного текста, а также позволяют исследовать художественную картину мира отдельного автора в рамках определенного литературного направления. Понятие «перцептивный образ» пришло в лингвистику из психологии. А.Н. Леонтьев отмечал взаимодействие в перцептивном образе трех основных компонентов - чувственной ткани, значения и личностного смысла [7. С. 251-261]. Наряду с перцептивным образом в процессе филологического анализа художественного текста используется понятие «чувственный образ» [8. С. 77], или «сенсорный образ» [1. С. 71-72], который рассматривается как родовое понятие по отношению к видовым чувственным образам: зрительным, слуховым, осязательным, обонятельным, вкусовым. С.Ю. Лаврова определяет перцептивный образ как «ментальный оценочный образ, физиологической основой которого является сенсорная составляющая»; это «одна из форм субъективного образа, получающего конкретное лексико-грамматическое наполнение в индивидуально-авторской модели мира субъекта» [5. С. 44]. В аспекте текстообразования принципиальным является то, что перцептивный образ - это исследовательский конструкт, который может быть рассмотрен в качестве аксиологического знака художественного мира конкретного автора (субъекта восприятия) [Там же. С. 110-111]. В поэтическом произведении движение от конкретного смысла (наглядность, зрительность, картинность) к переносному и отвлеченному является композиционным приемом [9. С. 126]. Перцептивный образ рассматривается как разновидность художественного образа, высшей ступенью проявления которого является образ-символ [Там же. С. 125]. Именно в произведениях поэтов-символистов образ-символ становится основным способом выражения идеи, а метафора (в том числе перцептивная) - главным изобразительно-выразительным средством его языкового воплощения. Значимость перцептивных образов в поэзии символистов подтверждают слова А. Блока, который в работе «О современном состоя- Перцептивные образы в поэзии словацких символистов 7 нии русского символизма» пишет: «Миры, предстающие взору в свете лучезарного меча, становятся все более зовущими; уже из глубины их несутся щемящие музыкальные звуки, призывы, шепоты, почти слова. Вместе с тем они начинают окрашиваться (здесь возникает первое глубокое знание о цветах); наконец, преобладающим является тот цвет, который мне всего легче назвать пурпурно-лиловым (хотя это название, может быть, не вполне точно)...» [10]. Материалом для статьи стали оригинальные стихотворения (и их переводы на русский язык) словацкого поэта-символиста Ивана Краско [11-13], рассматриваемые в контексте славянского символизма. Перцептивные образы, репрезентируемые языковыми единицами с семантикой восприятия в творчестве славянских символистов, позволяют говорить о фрагментах перцептивной картины мира не только конкретного автора, но и целого литературного направления. Цитируя статьи А. Белого, А. Блока, в которых речь идет о форме искусства, в котором звучит «мелодия мироздания» и «всякое движение рождается из духа музыки», Н. Шведова подчеркивает, что музыка определяет поэзию всего славянского символизма, в частности творчество чешского символиста Отокара Бржезины и словацкого символиста Ивана Краско [14]. Перцептивная семантика в произведениях русских символистов А. Блока, К. Бальмонта, В. Брюсова и других анализируется в работах российских авторов И. Блинова [15], С. Лавровой [5] и др. Анализ перцептивных образов в поэзии О. Бржезины представлен в цикле работ С. Корычанковой и Л. Крюковой [4]. В статье о слове и познании в словацком, чешском и русском символизме Н. Шведова пишет о том, что символисты стремились запечатлеть процесс создания стихов во всей его магической необъяснимости, проследить путь от таинственной музыки, приходящей к поэту извне, до ее трансформации в доступные человеку поэтические образы [14]. Роль художника в символизме - «роль носителя внутреннего слова, органа мировой души, ознаменователя сокровенной связи сущего, тайновидца и тайнотворца жизни» [16. С. 132]. «Художник может быть ослеплен и сожжен невыносимым для глаз сиянием, оглушен мощью звука и т.п. Он либо утратит связь с “творческим разумом” и погибнет - как живописец Михаил Врубель, чью судьбу остро переживали поэты-символисты, - либо не сможет (не захочет) отыскивать новые слова, чувствуя их неадекватность внутреннему опыту» [14]. Л.Б. Крюкова, И.В. Дулебова 8 Иван Краско (1876-1958) - поэт-символист, виднейший представитель Словацкой Модерны. Один из исследователей творчества поэта словацкий литературовед Ян Замбор отмечает: «Лирика Краско представляет собой самую выразительную словацкую модификацию европейского поэтического символизма. Поэт направил словацкую поэзию на внутренние проблемы человека и свои стихи в позднем стихотворении Vpisane do knizky (“Записано в книжку”) назвал “всхлипами души”»1 [17. S. 5]. Одной из основных жанровых форм поэзии Ивана Краско является песня, для которой характерны частые повторы слов и целых синтаксических конструкций, поддерживаемые ритмико-звуковой организацией. Повторы призваны создать эмоциональную атмосферу, «настроение». Кроме того, повторы слов и целых лексических групп являются важнейшими составляющими знаменитой «музыкальности» поэзии И. Краско [18. S. 151-152]. О том, что в поэзии И. Краско форма является содержательно значимой, пишет и словацкий литературовед Валер Микула: «Повторы у Ивана Краско, по-видимому, являются симптомом какого-то движения по кругу. По кругу главных вопросов о жизни, смерти, о назначении человека, вопросов, которые остались без ответов. Поэтому, когда Краско находит новый способ речи, использующий символы как готовые значения и единицы стабильной реальности, он этот круг не прорывает их решением, а лишь переступает его» [19. S. 113]. Исследователь отмечает: «...в его поэзии накапливается эмоциональное напряжение как результат тяжести неразрешимых вопросов о жизни и смерти» [Ibid. S. 112]. Поэзия Ивана Краско, как и творчество многих европейских символистов, наполнена атмосферой ночи и сумерек, что символизирует в стихотворениях словацкого поэта ощущение серости и трагичности жизни. «Краско не воспевает ночь, а переносит ее в страдания и ожидания утра» [20. S. 182]. «Варьирующие образы ночи и серых дней семантически родственны и указывают на негативные стороны мироощущения поэта. Они выступают в качестве образов природы , являются спутниками одиночества лирического субъекта . Внешнее и внутреннее пространство у Краско неотделимы» [17. S. 7]. 1 Здесь и далее перевод со словацкого языка наш. - И.Д. Перцептивные образы в поэзии словацких символистов 9 С поэтическим творчеством И. Краско в словацкую поэзию вошло новое видение и изображение природы, которое «характеризуется постепенным ростом смысловых соотношений между параллельным природным и психологическим контекстом стихотворения и символизацией психических состояний в образе природы» [20. S. 183]. «Роль природных мотивов в создании одного из основных композиционных принципов лирики Краско дает понять, что сами природные явления являются для поэта не только предметом поэтического изображения, но и важнейшей составляющей внутренней смысловой атмосферы его поэзии. Образы природы, входящие в стихотворения Краско, появляются в тесной взаимосвязи с внутренними (психическими) состояниями лирического героя, но не теряют при этом свою конкретную природную сущность и свое реальное содержание. И именно данное смысловое напряжение между двумя этими реальными контекстами, психическим и природным, становится еще одной композиционной осью многих стихотворений Краско» [18. S. 159]. Перцептивная картина мира в поэзии И. Краско до настоящего момента не становилась предметом отдельного лингвистического исследования, но в литературоведческих статьях, посвященных творчеству словацкого поэта, встречаются высказывания и рассуждения, напрямую связанные с данной проблематикой. Например, анализируя сонет Len tebe («Лишь тебе») в сопоставлении со стихотворением А. Блока «Предчувствую Тебя.», Н. Шведова отмечает, что именно использование перцептивной семантики подтверждает принадлежность стихотворения к символистскому направлению: «Даже цветовой контраст в нем - сугубо символистский: в катренах - черный и белый цвета (ночь, порог небытия - и свет, девственность), в первом терцете - “золото” и “пурпур”, “священные цвета”, как бы земное явление чистой белизны и цвет очищающего страдания, и вновь единый луч, светящий “в глубоких тьмах”, - в последней строке» [14]. «Чувства, чувственное восприятие реальности в творчестве Краско - это отнюдь не стилизация под наивность первой детской встречи с миром и фиксация на чистую доску мозга и памяти. Это восприятие, ориентированное на классификацию явлений, входящих в угол его зрения, воспитанное разумом» [21. S. 105]. Л.Б. Крюкова, И.В. Дулебова 10 Иван Краско вошел в словацкую литературу как поэт «ночи и одиночества», так назывался и его первый сборник стихотворений - «Nox et solitudo» (1909) [11-13]. Ключевыми художественными образами в его стихотворениях становятся именно перцептивные (в основном зрительные): noc (ночь), sumrak (сумерки), mlha (туман), zamraceny den (пасмурный день), zapad slnka (закат), svitanie (рассвет), луна (mesiac) и др. В названный сборник входит 28 стихотворений, лишь малая часть которых переведена на русский язык. Рассмотрим стихотворение Moje piesne («Мои песни») [13. S. 50] в перцептивном аспекте. Переводов, выполненных русскими поэтами-символистами, найти не удалось, поэтому к поуровневому лингвистическому анализу привлечен поэтический перевод А.А. Ахматовой из сборника «Голоса поэтов» [22. С. 58]. Предположение авторов статьи о том, что такое сопоставление может прояснить некоторые черты перцептивной семантики, характерные для символистской эстетики, можно подтвердить, опираясь на актуальное исследование Яна Замбора (2018), который пишет: «Одновременно с родственными знаками между творчеством этих выдающихся поэтов есть и существенные различия. Лирика Краско связана с символизмом, Ахматовой с акмеизмом, который воспринимался как ревизия символизма» [23. S. 296]. В свою новую книгу словацкий исследователь включил эссе Achmatovovej preklady dvoch basrn Ivana Kraska («Два стихотворения Ивана Краско в переводе Ахматовой»), в котором представлен анализ двух стихотворений - Moje piesne («Мои песни») и Len tebe («Лишь к одной единой»). «Эвокация атмосферы, которая у Краско является и эвокацией душевного состояния, приобретает у Ахматовой иной облик. От символической атмосферности Ахматова делает сдвиг к более высокой мере акмеистической определенности и конкретности. Одновременно редуцируются символистические повторы выражений, что связано с ахматовской собственной акмеистической поэтикой. Модификации поэтессе диктовали в первую очередь ее собственная поэтика акмеизма и характер ее поэтической личности. Можно даже сказать, что своим переводом она интегрировала оба анализируемых стихотворения словацкого модернизма в собственную оригинальную поэзию» [Ibid. S. 305]. 11 Перцептивные образы в поэзии словацких символистов Ivan Krasko Moje piesne «Мои песни» (подстрочник) А.А. Ахматова «Мои песни» Ach, vsednosf v dusu, jako mlha seda v dolinu, mlkvo, jednotvarne seda. Ах, обыденность в душу, как туман седой в долину, молчаливо, однообразно садится. Обыденность мне на душу легла, как на безмолвный дол седая мгла. Tu vsednosf-mlhu niekdy vyhnaf chce sa, by vidief bolo horu, suu zelen lesa Эту обыденность-туман иногда хочется выгнать, чтобы видно было гору, бескрайнюю зелень леса Мне хочется, чтоб схлынула завеса, чтоб видеть гребень гор, и зелень леса, a modro neba, belosf dial’nej viesky i striebro riavy, jako hadze blesky v dolinu, vzkvetlu tisfcerym kvetom, и синеву неба, белизну далекого селенья и серебро потока, как бросает блески в долину, расцветшую тысячным цветком, и белизну далекого селенья, и синь небес, и ручейков кипенье, их брызги, блестки в беге торопливом, motyl’a na nej s krivolakym letom a topol’ stlhly, jako vozvys pne sa, jak siahaf chcel by hore na nebesa, бабочку на ней с извилистым полетом и тополь стройный, как вверх тянется, как подняться хотел бы вверх на небеса, и мотылька в полете прихотливом, и пестрый луг, и тополь одинокий, что ввысь стремится к синеве далекой... by vidief bolo divu ruzu na strmine a bozie muky dole v cintorme... было бы видно дикую розу на крутогоре и божьи муки внизу на кладбище... Увидеть вновь шиповник над обрывом, распятье на кладбище молчаливом... Tu vsednosf-mlhu niekdy vyhnaf chce sa. Эту обыденность-туман порой выгнать хочется. Мне хочется, чтоб схлынула завеса. Название стихотворения в контексте поэтического творчества Ивана Краско имеет принципиальное значение. Как уже было сказано, для поэтики словацкого символиста значима форма песни. Н. Шведова, ссылаясь на словацкие источники, пишет, что стихотворение Piesen («Песня») - это «обозначенная пунктиром “песнь жизни”: две судьбы и жизненная программа - в трех маленьких строфах» [14]. В ориги- Л.Б. Крюкова, И.В. Дулебова 12 нальном творчестве А. Ахматовой также встречаются «песни»: «Песня последней встречи...», «Песня о песне», «Песенка» и др. [24]. В сборник поэтических переводов А. Ахматовой «Г олоса поэтов» [22] включено 5 стихотворений Ивана Краско, среди которых Piesen («Песня»), Balada («Баллада») и Moje piesne («Мои песни»). В стихотворении Moje piesne («Мои песни») одной из ключевых лексических единиц, проходящих через все стихотворение и репрезентирующих основной художественный образ, является vsednost / обыденность (повседневность), отражающая внутреннее состояние лирического героя. В оригинальном тексте стихотворения соответствующая лексема встречается в первой, второй и заключительной строках. В первом высказывании принципиальным становится сравнение, которое свидетельствует о том, что стихотворение отражает основную концепцию символистской поэтики И. Краско: Ach, vsednost v dusu, jako mlha seda / v dolinu, mlkvo, jednotvarne seda (Ах, обыденность в душу, как туман седой / в долину, молчаливо, однообразно садится). Как отмечает Н. Шведова, «туман - очень важный образ в системе Краско. Это прежде всего реальный туман, который получает символические значения. Основное значение - туман как завеса, скрывающая суть вещей. Символ намечен в стихотворении “Мои песни” -“туман-повседневность” - и обретает гносеологический смысл в произведении “Я”: “широко расползшийся седой туман”, скрывший в себе загадки жизни, веры и безверия» [25]. В стихотворениях словацкого поэта туман свидетельствует о неясности, нечеткости воспринимаемого зрением (видимого): Cnie clivo smutok lesov v tvrdost vecera / a v udolinu hmla uz spadla. / O, tvoje oko niekam pozera / a dusa jak by denne klesla plakala [13. S. 63] (Переходит тоскливо грусть лесов в твердость вечера, / А в долину уже ложится туман. / О, твой глаз глядит куда-то, / А душа как будто в дневном упадке плакала); Ale nie: iba chaos vsetkeho toho, dusna neurcitost, / stra rozptylena seda hmla... / (A to som ja, i ty, pokrytce) [Ibid. S. 91] (Но нет: только хаос всего вокруг, душная неопределенность, /Широко рассеянный серый туман, / (А это я и ты, лицемер)). Туман репрезентирует атмосферу загадочности (непознанности), неопределенности, многоплановости, характерную для символист- Перцептивные образы в поэзии словацких символистов 13 ской поэтики: hmly dna (туманы дня), hmla snov (туман снов), hmliste vzdialenosti (туманные дали) и др. Туман в контексте лирики Ивана Краско «не указывает на что-то эмпирически конкретное, но сам по себе является символом бесперспективности, неясности и морального хаоса жизни. Слово “туман” для того, кто знает лирику Краско, означает одновременно и природный факт пейзажа, и нечто иное, высшее, символ хаоса существования» [26. S. 67]. В оригинальном стихотворении Moje piesne и в переводе А. Ахматовой vsednost’-тШа / обыденность-туман является художественным образом, который может быть охарактеризован как перцептивный, так как репрезентируется в первую очередь языковыми единицами с семантикой зрительного и слухового восприятия. В анализируемом произведении перцептивные образы представляют собой некую систему, т.е. в аспекте текстообразования, наряду с образным строем произведения [27. С. 142], можно говорить о перцептивном строе поэтического текста, характерного для символистской поэтики [28. C. 51]. Как уже было отмечено, центром первого двустишья является сравнение, отражающее комплексное восприятие «реальной действительности»: mlha seda, mlkvo (седая мгла, молчаливо). Одновременность зрительного и слухового восприятия (часто синестезия) характерна для поэтики символистов [15]. Стоит обратить внимание на то, что в оригинале глагол sediet’ (садиться) не имеет семы «восприятие», а в переводе А. Ахматовой глагол лечь косвенно может указывать на тактильное восприятие: «3. Распространиться по поверхности, покрыть собой что-л.» или репрезентировать переносное значением (в устойчивом словосочетании): «7. перен. В сочетании со словами на душу, на совесть, на сердце означает: стать предметом затаенных забот, постоянной тревоги, размышлений и т.п.» [29. С. 180]. О глаголах sediet и лечь и их роли в оригинальном и переводном поэтическом тексте пишет Ян Замбор: «В оригинале vsednost на душу садится, что отражает процесс, в переводе словом легла представлено одноразовое завершенное действие. Усаживание в оригинале характеризуется двумя наречиями mlkvo, jednotvarne, в переводе значение jednotvarne теряется, а значение mlkvo относится к долине (безмолвный дол)» [23. S. 305]. И в оригинале, и в переводе актуализируется взаимообусловленность зрительного восприятия и внутреннего состояния лирического Л.Б. Крюкова, И.В. Дулебова 14 героя, что реализуется на лексическом и синтаксическом уровнях стихотворения. Используется безличная конструкция с возвратным модальным глаголом chce sa / хочется, подтверждающая мысль о том, что в стихотворении И. Краско vsednost’-mlha / обыденность-туман не позволяет увидеть (познать) суть вещей. Несмотря на то, что грамматические конструкции, отражающие зрительное восприятие, в двух вариантах стихотворения не совпадают - by vidiet bolo (чтобы видно было) / чтобы видеть, они реализуют одну идею - идею цели (очевиден транспозиционный перенос: зрительное восприятие - мыслительная деятельность). И в оригинальном, и в переводном тексте реализуется семантика цвета, что важно для создания «полноценного» пейзажа. Для репрезентации цвета используются не прилагательные, а существительные, акцентирующие внимание на значимости (самодостаточности) данного признака: zelen, modro, belost / зелень, синева, белизна (о цветовых образах у символистов см. напр.: [4]). В оригинале о зрительном восприятии свидетельствует striebro, blesky (серебро, блески). В других стихотворениях сборника данные перцептивные единицы также встречаются: ...neplala si, / jak luna striebrom bielym, tmavym na oltar (.не горела ты /Как луна серебром белым, темным на алтарь [13. S. 96]; O striebre zmienil sa, o bielom jagote (О серебре говорил, о белом блеске) [Ibid. S. 106]. В поэтическом переводе А. Ахматовой серебро и блески отсутствуют, есть только брызги и блестки, характеризующие не riavy (поток), а ручейки. В данном фрагменте можно отметить несколько деталей. В оригинале - hora (гора) и srn zelen lesa (бескрайняя зелень леса), в переводе -гребень гор и зелень леса. Существительное гребень визуализирует образ, делает его более конкретным (детализированным), то же можно сказать об отсутствии в поэтическом переводе определения бескрайний. В статье о пейзаже в творчестве словацкого поэта Н. Шведова пишет: «Горы в стихах Краско - как правило, “чёрные” Это устойчивое определение сродни сказочному. Горы либо усиливают загадочность происходящего (некая декорация-преграда), либо напоминают о гористой родине - и тогда уже становятся “своими”, не страшными». Цветы в поэзии И. Краско являются символом любви, которая не умирает и «вспыхивает огнем вопреки телесной недолговечности» [25]. Перцептивные образы в поэзии словацких символистов 15 В оригинальном тексте описываемая картина, которую стремится увидеть лирический герой, включает цветы: v dolinu, vzkvetlu tisicerym kvetom (в долину, расцветшую цветами). В переводе А. Ахматовой образ пестрого луга, с содержательной / внутренней стороны, более обобщенный (не только цветы), а с другой, формальной / внешней, -более «простой» (конкретный), о чем свидетельствует слово пестрый. И в том и в другом варианте описывается необычный полет бабочки (в переводе - мотылька): motyTa na nej s krivolakym letom (бабочку на ней с извилистым полетом) / и мотылька в полете прихотливом. В оригинальном варианте визуальность представлена более ярко, чем в переводе, при этом эпитет прихотливый в стихотворении А. Ахматовой актуализирует необычность, индивидуальность, неповторимость. В анализируемом стихотворении важным становится описание тополя: a topoT stihly, jako vozvys pne sa, / jak siahat’ chcel by hore na nebesa (и тополь стройный, как вверх тянется, / как подняться хотел бы вверх на небеса). Тополь - это один из ключевых художественных образов-символов в поэзии И. Краско. В стихотворении Topole («Тополя») тополя характеризуются как гордые / hrde, высочайшие / vysocizne, большие / veTke , черные / cierne, нагие / nahe, способные вынести все невзгоды жизни, «похожие на призраков или духов из иного мира, на заговорщиков, на обладателей тайного знания. С ними лирический герой сравнивает свой дух. Мятежность и неподвижность, некая важная мысль и молчание - эти противоречия составляют драму лирического героя, такого же одинокого «тополя» [25]. В словацком варианте анализируемого стихотворения нет определения одинокий, но данный смысл восстанавливается в широком контексте творчества. Определение stihly / стройный в ближайшем контексте вступает в отношения дополнения и, возможно, усиления с лексемой vozvyspne sa (тянется вверх) и конструкцией jak siahat chcel by hore na nebesa (как далеко он хотел бы подняться на небеса). Выявленные отличия в оригинальном и переводном стихотворении могут свидетельствовать о различиях в мировосприятии двух поэтов: более образном / возвышенном и более конкретном: divu rum (дикую розу) / шиповник, bozie muky dole v cintorine (божьи муки внизу на кладбище) /распятье на кладбище молчаливом. В оригинале ярко выражено характерное для символизма противопоставление hore / Л.Б. Крюкова, И.В. Дулебова 16 верха и dole / низа (земного и небесного). В переводе данное противопоставление сохраняется, но представлено оно иначе, конкретнее: гребень гор, обрыв. Последняя строка возвращает читателя к началу стихотворения и отделена графически от основного текста, что свидетельствует о ее значимости. «Интересно, что Ахматова выпускает и ряд черточек перед последней строкой стихотворения, чем также достаточно сильно модифицирует поэтику Краско. Речь здесь идет не только о средстве композиции , но о продолжении паузы, заданной троеточием в предпоследней строке, о паузе, передышке как одном из важнейших составляющих невербального семантического пространства стихотворения» [23. S. 305]. В оригинале есть наречие niekdy (иногда, порой), отсутствующее в переводе и свидетельствующее о сложности, неоднозначности восприятия и душевного состояния лирического героя. Возможно, именно об этом пишет Ян Замбор: «Ахматова последовательно частично заменяет неличностную стилизацию стихотворения Краско личностной, используя личное местоимение мне в первой и последней строке. В стихотворении, таким образом, ослабляется свойственный Краско принм объективирующей функции высказываний лирического субъекта» [Ibid. S. 305]. Лингвистический анализ одного стихотворения не дает возможности сделать общие выводы, но позволяет выделить отдельные моменты, касающиеся перцептивной картины мира автора и переводчика и ее репрезентации на разных текстовых уровнях. На лексическом уровне наблюдается сходные черты оригинального и переводного текста: для описания пейзажа используются существительные и прилагательные с семантикой зрительного восприятия: зелень, белизна, синева и др. Различия на формально-синтаксическом уровне обусловлены особенностями синтаксического строя словацкого и русского языков, но пропозитивная семантика в целом совпадает. На стилистическом уровне незначительные отличия могут быть обусловлены авторским мировосприятием: символистским у И. Краско и акмеистским у А. Ахматовой. В оригинальном тексте основные образы представлены словосочетаниями с более абстрактным значением, что порой наводит на философские размышления о смысле жизни, добре и зле, земном и небесном: bozie muky dole v cintorine, striebro riavy, v dolinu, vzkvetlu Перцептивные образы в поэзии словацких символистов 17 tisteerym kvetom; в переводе образы более конкретны (предметны): распятье, шиповник, блестки, гребенъ, обрыв. В заключение можно отметить, что сопоставительный анализ перцептивных образов в оригинальном стихотворении и поэтическом переводе еще раз подтверждает основные положения словацких исследователей [17-19, 23] о том, что для творчества Ивана Краско характерен поэтический параллелизм между внутренним состоянием лирического героя и окружающей его природой. Поэтические трансформации, репрезентированные в процессе перевода различными языковыми средствами с перцептивной семантикой, свидетельствуют об «особом типе перцептивности», характерном для словацкого поэта как представителя символистского направления.
Харченко В.К. Лингвосенсорика. Фундаментальные и прикладные аспекты. М. : Либроком, 2012. 216 с.
Авдевнина О.Ю. Перцептивная семантика: закономерности формирования и потенциал художественной реализации. Саратов : Изд-во Саратов. ун-та, 2013. 340 с.
Крюкова Л.Б. Языковые средства с перцептивной семантикой и их роль в формировании ключевых поэтических образов (на материале творчества русских, чешских и испанских символистов) // Язык и культура. 2014. № 1 (25). С. 31-40.
Корычанкова С., Крюкова Л., Хизниченко А. Поэтическая картина мира сквозь призму категории перцептивности. Bmo : Masarykova univerzita, 2016. 236 с.
Лаврова С.Ю. Говорящий как наблюдатель: лингвоаксиологический аспект. Череповец : Череповец. гос. ун-т, 2017. 240 с.
Бондарко А.В. К вопросу о перцептивности // Сокровенные смыслы: Слово. Текст. Культура. М. : Языки славянской культуры, 2004. С. 276-282.
Леонтьев А.Н. Избранные психологические произведения. М. : Педагогика, 1983. Т. 1. 392 с.
Николина Н.А. Филологический анализ текста. М. : Академия, 2003. 236 с.
Валгина Н.С. Теория текста. М. : Логос, 2004. 280 с.
Блок А.А. О современном состоянии русского символизма. URL: http: // dugward.ru/library/blok/blok_o_sovremennom_so stoyanii.html
Krasko I. Nox et solitudo. Verse. Bratislava : Tatran, 1975. 82 s.
Krasko I. Basnicke dielo. Bratislava : Kalligram, 2005. 325 s.
Krasko I. Suborne dielo Ivana Krasku. Zvazok prvy. Poezia. Bratislava : Vydavatel’stvo slovenskej akademii vied, 1966. 500 s.
Шведова Н. «Творческий разум осилил - убил» (слово и познание в русском, словацком, чешском символизме) // Меценат и мир. 2001. № 14-16. URL: http://www.mecenat-and-world.ru/14-16/shvedova.htm
Блинов И. Синестезия в поэзии русских символистов // Проблема комплексного изучения художественного творчества. Казань : Изд-во Казан. гос. унта, 1980. С. 119-124. URL: http://synesthesia.prometheus.kai.ru/blinov.htm
Иванов В.И. Опыты эстетические и критические. М. : Мусагет, 1916. 351 с. URL: http://www.e-heritage.ru/ras/view/publication/general.html?id=54119995
Zambor J. Ivan Krasko // Portrety slovenskych spisovatel’ov / J. Zambor, A. Boknikova (ed.). Bratislava : Univerzita Komenskeho Bratislava, 1998. I. S. 5-29.
Smatlak S. Vyvin a tvar Kraskovej lyriky. Bratislava : Tatran, 1976. 225 s.
Mikula V. Dva jazyky Ivana Krasku // Ivan Krasko. 1876-1976. V. Turcany (ed.). Bratislava : VEDA, 1978. S. 106-113.
Zambor J. Ivan Krasko a poezia ceskej modemy. Bratislava : Tatran, 1981.208 p.
Beran Z. Zmyslove ladenie Kraskovej poezie // Ivan Krasko. 1876-1976. V. Turcany (ed.). Bratislava : VEDA, 1978. S. 102-105.
Голоса поэтов : стихотворения зарубежных поэтов в переводе А. Ахматовой. М. : Прогресс, 1965. 176 с.
Zambor J. Achmatovovej preklady dvoch basni Ivana Kraska // Stavebnosf basne. Bratislava : LIC., 2018. 367 s.
Ахматова А.А. Сочинения : в 2 т. М. : Худож. лит., 1986. Т. 1: Стихотворения и поэмы. 512 с.
Шведова Н. Символический пейзаж в поэзии Ивана Краско // Меценат и мир. 2002. № 17-20. URL: http://www.mecenat-and-world.ru/17-20/krasko.htm
Stevcek J. Tematika symbolistickej poezie // Ivan Krasko. 1876-1976. V. Turcany (ed.). Bratislava : VEDA, 1978. S. 62-69.
Болотова Н.С. Коммуникативная стилистика текста : словарь-тезаурус. Томск : Изд-во Том. гос. пед. ун-та, 2008. 384 с.
Крюкова Л.Б. Перцептивный строй поэтического текста: к вопросу о терминологическом аппарате исследования // Вестник Томского государственного университета. 2019. № 447. С. 47-54.
Лечь // Словарь русского языка : в 4 т. / под ред. А.П. Евгеньевой. 4-е изд., стереотип. М. : Рус. яз. ; Полиграфресурсы, 1999. Т. 2: К-О. С. 180.
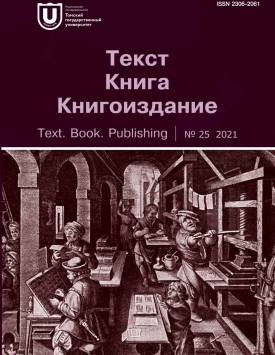

 Вы можете добавить статью
Вы можете добавить статью