Отмечаются большой вклад в изучение истории русской литературы, и особенно творчества Ф.М. Достоевского, принадлежащий В.Н. Захарову, продуктивность его научных разработок (христианский реализм, этнопоэтика, природа парадоксального, фантастического и т.д.), свидетельством чего являются опубликованные в сборнике статьи. В целом их отличают разнообразие тематики и широкий охват материала: это и древнерусская словесность, и литература XVIII, XIX, XX вв., и литература советского периода и русского зарубежья. Рецензия указывает на новизну и перспективность целого ряда сделанных в статьях наблюдений, а также вносит некоторые дополнения и уточнения.
Review: Pigin, A.V. & Andrianova, I.S. (Eds) (2019) Filologiya kak Prizvanie: Sbornik Statey k Yubileyu Professora Vladi.pdf Выход сборника приурочен к юбилею известного в России и за ее пределами литературоведа - Владимира Николаевича Захарова (род. в 1949 г.). Во введении, написанном «коллегами, учениками, друзьями» и озаглавленном «Для меня нет лучшего образования, чем филологическое!», А.Е. Кунильский 172 говорится о жизненном и научном пути В.Н. Захарова. Здесь отмечено, что выбор им филологического образования был глубоко осознанным и объяснялся любовью к литературе, и это позволяет проводить аналогии с биографией Ф.М. Достоевского, который карьере военного инженера предпочел тернистый путь литератора. Очевидно, последующее обращение В.Н. Захарова к творчеству названного писателя было связано с ощущением некоей психологической близости с ним. Я думаю, что не ошибусь, если скажу, что для В.Н. Захарова Достоевский - не просто объект изучения: читая произведения этого автора, исследователь принял его идеи и веру. В условиях советского общества для множества людей сочинения Ф.М. Достоевского были главным источником приобщения к христианским идеям (и не только в советском обществе: летом 2019 г. в беседе с В.В. Путиным Папа Римский Франциск засвидетельствовал, что без книг Достоевского нельзя быть настоящим священником!). Изучение Достоевского позволило В.Н. Захарову прийти к выводу, что вся «русская литература являлась христианской словесностью» -со своеобразным «евангельским» текстом, христианским хронотопом, общим пасхальным, соборным и спасительным характером [1. С. 11-12]. Эти принципиальные положения, определяющие подход к изучению русской литературы, конечно же, не отменяют всей сложности (и порой проиворечивости) ее природы. В этом отношении актуален призыв П. Я. Чаадаева « узнавать действие христианства повсюду, где человеческая мысль каким бы то ни было образом соприкасается с ним, хотя бы с целью ему противоборствовать » [2. С. 47]. Продуктивность выдвинутых В.Н. Захаровым тезисов о христианском реализме, этнопоэтике, особом характере поэтики Достоевского (с ее парадоксальностью, использованием фантастического и т.д.), о значимости текстологических исследований подтверждается представленными в сборнике статьями, использующими и развивающими наработки, содержащиеся в исследованиях юбиляра. Его педагогическая и организаторская деятельность способствовала объединению научных сил, приходу в достоевсковедение и текстологию молодых ученых, которые сегодня весьма плодотворно трудятся. Содержание рецензируемого сборника невозможно отразить в краткой рецензии, настолько разнообразна тематика составляющих его статей, настолько широк охват материала: это и древнерусская сло- Рецензия на сборник статей к юбилею Владимира Николаевича Захарова 173 весность, и литература XVIII, XIX, XX вв., и литература советского периода и русского зарубежья. Авторы работ - и молодые исследователи и очень известные заслуженные ученые. Анализ статьи каждого из них требует специальной подготовки, глубокого осмысления. Не претендуя на это, по необходимости ограничусь изложением возникших у меня при чтении соображений. Первый раздел книги содержит исследования, посвященные творчеству Достоевского и его связям с другими авторами. Так, в статье В.А. Кошелева «Еще о поэтике парадокса: Барон Брамбеус как “предтеча” Достоевского» говорится о том, что этот известный персонаж О.И. Сенковского «явно приближался к поэтике “Дневника Писателя”» [1. C. 23]. Действительно, понятие «парадокса» и образ «парадоксалиста» играют заметную роль в рассуждениях Достоевского, но не для того, чтобы щегольнуть оригинальностью и отстраненно зафиксировать комизм и абсурдность бытия. Часто «парадоксальными» у Достоевского оказываются идеи, противоречащие расхожим представлениям, но заключающие в себе, по мнению автора, истину Например, его «парадоксалист» спорит со словами «необразованного москвича» Чацкого: « чтоб иметь детей, Кому ума недоставало?» -и утверждает: « иметь детей и родить их - есть самое главное и самое серьезное дело в мире, было и не переставало быть. “Кому недоставало ума, скажите, пожалуйста?” Да вот же недостает: современная женщина в Европе перестает родить. Про наших я пока умолчу» [3. С. 92]. Сопоставление Достоевского с другими писателями необходимо -чтобы обнаружить генетическое или типологическое сходство, но и указать на существующие различия, без чего невозможно говорить о творческой индивидуальности. Статья Н.В. Пращерук «Диалог с Ф.М. Достоевским в романе Е.Р. Домбровской “Путь открылся... Чехов. Духовные странствия Тимофея диакона”» затрагивает вопрос о глубинных основах мировоззрения двух великих русских писателей. Автор полагает, что в понимании красоты Чехов продолжает Достоевского [1. C. 239], что творчеству обоих присущ «христоцентризм» [Там же. С. 242], что «двух классиков XIX века роднит верность евангельскому духу» [Там же. С. 252]. Получается, что духовно писатели очень близки друг другу. Между тем многие воспоминания о Чехове свидетельствуют об обратном. Чехов формировался в среде, для кото- А.Е. Кунильский 174 рой был характерен культ Салтыкова-Щедрина, революционные (нигилистические) шестидесятые годы он называл «святыми» [4. С. 15, 16], говорил, что любовь к колокольному звону - это все, что у него осталось от веры [5. С. 547], считал закономерным и неизбежным отделение Сибири [Там же. С. 510, 526], боялся победы России в русскояпонской войне, потому что «наша победа означала бы укрепление самодержавия, укрепление того гнета, в котором мы задыхаемся. Эта победа остановила бы надвигающуюся революцию» [Там же. С. 611]. Трудно представить что-нибудь более враждебное взглядам Достоевского. В начале XX столетия Чехов был убежден, что «хорошая жизнь для России придвинулась вплотную, что вот-вот сейчас перестроится вся Россия по-новому, светлому, радостному» [Там же. С. 564]. В это время он разошелся с бывшими коллегами из «Нового времени», в том числе «мерзавцем Меньшиковым». В 1918 г. М.О. Меньшиков был расстрелян чекистами на глазах его шестерых детей. Чехов не увидел того, как начиналось «светлое» будущее, но вот Достоевский это предвидел. Кстати, чтение произведений Достоевского Чехов долго откладывал, а когда прочитал, то «большого впечатления не получил» [Там же. С. 285]. Другой мемуарист вспоминает, что впечатление было тяжелым [Там же. С. 574]. Очевидно, эти факты следует принимать во внимание, когды мы говорим на тему «Чехов и Достоевский». Позволю также сделать некоторое уточнение в связи с названной выше статьей. Справедливо указывая на особое значение книги митрополита Антония (Храповицкого) «Пастырское изучение людей и жизни по произведениям Ф.М. Достоевского», исследовательница отмечает, что митрополит «был знаком с Достоевским, много с ним беседовал» [1. С. 247]. Принять эту информацию можно в том случае, если мы будем понимать ее иносказательно - так же, как понимаем слова Пушкина, обращенные к Гнедичу: «С Гомером долго ты беседовал один». В предисловии к книге митрополита Антония архиепископ Никон (Рклицкий) пишет: «Владыка Антоний был восторженным слушателем Достоевского на литературных вечерах в С.-Петербурге, хотя лично с Достоевским никогда не встречался и с ним не говорил». Когда Достоевский скончался, Алеше Храповицкому было 18 лет [6. С. VI, 201]. Статья В.А. Викторовича «“Медный всадник” в творчестве Ф.М. Достоевского» обращает внимание на важное значение пушкинской поэмы Рецензия на сборник статей к юбилею Владимира Николаевича Захарова 175 для автора «Двойника», «Преступления и наказания», «Дневника писателя» и других произведений. Как это ни удивительно, но в XIX в., может быть, только Достоевский оказался способным адекватно воспринять этот шедевр Пушкина и осознать его художественный и историософский масштаб. Этот факт точно отражен в тезисах В.А. Викторовича: «Поэма о Петре и Евгении стала частью пушкинского кода русской литературы, получив возможность наращивать смысловой потенциал в последующих эпохах. Так, Достоевский открывает в прототексте все новые и новые ресурсы, реализуя их в собственных произведениях» [1. С. 145]. В.А. Викторович показывает, как мотивы «Медного всадника» проходят через все творчество Достоевского, начиная с повести «Двойник». Сравнивая персонажей этих двух произведений, исследователь замечает: «В отличие от Пушкина, у Достоевского деструкция исходит как от враждебного мира, так и от амбициозной личности героя» [Там же. С. 145]. Действительно, Евгений как будто бы лишен гордыни, присущей романтическому герою и Голядкину, но и у него есть претензии к Богу («мог бы Бог ему прибавить ума и денег»), на статуе льва он сидит, скрестив руки (как Наполеон?). Хотя, конечно же, такие черты в описании Евгения, как «обуянный силой черной» и «злобно задрожав», можно интерпретировать как «индуцированную» деструкцию, т.е. пробужденную в душе героя трагическими обстоятельствами (враждебным міром). В конце статьи В.А. Викторович вспоминает о факте полемики Достоевского с Пушкиным: «По поводу знаменитого “Люблю тебя, Петра творенье” он чуть позднее оговаривается: “Виноват, не люблю его. Окна, дырья - и монумент”» [Там же. С. 155]. О позиции Достоевского можно заметить, что он, как и славянофилы (в частности, Константин Аксаков в стихотворении «Петру»), наверное, излишне демонизировал Петербург, не замечая таких проявлений его «русскости», как свойственное его жителям любовное почитание блаженной Ксении. Аполлон Григорьев писал: « право, славянофильская вражда к Петербургу в настоящую минуту лишена даже смысла. Петербург теперь город как всякий другой» [7. С. 491]. Идейной перекличке двух больших русских писателей посвящена статья Б.Н. Тарасова «Утопизм западного рационализма, позитивизма и утилитаризма в зеркале антропологической и историософской мыс- А.Е. Кунильский 176 ли Ф.М. Достоевского и В.Ф. Одоевского». Достоевский начинает свой первый роман «Бедные люди» эпиграфом из Одоевского, Одоевский - один из тех, кто приветствовал этот дебют молодого писателя. Но было нечто большее, что их объединяло, - неприятие тех проявлений «просвещения Европы» (как сказал бы Иван Киреевский), что обозначены в заглавии статьи Б.Н. Тарасова. Неслучайно столь важное значение придается обоими понятиям - «жизни», «живой жизни». Кстати, Одоевский одним из первых в русской литературе в 1844 г. употребил концепт «живая жизнь» [8. С. 102-103], который впоследствии будет неоднократно использоваться Достоевским. Статья О.В. Захаровой «Проблема жанровой дифференциации повести и романа в полемике о Достоевском в 1840-е годы» является своеобразным продолжением монографии В.Н. Захарова «Система жанров Достоевского: типология и поэтика» [9]. Вопрос об определении жанровой природы литературных произведений XIX в., когда перестала действовать классицистическая поэтика, необыкновенно сложен. Достаточно указать на 14 произведений Пушкина, которые печатаются в его собраниях сочинений как поэмы, в то время как сам поэт называл одни из них «поэмами», другие - «повестями», а часть вообще оставил без обозначения жанра. Стремление О.В. Захаровой разобраться с тем, как видели жанр ранних произведений Достоевского современные ему критики, заслуживает внимания и способно помочь в решении обозначенной проблемы. Еще с одной темой, которой занимался В.Н. Захаров, связана работа Б.Н. Тихомирова «Стихотворное “Послание Белинского к Достоевскому”: итоги и проблемы изучения». Со свойственной этому исследователю основательностью и четкостью здесь решается вопрос о вариантах текста и датировке известного стихотворного памфлета, рассорившего молодого Достоевского с кругом Белинского. Одному из романов Достоевского, который на протяжении последних трех десятилетий притягивает внимание ученых, посвящены исследования: Н.А. Тарасовой - «Проблема подготовки реального комментария (на материале романа Ф.М. Достоевского “Идиот”)», В.В. Борисовой и С.С. Шаулова - «Мотив “рокового наследства” в романе Ф.М. Достоевского “Идиот”: реальный, мифопоэтический и историко-литературный комментарий», В.И. Габдуллиной - «Рукопись Ипполита Терентьева в романе Ф.М. Достоевского “Идиот”: Рецензия на сборник статей к юбилею Владимира Николаевича Захарова 177 жанр и нарративные стратегии». Две из названных статей затрагивают проблему комментирования. В этой связи мне вспомнилось выступление на одной из конференций в Музее Достоевского Г.М. Фридлендера, который в очень резкой форме ставил вопрос о необходимости обязательно указывать авторов комментариев, чтобы при использовании не создавалось впечатления об их «бесхозности». И.С. Андрианова - ученица В.Н. Захарова и автор известной книги «Анна Достоевская: призвание и признания» [10] - продолжает изучение того, какое влияние на русскую культуру оказала жена, подруга, помощница и единомышленница Достоевского. Свидетельства актуальности этого влияния содержатся в статье «Метафора игры в сюжете пьесы Э. Радзинского “Старая актриса на роль жены Достоевского”». В первом разделе книги опубликованы и статьи иностранных авторов, свидетельствующие о неизменном интересе на Западе к творчеству Достоевского. В данном случае они представлены работами итальянских исследователей Стефано Алоэ («“Это не просто поэмы...”: несколько заметок на полях письма Ф.М. Достоевского А.Н. Майкову от 15 (27) мая 1869 года») и Антонеллы Кавацца («Ф.М. Достоевский и А.С. Хомяков: сравнение на расстоянии»). Автор последней статьи пишет, что у Достоевского оценка славянофилов «только частично совпадала с восторженным мнением» о них у Аполлона Григорьева [1. С. 209]. На самом деле отношение А.А. Григорьева к славянофилам было более сложным, хотя и отличалось серьезностью и сочувствием -причем тогда, когда другие литераторы отзывались о них насмешливо. Но и он соглашался со славянофилами не всегда и не во всем. Так, явно критическое отношение проглядывает к тому, что Ап. Григорьев характеризует как «парадокс славянофильства насчет лжи всей послепетровской нашей жизни и литературы» [7. С. 477]. Это, в его представлении, связано с тем, что славянофилы (как и западники) были «теоретиками» [Там же. С. 226, 228], далекими от жизни. О работе А.С. Хомякова «Еще несколько слов православного христианина о западных вероисповеданиях...» (ее упоминает в своей статье А. Кавацца) Ап. Григорьев пишет М.П. Погодину: «Читали вы, разумеется брошюру нашего великого софиста и я уразумел, как он себя и других надувает, наш милейший, умнейший софист!» [Там же. С. 301]. Второй раздел книги озаглавлен: «Русская литература XII-XX веков: опыты интерпретации». Исследования, посвященные древнерусской А.Е. Кунильский 178 литературе, отличаются серьезной проработкой материала и в целом высокой филологической культурой. Это статьи Л.В. Соколовой «Каким “рукавом” утирала Ярославна кровавые раны Игоря (к вопросу о поэтике “Слова о полку Игореве”), Т.Ф. Волковой «Сюжетная организация “Казанской истории”», А.В. Пигина «Древнерусская Повесть о Христовом крестнике: проблема жанра». Работа Л.В. Соколовой связана с истолкованием одного из «темных мест» «Слова о полку Игореве» - выражения «бебрянъ рукавъ». Вопреки традиционному представлению о том, что Ярославна собиралась утирать раны князя Игоря бобровым рукавом, исследовательница считает, что речь идет о шелковом платке: «Понять значение выражения “бебрян рукав” помогают работы по истории византийского и древнерусского костюма, анализ выражения “берчат рукав”, встречающегося в былинах, и сербские юнацкие песни, в которых героини, подобно Ярославне, утирают и перевязывают воинам раны» [1. С. 259] Что ж, статья Л.В. Соколовой помогает избавиться от ошибочного понимания, заложенного в нас еще со школьных лет. Вспоминаю, как в школе на Украине мы учили наизусть стихотворение Тараса Шевченко «Плач Ярославны» (1860): «Рукав бобровий омочу В ріці Каялі. I на тілі На княжім білім, по-марнілім Омию кров суху, отру Глибокіі, тяжкіі рани...» Учили мы именно эту редакцию, хотя впоследствии автор исправил «рукав боб-ровий» на «рукав бебряний». Статья И.А. Есаулова, как всегда, сочетает в себе мастерство интерпретации конкретного художественного произведения с широкими историко-литературными обобщениями. Тема работы - «Парафраз и становление новой русской литературы (постановка проблемы)». Здесь «представлена научная гипотеза, согласно которой становление новой русской литературы происходит вследствие не однонаправленного, а двунаправленного воздействия на нее различных по своему происхождению культурных токов» - европейской культуры Нового времени и православной традиции [Там же. C. 331]. Это принципиально важное положение необходимо учитывать при написании истории русской литературы, которая верно передавала бы ее ее сущность и характер развития. Потребность в такой истории велика, потому что до сих пор мы нередко судим об отечественной словесности предвзято, смотрим на нее сквозь даже не розовые, а «красные» очки. Такой тенденциозный подход оказывается более близким не только нашим Рецензия на сборник статей к юбилею Владимира Николаевича Захарова 179 приверженцам советской традиции, но и иностранным славистам, что И.А. Есаулов показывает на примере их сочувственного отношения к работам Г.А. Гуковского [1. C. 338]. Интересные наблюдения содержатся и в других статьях сборника: Н.П. Жилиной - «Идея спасения в думе К.Ф. Рылеева “Владимир Святый”», И.А. Виноградова - «Эсхатология комедии Н.В. Гоголя “Ревизор”», И.А. Киселевой - «О смысловой цельности дефинитивного текста М.Ю. Лермонтова “Демон” (1839)», Н.А. Старыгиной -«Праздник Пасхи как социокультурный текст в рассказе “Фигура” Н.С. Лескова», Т.В. Федосеевой - «Поэтология и аксиология Я.П. Полонского 1860-1880-х годов», А.М. Грачевой - «Истоки и эволюция “теории русского лада” Алексея Ремизова (1900-1920-е гг.)», Ю.В. Розанова -«В.В. Хлебников и А.М. Ремизов: биографические и творческие связи», О.А. Бердниковой - «Поэтика адресованных жанров в творчестве И.А. Бунина», А.Г. Гачевой - «Софийная тема в художественнофилософском наследии Валериана Муравьева: от мистерии “София и Китоврас” к роману “Остров Буян”», Л.Г. Дорофеевой и Т.В. Ларионовой - «Характерологическая функция литургического текста в романе И.С. Шмелева “Пути небесные”», И.А. Спиридоновой - «Мотивы ярости и зверя в рассказе А. Платонова “Одухотворенные люди”», Д.Б. Терешкиной - «“Не зная, куда мы идем, и забыв, откуда мы вышли”: русские в рассказе Гайто Гайданова “Панихида”». Завершается сборник «Хронологическим списком трудов В.Н. Захарова» (365 названий) и публикацией писем известных литературоведов В.Н. Топорова, Н.А. Натовой и А.В. Михайлова. Эти материалы, как и книга в целом, еще раз подтверждают разнообразие научных интересов юбиляра, перспективность его идей, а также благотворность той роли, которую он играет в жизни российского и международного филологического сообщества.
Филология как призвание : сб. ст. к юбилею профессора Владимира Николаевича Захарова / отв. ред. А.В. Пигин, И.С. Андрианова. Петрозаводск : Изд-во ПетрГУ, 2019. 664 с.
Чаадаев П.Я. Статьи и письма. М. : Современник, 1987. 365 с.
Достоевский Ф.М. Полное собрание сочинений : в 30 т. Ленинград : Наука, 1981. Т. 23. 425 с.
Турков А.М. «Неуловимый» Чехов // А.П. Чехов в воспоминаниях современников. М. : Худож. лит., 1986. С. 5-25.
А.П. Чехов в воспоминаниях современников. М. : Худож. лит., 1986. 734 с.
Антоний Храповицкий, митрополит. Ф.М. Достоевский как проповедник возрождения. Монреаль : Изд. Северо-Американской и Канадской епархии, 1965. XVI, 311 с.
Григорьев Ап. Воспоминания / изд. подгот. Б.Ф. Егоров. Ленинград : Наука, 1980. 437 с.
Одоевский В.Ф. Русские ночи. Ленинград : Наука, 1975. 317 с.
Захаров В.Н. Система жанров Достоевского (типология и поэтика). Ленинград : Ленинград. гос. ун-т, 1985. 209 с.
Андрианова И.С. Анна Достоевская: призвание и признания. Петрозаводск : ПетрГУ, 2013. 122 с.
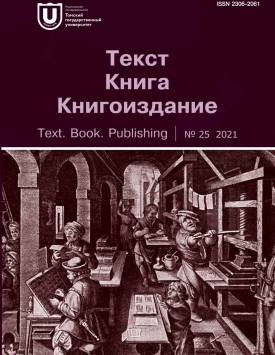

 Вы можете добавить статью
Вы можете добавить статью