Рассмотрены рассказы и очерки сибирского писателя-чиновника Н.И. Наумова 1870-1880-х гг., представленные в сборниках «Сила солому ломит», «В тихом омуте» и «В забытом краю». Исследованы идейно-эстетические особенности изображения в данных произведениях сибирского купечества, оказавшего значительное влияние на формирование культурного ландшафта Сибири. Показано, что данные особенности обусловлены взаимовлиянием различных социальных полей, занимаемых Наумовым в эти годы, и стоявшей перед ним проблемой поиска региональной идентичности.
Siberian Merchants as a Factor in the Formation of the Cultural Landscape of the Region in Nikolay Naumov’s Essays and S.pdf Сибирское купечество как особый социальный и культурный феномен, сыгравший свою роль в формировании культурного ландшафта региона, нашло отражение в целом ряде произведений русской литературы XVIII и XIX вв. [1, 2]. Важное место среди них занимают написанные в 1870-1880-е гг. рассказы и очерки сибирского писателя, многие годы прожившего в Томске, Николая Ивановича Наумова. Вошедшие в пантеон народнической беллетристики, эти произведения, которые можно отнести к текстам «местного самосознания» (так 1 Результаты получены в рамках выполнения государственного задания Минобрнауки России, проект № 0721-2020-0042. В.А. Пржигоцкий 6 данный феномен наименовывался сибирскими областниками), довольно активно изучались в советское и постсоветское время. При этом, если вопросы, связанные с изображением рабочих, крестьян, переселенцев и коренных народов в творчестве Наумова были освещены в разных аспектах в ряде работ [3-9], то образ сибирского купечества в его рассказах и очерках, обращенный к проблеме идентичности, в данном случае региональной, в контексте национального самосознания, остался практически не изученным. Для осмысления такого типа идентичности требуется принять во внимание локальные и общероссийские мифы о Сибири, представляющие ее в противоположных вариантах: и как пространство инициации, и как место страданий и притеснений, беззакония и безысходности. Не менее важно учитывать и идеологические и публицистические дискуссии о Сибири, их диалог в контексте исторического периода, окрашенного идеей сепаратизма сибирского региона, которая базировалась на совмещении представления об отставании Сибири от России и превосходстве первой над последней. Важными факторами интерпретации темы купечества в творчестве писателя-чиновника Наумова можно считать взаимодействие его литературной и служебной деятельности, неоднократные переезды из Сибири в Санкт-Петербург и обратно, а также идеологию сибирского областничества, с которой он солидарен в рассматриваемые десятилетия, и народничества, тоже оказавшего сильное влияние на писателя. Соответственно, целью статьи является анализ особенностей изображения сибирского купечества в произведениях Н.И. Наумова 18701880-х гг. как импликации архетипа, национального типа купца (торговца) в сибирские сюжеты и как движущей силы развития сибирского региона, влияющей, кроме прочего, на становление его культурного пространства, вызревание его идентичности. Проведенный в контексте взаимовлияния занимаемых писателем различных социальных полей анализ со всей очевидностью демонстрирует господство прагматических возможностей сочинений Наумова над художественными. Отталкиваясь от архетипа купца, от национальных традиций его изображения в литературе, Наумов сознательно погружает своих героев купеческого сословия в социополитическую реальность, что, однако, диктовало отказ от индивидуализации героя, его незавершенность. Сибирское купечество как фактор формирования культурного ландшафта 7 Показывая реальность во всей ее подробности, документальной точности, что совпадало с поисками русской литературы конца XIX в., Наумов вместе с тем мифологизировал ее в духе региональной и общероссийской мифологии о Сибири, о чем речь шла выше. И в первую очередь Наумов оказался во власти представлений о Сибири как забытом, отсталом крае и связанных с этим поисков областниками новой идентичности сибиряка, направленных на формирование его личностного начала. Прежде всего под этим углом зрения рассматривалось сибирское крестьянство, отличающееся традиционным, сохраняющим свою силу только в Сибири «общинным» мировоззрением. Уже в своих ранних рассказах Наумов разрушал этот миф, показывая трудный процесс пробуждения в сибирском крестьянине индивидуального начала, его попытки идентифицировать себя как отдельность от общины [10]. Проходящие в ситуации провинциальности, неразвитости Сибири не только в экономическом, но и в культурном плане, эти попытки нередко выливались в разрушительные для человека и социума формы, что и демонстрируют образы сибирских купцов, вышедших из крестьянства и не только отбившихся от общинного образа жизни, но и агрессивно противостоящих всем его устоям, жестоко и цинично уничтожающих все его традиции. В середине 1880-х гг. Наумов писал: «...Ищу везде общину, общинные инстинкты, так звучно воспетые Златовратским и, о горе, не нахожу» (цит. по: [11. С. 393]). О разрушении крестьянской общины в Сибири и о превращении сибирского мужика в хищного единоличника писал и Г.Н. Потанин, вспоминая встречу в Томске с М.А. Бакуниным: «...случайно у него вырывались оригинальные суждения о Сибири, из которых, впрочем, я запомнил только одно. Он мне сказал, что сибирский крестьянин индивидуален. Почему он так думает, оснований он не привел; я запомнил эту фразу только потому, что она была сказана политическим авторитетом, и только вдолге потом я подыскал для нее свое оправдание. Русский крестьянин, землепашец, общинник, коллективист, перейдя через Уральский хребет, превратился в зверолова: жизнь в тайге, часто одинокая наедине с природой, в борьбе с опасностями, требовала от него большей инициативы, и он из коллективиста превратился в индивидуалиста. В то же время земельный простор, найденный крестьянами в Сибири, имел послед- В.А. Пржигоцкий 8 ствием, что на первых порах вместо общинного землепользования в Сибири повсюду завелось заимочное хозяйство» [12. Т. 6. С. 87]. Далее, вспоминая о своем посещении уральской казачьей общины, Потанин писал, что интерес к этой форме крестьянского хозяйствования зародился у него еще до обучения в университете, под влиянием статей Н.Г. Чернышевского. Сравнивая уральскую общину с сибирской, Потанин отмечает, что первая есть «продукт продолжительной исторической русской жизни... последний результат русской кристаллизирующейся жизни. Как законченное произведение русского социального творчества, уральская община - такой же архаический памятник древности, как Малороссия, Дон и Москва, но Сибирь, по сравнению с этими архаизмами, представляется иным явлением. К западу от Урала коллективные инстинкты формировали организации, сплачивали, цементировали, выливали их в формы с великолепной тонкой отделкой, и вдруг открылся край - Сибирь. Колонизационная волна унесла русских людей на восточный простор, и конец коллективизму. Русский коллективный человек превращается в необузданного индивидуалиста, от русской земельной общины не остается следа» [Там же. С. 148-149]. Правда, будущее Потанин связывает все-таки с сибирской общиной, но другого типа - гармонично совмещающей личное и коллективное. Черты такого идеального синтеза он видит в уральской казачьей общине: «Войсковое хозяйственное правление недреманным оком следит, чтобы какое-нибудь производство не оказалось лазейкой для ретивого индивидуалиста создать личное благополучие в ущерб своим собратьям. Регламентация хозяйства, устанавливаемая казачьей бюрократией, контролируется общественным мнением массы. Народная масса не спускает глаз с деятельности правления. Она сама находится в непрерывной деятельности. Все это по совокупности сильно объединяет население области. Все чувствуют, что они составляют нечто цельное, какое-то одно тело. Ни в одной русской общине вы не встретите такой солидарности населения, как здесь. Возрасты, общественное положение, чины - все здесь объединено» [Там же. С. 149-150]. Будучи сибирским чиновником по крестьянским делам, Наумов создавал свои произведения на основе богатого материала, полученного в ходе государственной службы, и вряд ли мог разделять утопические идеи Потанина в полном объеме. Сибирское купечество как фактор формирования культурного ландшафта 9 В 1882 г. выходит фундаментальный труд Н.М. Ядринцева «Сибирь как колония», где он, помимо прочего, излагает областнические представления о характере торговых отношений в Сибири: «Как по отношениям к инородцам, так и во всей своей промышленной деятельности на Востоке, местное торговое сословие, как мы видим, следовало своим особым путем наживы и обогащения. История показывает нам, что постоянными целями, к которым оно стремилось, была монополия. Подобный класс монополистов и спекуляторов является ныне силою, давит на общество, кабаля массу людей, руководит общественными делами, преследуя личные цели, заискивает у властей, рисуется благотворителями, а в последнее время - и просвещенными негоциантами, но на деле преследует цели монополии и грубейшего бесправия и наживы» [13. С. 289, 303]. Подобный идеологический посыл встречается и в произведениях Наумова, о чем говорит тот же Ядринцев: «Черты из жизни сибирского крестьянства, убиваемого и разоряемого мироедством, кулачеством, кредитом и закабалением. мы находим в любопытных бытовых очерках Н.И. Наумова, представивших замечательно ярко и правдиво эти явления крестьянской жизни» [Там же. С. 276]. Рассматриваемые произведения Наумова изначально были опубликованы в ведущих российских демократических журналах своего времени, а затем вошли в состав трех сборников, изданных в Санкт-Петербурге в 1870-1880-е гг. Ориентированные на создание «эффекта реальности», все рассказы характеризуются очерковым началом, обильным использованием фактов, реальных событий, конкретных деталей быта. Некоторые рассказы писатель даже называет очерками. Однако при всем старании сфокусировать взгляд на материале и его достоверности, Наумов непременно и достаточно четко транслирует читателям свою идеологическую концепцию. Тема сибирского купечества оказалась для писателя в этом плане наиболее репрезентативной. Показательно в связи с этим сравнение писательских стратегий Наумова и А.Н. Островского. Несмотря на то, что Наумов считается бытописателем сибирской деревни и всех слоев ее населения, в своих произведениях он не заостряет внимание на бытовом укладе жизни купцов (как, например, это делал А.Н. Островский). Вместо этого он концентрируется на изображении социальных аспектов сибирского купечества. Это может быть связано не только с влиянием В.А. Пржигоцкий 10 областничества и народничества, но и с социальным положением самого Наумова. В отличие от ряда других писателей-современников, изображавших торговое сословие, Наумов сам к нему не принадлежал и не знал его изнутри. Хотя по долгу службы, как уже было сказано выше, ему приходилось вникать в проблемы этого нарождающегося класса. Для понимания специфики изображения Наумовым представителей сибирского купечества следует также отметить и специфику читательского адреса его беллетристики. Его рассказы и очерки были обращены не только к столичной демократической интеллигенции, но и к народным массам. И если в первом случае задачей Наумова была актуализация сибирской литературы в европейском и общерусском культурном пространстве, то во втором случае он стремится сформировать читательскую рецепцию художественных произведений, посвященных обозначенной теме. К последнему его активно подталкивали областники Г.Н. Потанин и Н.М. Ядринцев, стремившиеся создать сибирскую литературу, которой должно было быть отведено важное место в интеллектуальном развитии края: «Кому же должна принадлежать роль указать будущее Сибири и вывести народ ее на путь цивилизации и исторического прогресса? Эта роль должна принадлежать местной литературе, которую до сих пор наша Сибирь не имеет. Создание местной литературы будет зачатком осмысленной жизни и началом умственного развития масс» [12. Т. 5. С. 2128]. В Наумове они видели подлинного сибирского писателя: так, Г.Н. Потанин отмечал, что рассказами Наумова зачинается сибирская беллетристика, ставя его в один ряд с Г.И. Успенским [Там же. Т. 7. С. 231-238]. *** Впервые образы купцов появляются в рассказах Наумова 1870-х гг., когда он находился под заметным влиянием народничества. В частности, в произведениях сборника «Сила солому ломит», изданного кружком чайковцев в 1874 г., он изображает сибирского купца прежде всего как «мироеда» - разорителя и эксплуататора сибирских крестьян и инородцев. При этом, несмотря на то что представленные купцы зачастую сами оказываются выходцами из крестьян, между эксплуататорами и эксплуатируемыми не оказывается решительно ничего общего. Сибирское купечество как фактор формирования культурного ландшафта 11 Так, из экспозиции рассказа «Юровая» читатель узнает о существовании одноименной зимней ярмарки, о главном местном промысле - ловле рыбы, впадающей в зимнюю спячку, и о методах закабаления крестьян приезжающими на ярмарку купцами: «Петр Матвеич сам объезжал все села и деревни, лежавшие вверх и вниз по Иртышу, для сбора рыбы от крестьян, забравших под улов ее деньги. Должники всегда с трепетом ожидали его приезда. Каждый из них знал, что, какое бы горе и нужда ни застигли его, он не мог рассчитывать на снисхождение к нему Петра Матвеича. “Брал и отдай!” - твердил Петр Матвеич в ответ на мольбы, слезы и поклоны крестьянина или инородца. А вопиющая нужда все-таки вынуждала этот бедный люд прибегать к нему за деньгами и отдавать свою лучшую рыбу за цены, не вознаграждающие даже и труда» [14. С. 78-79]. В рассказе «Деревенский торгаш» рассказывается об эксплуататорских путях наживы торгующего по купеческому свидетельству крестьянина Прохора Игнатьевича Белкина: «Он скупал у крестьян, пользуясь постоянною нуждою их в деньгах, по мелочам мед, воск, хлеб и другие продукты, какими богат кузнецкий округ; брал и скот, задавал деньги инородцам под зимний улов зверя и ежегодно по первому зимнему пути отправлял купленный по мелочам и за бесценок товар значительными обозами в Томск, где продавал с тройною выгодой. Давал он и деньги в ссуду застигнутым какою-нибудь крайностью крестьянам: приезжали ли, например, волостные чины за сбором податей, - угрожаемые розгами в случае неуплаты денег неимущие шли к нему; падал ли у кого скот, - он не отказывал просителю в деньгах на покупку нового, но только облагодетельствованные им мужички долго потом не могли оправиться от его обязательной ссуды и немало дивились, почесывая затылки, нарастающим процентам, хотя предусмотрительный Прохор Игнатьевич всегда умалчивал о них при ссуде» [Там же. С. 39]. В рассказе «Крестьянские выборы» повествователь вновь рассуждает о ключевых условиях закабаления крестьянской бедноты и инородцев и безудержного обогащения кулаков и купцов. В данном случае он описывает ситуацию бездоимочного сбора податей, осуществляемого с применением мер телесного наказания, продажей крестьянского имущества за гроши и т.д. [Там же. С. 196-199]. Следует также отметить, что сам Наумов как чиновник по крестьянским делам не раз В.А. Пржигоцкий 12 расследовал дела, связанные с подобным произволом. В донесениях томскому губернатору И.И. Красовскому он неоднократно высказывался о порочности существующей системы взимания податей и недоимок, приводящей к разорению крестьянских хозяйств [15, 16]. Этот пример в очередной раз доказывает, что различная институциональная деятельность Н.И. Наумова находилась в постоянном взаимодействии и была направлена на служение Сибири и сибирякам. Строящиеся на четком выделении авторской позиции (субъекта высказывания) и персонажа (объекта высказывания), рассказы Наумова очевидно подразумевают и адресата высказывания, т.е. читателя. В духе своих народнических и областнических убеждений писатель целенаправленно формирует нового сибирского читателя, вставая, однако, при этом на архаическую, свойственную литературе XVIII в. позицию отношений писателя и читателя, в которых первый выполняет роль демиурга, всеведущего и всезнающего учителя. Отсюда вытекает арсенал художественных приемов и тактики их применения Наумовым. В частности, образ купца как «мироеда» чаще всего конструируется через описание внешнего - отталкивающего - вида персонажа. Например, в «Деревенском торгаше», знакомя читателя с Прохором Игнатьевичем Белкиным, повествователь сразу расставляет для читателя нужные акценты: «Но всего рельефнее бросилась бы в глаза любопытному выдающаяся из окна ее, как из рамы, наружность владельца лавочки, человека пожилых лет, с пухлою белою физиономией, какими преимущественно отличаются люди, торгующие по купеческим свидетельствам. Узенькие заплывшие глаза его ярко светились из-за густых русых бровей, всегда судорожно сжимавшихся у переносья, когда на толстых губах мелькала улыбка; в каждой черте этого лица, обрамленного красивой окладистой бородой, проглядывала самоуверенная ирония и то мелочное и, если можно так выразиться, грошовое лукавство, составляющее особенную типичную черту торгашей и барышников» [14. С. 38]. Неприятной наружностью отличался и купец Петр Матвеич из рассказа «Юровая», на лице которого «...не пролегало ни одной мягкой черты» [Там же. С. 77]. Еще более выпуклым этот образ делает присутствие в произведении его антипода - народного заступника Ивана Калинина. В отличие от своих оппонентов, эти герои, широко представленные в сборнике «Сила солому ломит», выделяются ро- Сибирское купечество как фактор формирования культурного ландшафта 13 стом, физической силой и красивыми чертами лица. Противопоставляется также и поведение героев: в разговоре с Иваном Калининым Петр Матвеич быстро теряет самообладание, под меткими обличительными упреками его лицо багровеет, а злая насмешка сменяется плохо скрываемым гневом: «- А-ах-ха-ха-а! С дураков-то этаким манером я и сбиваю спесь-то, понял ли? - гордо осмотрев его, спросил он. - Понял! - тем же спокойным тоном отвечал тот. - Только растолкуй мне, кто из нас дураков-то выглядывал: ты ли, как поклоны-то отбирал, аль мужики? - И Кулев, и Авдей, и Семен, слышавшие ответ Ивана Николаевича, приметили, как кровь прилила к лицу Петра Матвеича и сузившиеся глаза его сверкнули недобрым светом» [14. С. 170]. Подробно описывая картины крестьянского горя, Наумов устами повествователя непременно рассуждает о Сибири как крае тотального беззакония: «И эти возмутительные сцены ежедневно повторяются в этом забитом нуждою мире - нуждою, подавляющей в человеке всякий проблеск сознания своего человеческого достоинства... И идет своим путем этот веками установившийся порядок. И проглянет ли когда в этот темный исстрадавшийся мир теплый луч разумной жизни, разумных человеческих отношений, один бог весть» [17. С. 121]. Этот отрывок, взятый из рассказа «Юровая», был подвергнут цензуре и не попал в прижизненные издания, однако подобный посыл встречается и в других произведениях Наумова 1870-1880-х гг. Несмотря на то, что описанная эксплуатация, вне всякого сомнения, имела место на всей территории Российской империи, удаленность Сибири, неразвитость ее гражданских институтов, отсутствие литературы и журналистики придавали особый характер и размах произволу сибирских купцов и прочих «мироедов». Последние изображены писателем местными «царьками», которые, подобно купцу Петру Матвеичу, требовали от зависимых должников всяческого поклонения и почитания. Неслучайно сборники Н.И. Наумова носят «говорящие» названия: «В тихом омуте», «В забытом краю», - намекая таким образом на удаленность Сибири от цивилизации и культуры. Как правило, читателям предъявляется готовый и непротиворечивый, а потому довольно поверхностный и схематичный, предельно типизированный образ сибирского купечества. Более того, образ сибирского купца-мироеда в данных рассказах и очерках оказывается встроенным в коллективный образ «мироеда», объединяющий в себе В.А. Пржигоцкий 14 также кулаков и чиновников. В глазах героев-крестьян наумовских произведений, как и в глазах самого Наумова, эти социальные категории были родственны друг другу в своем стремлении к личному обогащению и способах эксплуатации крестьян: все они занимаются торговлей, ростовщичеством и с помощью своего капитала и местной власти утверждают и сохраняют эксплуататорские порядки. Об этом же, между прочим, пишет и Ядринцев: «Что замечательно, так это то, что явление монополии и кабалы выражается не в одном каком-нибудь сословии или группе в Сибири, но оно видно во всех слоях и проявляется также между крестьянами и кулаками, как и между крупными капиталистами» [13. С. 276]. Схематизм созданных Наумовым образов отмечал Г.Н. Потанин. Но, по мнению лидера сибирских областников, Наумову как «народному бытописателю» и не требовались большая глубина проработки характеров, погружение во внутреннюю жизнь, психологию сибирского купечества. Идейная же составляющая очерков и рассказов Наумова в целом поддерживалась Г.Н. Потаниным и Н.М. Ядринце-вым, видевшими в обличении сибирской буржуазии, разлагающей крестьянскую общину, служение Сибири и сибирякам. Помимо этого, она отвечала идеологии народничества и позволила писателю по возвращении из Сибири укрепиться в «демократическом» полюсе литературного поля: произведения сборника активно использовались в народнической пропаганде и имели успех у массового читателя. Однако в поздних сборниках - «В тихом омуте» (1881) и «В забытом краю» (1882), наряду с общей эволюцией творчества Н.И. Наумова несколько меняется и характер изображения «торгового сословия», хотя, конечно, оценка сибирских купцов как «мироедов», однозначных антагонистов по отношению к крестьянской бедноте, в целом сохраняется, как сохраняется и приверженность самого Наумова либерально-народнической (областнической) идеологии. О последнем, в частности, свидетельствует речь писателя 26 октября 1881 г., произнесенная по случаю 300-летия присоединения Сибири: «Скажу одно: я счастлив уже тем, что судьба дала мне возможность с детства наблюдать жизнь нашего простолюдина, оценить гибкий, мощный ум его, таящийся под покровом невежества, постоянно слышать его речь, дышащую неистощимым юмором и сарказмом, не раз видеть поразительные примеры мужества и энергии, скажу без преувеличения, бес- Сибирское купечество как фактор формирования культурного ландшафта 15 примерные. Такой народ стоит того, чтобы посвятить ему свои силы, и я до конца дней своих останусь верен задаче служить по мере данных мне природных способностей моей родине и народу» [18]. Тем не менее в 1880-е гг., укрепив свои позиции в литературном поле и стараясь не потерять там свое место, Наумов снижает социальную остроту произведений, а также пытается уйти от шаблонности как сюжетов, так и образов. Так, в рассказе «Кающийся» (1880) перед взором читателя впервые в творчестве Наумова предстает разорившийся и раскаивающийся купец Еремей Осокин, всю жизнь занимавшийся перекупкой и ростовщичеством, учившийся у купцов, к которым пошел в юные годы на службу, воровать и обманывать. Повествование ведется в форме рассказа-исповеди героя, представшего автору-повествователю глубоким стариком в штопаной рубахе, живущим в полуразрушенной избушке. Все его богатство умещается в побуревшем от времени мешке, где хранятся истрепанные Псалтырь, Евангелие и Библия. Смыслом его жизни стало раскаяние, обретение душевного покоя через веру и служение людям. Его знали во всей волости и «звали к умершим читать Псалтырь». В рассказе «Фургонщик» (1882), также впервые в творчестве Наумова, торговец - фургонщик Луковнин - не предстает обличаемым персонажем. Более того, он становится объектом если не симпатии, то по крайней мере сочувствия и понимания автора-повествователя. В духе потанинских мечтаний о «новом» сибирском купце Луковнин описан как выходец из крестьян, сосланный в Сибирь за поджог дома купца Петрова, у которого он был прислугой. В ссылке, пройдя через страдания, он занялся торговлей, став фургонщиком, в финале рассказа он - состоявшийся купец, вновь обретший личное счастье, утраченное на родине вследствие совершенного преступления. Тема Сибири как пространства возможностей для развития звучит и в рассказе «Кающийся», однако здесь она интерпретируется как поиск «фортуны» и новой богатой (в материальном отношении) жизни. Именно здесь сформировался деловитый и предприимчивый характер Еремея Васильевича Осокина, позволивший ему стать «первейшим в округе богачом». Путь героя прямо противоположен пути фургонщика Луковнина - приобретая богатство и независимость, Осокин теряет себя и все человеческие связи с миром. В.А. Пржигоцкий 16 Значительное влияние на жизнь героев-сибиряков оказало развитие добычи золота в Сибири. Ко второй половине XIX в. золотопромышленность становится ключевой отраслью добывающей промышленности в данном регионе. Именно в период сибирской золотой лихорадки обогатился крестьянин Терентий Савич - отец торгующего крестьянина Кузьмы Терентьевича («Паутина»), который до этого момента жил в глубокой бедности. Результат обогащения тот же, что у Осокина: герой попадает в паутину, в которую всю жизнь заманивал, подчиняя себе, окружающих его людей. Справедливый суд над купцами, погрязшими в грехах и преступлениях, в рассказах Наумова вершат природные стихии. Так, пожар погубил хозяйство и семью Еремея Васильевича Осокина («Кающийся»), что, впоследствии, и побудило его встать на путь искупления грехов. Огонь разорил и Кузьму Терентьевича, героя рассказа «Паутина». Несмотря на ряд попыток более глубоко и противоречиво представить образ сибирского торгового сословия, Наумов все же сосредоточен на обличении его как безусловного эксплуататора, единоличника, забывшего о законах совести и чести. При этом в сборниках «В тихом омуте» и «В забытом краю» картины купеческого произвола знакомят читателя с отношениями купцов с другими, по сравнению с первым сборником, социальными группами и явлениями. Так, рассказ «Паутина» представляет собой сцены из жизни сибирских приисковых рабочих-«таежников», которые по пути домой лишаются всего - и столь трудно доставшегося заработка, и человеческого лица и подобия - в лавках, промышляющих спекулятивной торговлей алкоголем и различным ширпотребом. В рассказе «Горная идиллия» читатель знакомится с историями разорения купцами коренных алтайских племен: «Купцы скупают у теленгутов молодой скот, оставляют его у инородцев и берут тогда, когда он подрастет, т.е. по истечении 3-4 лет. Все выгоды подобной торговли, конечно, на стороне купцов, потому что весь ущерб в скоте, который случится за это время, возмещается ими на хранителе скота, бывшем его хозяине, обязанном безвозмездно пасти его и охранять от всяких случайностей. Теленгуты в настоящее время обременены такими неоплатными долгами, погасить которые мало десятков лет; а между тем за долги эти давно уже уплачены ими суммы, в десять, если не в двадцать раз большие» [19. С. 102-103]. При этом, как и Н.М. Ядрин- Сибирское купечество как фактор формирования культурного ландшафта 17 цев в упомянутом ранее труде, Наумов ссылается на исследования своего современника - видного ученого-этнографа В.В. Радлова, авторитетное слово которого, по замыслу автора, придаст достоверности изображаемым в произведении сценам. Купцы-мироеды и в этих рассказах выглядят и ведут себя довольно карикатурно, что видно на примере купца второй гильдии Назара Степановича Куртегешова. Кузьма Терентьевич из рассказа «Паутина» не осознает того, в незамысловатом рассказе о себе открывает свою грабительскую сущность перед собеседником. В рассказе «Как аукнется, так и откликнется» образ центрального героя-купца низводится повествователем до надетой на нем лисьей шубы. Даже имя героя так и остается неизвестным. В рассказах 1880-х гг. по-прежнему подчеркивается объективность, «правдивость» изображаемой картины мира. Так, завязкой рассказов «Кающийся», «Паутина» и «Горная идиллия» выступает приезд автора-повествователя, о котором известно, что он оказывается в том или ином населенном пункте по чиновничьим делам, где и выступает свидетелем событий, связанных с купеческим произволом. Такой прием, нацеленный на введение в рассказы «невымышленного повествования», является развитием «эффекта реальности» как одной из ключевых черт творчества Наумова. К тому же автобиографичный герой-рассказчик, отчасти повторяющий служебный путь Наумова, дает возможность наглядно изобразить отношения между представителями сибирского купечества и чиновничества. Автор-повествователь тем более примечателен, что являет собой, как и сам Наумов, пример честного чиновника, занимающегося в первую очередь поисками правды, которая всегда оказывается в рассказах Наумова на стороне эксплуатируемого народа. Данный прием также демонстрирует взаимовлияние различных социальных полей, позиции в которых Наумов занимал последовательно или параллельно. Так, государственная служба не только определяла тематику его произведений, но и влияла на их поэтику. Помимо автобиографичного образа героя-рассказчика, для них характерны четко определенные временные и пространственные границы. Указывая год, месяц, конкретный населенный пункт и прочие обстоятельства, в которых разворачивается действие, автор тем самым усиливает очерковое начало. В.А. Пржигоцкий 18 При этом занимая, как было показано ранее, прочные позиции в областническом поле, Наумов реализует соответствующие установки в изображении Сибири и сибирского купечества. Продолжая знакомить читателя с этногеографией Сибири, писатель (устами героя-рас-сказчика), с одной стороны, заостряет внимание на ее «естественных» достоинствах. Так, например, в рассказе «Паутина» герой-рассказчик восхищается красотами Алтая, а в «Горной идиллии» отмечает положительные качества коренных народов. С другой стороны, в рассказах настойчиво звучит мысль, выполняющая циклообразующую функцию: естественное благополучие, природная гармония Сибири нарушаются вмешательством человека, часто пришедшего в Сибирь извне, приносящего в это пространство новые веяния, но вместе с ними и сложнейшие проблемы и вопросы. Соответственно, ограждение Сибири от несвойственной ей хищнической эксплуатации, разрушения устойчивых ценностей, стремление уравновесить движение края вперед и потери, которые несет Сибирь в этом движении, - в этом Наумов, чиновник-писатель, и его автобиографические авторы-повествователи, как правило, чиновники, видят единство роли чиновничьего класса и писательского корпуса в развитии Сибири. Так, изображая сибирское купечество в рассказах и очерках 18701880-х гг., Н.И. Наумов реализовывал установки, обусловленные его гомологичными позициями в различных социальных полях (литературном, государственном, идеологическом). Их взаимовлияние своеобразно отразилось на эстетике и поэтике рассматриваемых произведений. В результате документализм в изображении сибирского купечества, острая социальная проблематика рассказов на эту тему, поиски региональной идентичности оборачивались характеристиками массовой литературы (в том числе схематичными, предсказуемыми, идеологически заданными образами самих купцов и формируемой ими реальности), а ценные этнографические и геокультурные факты перемежались идеалистическими областническими и народническими представлениями о будущем развитии Сибири.
Кулешова Е.А. Образ сибирского купца в произведениях художественной литературы конца XVIII - первой половины XIX в. // Вестник Томского государственного университета. История. 2013. № 6 (26). С. 16-20. Сибирское купечество как фактор формирования культурного ландшафта 19
Кулешова Е.А. Религиозно-нравственный аспект в изображении купца сибирскими писателями конца XVIII - начала XX в. // Вестник Томского государственного университета. Культурология и искусствоведение. 2013. № 4 (12). С. 193-201.
Беспалова Л.Г. Рабочие Сибири в творчестве Н. И. Наумова // Сибирь в художественной литературе. Тюмень : Кн. изд-во, 1961. С. 3-30.
Кубиков И.Н. Рабочие сибирских золотых промыслов в очерке Н.И. Наумова «Паутина» // Рабочий класс в русской художественной литературе. Изд. 4-е, перераб. и доп. М. : Моск. рабочий, 1928. С. 114-123.
Беспалова Л.Г. Крестьянство Тобольской губернии в XIX веке (по произведениям Н.И. Наумова) // Ежегодник Тюменского областного краеведческого музея. 1961. Вып. 2. С. 73-84.
Беспалова Л.Г. Н.И. Наумов о переселенчестве в Сибирь // Ученые записки кафедры русского языка Тюменского государственного педагогического института, 1960. Вып. 1. С. 173-192.
Беспалова Л.Г. Переселение крестьян в Сибирь в творчестве русских писателей // Земля Тюменская : сб. Тюмен. обл. краевед. музея. Тюмень, 1965. Вып. 4. С. 53-63.
Макарова Е.А. «Я чуть не каждый день вижу эти сцены».. «Ах, если б было время писать!» (Ситуация «внутреннего пограничья» в служебной и творческой деятельности сибирского писателя Н.И. Наумова) // Айзикова И.А., Макарова Е.А. Тема переселения в Сибирь в литературе центра и сибирского региона России 1860-1890-х гг.: проблема диалога. Томск : Изд-во Том. ун-та, 2009. С. 190-217.
Попов И.Г. Два очерка Н.И. Наумова о народах Алтая // Труды историкофилологического факультета Якутского университета. 1966. Вып. 1. С. 150-157.
Пржигоцкий В.А. Первый цикл рассказов Н.И. Наумова «Мирные сцены военного быта» // Вестник Томского государственного университета. 2020. № 454. С. 28-35.
Очерки русской литературы Сибири : в 2 т. / АН СССР, СО, Ин-т истории, филологии и философии ; редкол.: А.П. Окладников (гл. ред.) и др. Новосибирск : Наука, Сиб. отд-ние, 1982. Т. 1: Дореволюционный период. 606 с.
Литературное наследство Сибири : в 7 т / сост. Н.Н. Яновский. Новосибирск : Зап.-Сиб. кн. изд-во, 1969. Т. 5. 408 с.; 1983. Т. 6. 336 с.; 1986. Т. 7. 340 с.
Ядринцев Н.М. Сибирь как колония: к юбилею трехсотлетия : современное положение Сибири, ее нужды и потребности, ее прошлое и будущее. СПб. : Тип. М.М. Стасюлевича, 1882. XI, 471 с.
Наумов Н.И. Сила солому ломит : рассказы из быта сибирских крестьян. СПб. : Тип. К.Н. Плотникова, 1874. 417 с.
Наумов Н.И. Донесение томскому губернатору, 1886 г. // ОРКП НБ ТГУ. Ф. 2. Оп. 1. Д. 48. 1 л.
Наумов Н.И. Сопроводительная записка томскому губернатору к донесению священника Тюменцева Е., 1888 г. // ОРКП НБ ТГУ. Ф. 2. Оп. 1. Д. 50. 2 л.
Наумов Н.И. Собрание сочинений : в 3 т. / вступ. ст. и коммент. С.Е. Кожевникова. Новосибирск : Новосибир. обл. гос. изд-во, 1940. Т. 1. 364 с.
Наумов Н.И. Речь по случаю 300-летия присоединения Сибири к России, 1881 г. // ОРКП НБ ТГУ. Ф. 2. Оп. 1. Д. 42. 1 л.
Наумов Н.И. В забытом краю : рассказы из быта сибирских крестьян. СПб. : Тип. С. Добродеева, 1882. 314 с.
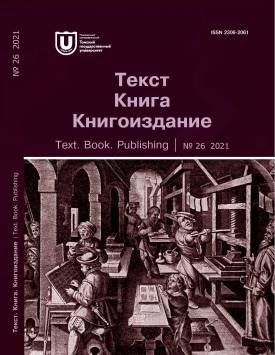

 Вы можете добавить статью
Вы можете добавить статью