Анализируется журнал В.А. Жуковского «Собиратель» в сопоставлении с педагогическими изданиями М.Н. Муравьева. На основе новых архивных материалов исследуется входящая в «Собиратель» статья «Взгляд на мир и человека». Показывается, что она была частью конспекта Жуковского по естественной истории и является контаминацией двух переводных текстов (из К. Триниуса и И.-Г. Гердера) и собственных рассуждений. Обнаруживается, что структура № 1 «Собирателя» определялась конспектом Жуковского по всеобщей истории. Делается вывод о том, что с Муравьевым «Собиратель» сближают акцент на нравственной дидактике, универсалистская установка и физико-теологическая тема, связанная с аксиологией «религии сердца». В отношении стиля и формы «Собиратель» напоминает, скорее, не периодические издания, а учебники Муравьева.
Educational Periodicals in the “Court Pedagogy” of Mikhail Muravyov and Vasily Zhukovsky. Article Two.pdf В предыдущей статье (см.: [1]) нами были выявлены особенности периодических изданий, выпускавшихся М.Н. Муравьевым для его учеников - великих князей Александра и Константина Павловичей («периодические листы» «Обитатель предместия» и связанные с ними «Эмилиевы письма» и «Берновские письма»), и был поставлен вопрос о преемственной связи между этими изданиями и педагогическими журналами В.А. Жуковского «Собиратель» и «Муравейник». Но прежде чем перейти к обсуждению вопроса о данной преемственности, необходимо разобраться, насколько были близки «Собиратель» и «Муравейник», являются ли они у Жуковского двумя частями одного проекта, одного замысла? Хронологическая близость данных журналов, один и тот же контекст их бытования, казалось бы, побуждают ответить на этот вопрос 1 Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта № 20-012-00529. Учебные периодические издания в «придворной педагогике» 89 положительно. Среди исследователей распространено представление о том, что прекращение издания «Собирателя» (его выпуск оборвался на втором номере) было вызвано чисто внешней причиной - случившейся весной 1830 г. размолвкой Жуковского с царем [2. С. 711]. Согласно этому представлению, после того как конфликт был урегулирован, Жуковский в 1831 г. возобновил издание журнала, но уже под названием «Муравейник». Таким образом, оба издания можно рассматривать как два подступа к осуществлению одного и того же замысла. Отчасти это так. Педагогические журналы Жуковского близки друг другу по тематике, адресованы одной и той же аудитории. Но в то же время они очевидно, значительно и даже контрастно различаются по структуре, стилю и жизнестроительной установке. Поэтому сопоставлять их с эдиционными проектами М.Н. Муравьева нужно не вместе, а по отдельности. Начнем разговор об этом с «Собирателя». Анализу особенностей этого журнала и будет посвящена настоящая статья. Жуковский взялся за издание «Собирателя» в ноябре 1829 г., в самом начале своей придворно-педагогической деятельности, когда еще не успели по-настоящему обнаружиться преграды на открывшемся перед ним пути - а в их числе были не только непростые отношения с императором, но и другие, более прозаические, обстоятельства: стесняющая творческий порыв поэта необходимость согласовывать свои действия с остальными педагогами, нехватка времени для подготовки учебных пособий, проблемы с собственным здоровьем, непрочность положения при дворе, наконец, недостаточное усердие учеников. Столкновение с этими препятствиями приводило к тому, что Жуковский чем дальше, тем больше был вынужден корректировать свои первоначальные планы и намерения. Однако в «Собирателе» они успели еще выказаться в первозданной цельности и чистоте. Можно сказать, что в «Собирателе» запечатлелся творческий эйдос, в соответствии с которым Жуковский намеревался обустраивать новое для него педагогическое пространство. По большому счету, «Собиратель» - это журнал одного автора (все помещаемые в нем материалы писались и подбирались Жуковским) и одного читателя - великого князя Александра Николаевича. Конечно, его могли читать и другие1 - например, товарищи великого князя 1 Круг возможных читателей был все же заведомо узок, ведь издавался журнал крайне маленьким тиражом в 10-15 экземпляров. Д.В. Долгушин 90 по учебе И. Виельгорский и А. Паткуль. Однако и подбор, и содержание текстов были рассчитаны именно на Александра Николаевича: главную задачу журнала Жуковский видел в том, чтобы помещенные в нем материалы способствовали воспитанию и образованию будущего Государя. Это роднит «Собиратель» с «княжескими зерцалами»1 - «адресованными государю (и, как правило, ему же и посвященными) трактатами, главная цель которых - описать идеального правителя, его поведение, роль и положение в мире» [3]. Самые ранние тексты такого рода датируются 60-ми гг. XIII в., однако в исследовательской традиции принято относить к ним любые произведения, содержащие в себе наставления правителю, начиная с «Киропедии» Ксенофонта. Этот жанр, достигший расцвета в позднее Средневековье, с успехом продолжал свое существование и в эпоху нового времени. К нему можно отнести, с некоторой натяжкой, столь любимого Жуковским «Телемака» Ф. Фенелона и, без всякой натяжки, сборник «Зеркало для князей» (Ftirstenspiegel) И.-Я. Энгеля, на который, как показал А.С. Янушкевич, и ориентировался Жуковский во время работы над «Собирателем». И.-Я. Энгель (1741-1802), драматург и философ, в 1787 г. был приглашен на должность учителя наследника прусского престола Фридриха Вильгельма III (которому и адресовался «Ftirstenspiegel»), дедушки великого князя Александра Николаевича. Обращение к наследию Энгеля, таким образом, хорошо согласовывалось с семейными традициями императорской фамилии. Однако Жуковский заинтересовался творчеством Энгеля гораздо раньше, чем попал ко двору: еще в бытность редактором «Вестника Европы» (1808-1810) он регулярно публиковал в «Вестнике» переводы из «нравоучительного еженедельника» (moralische Wochenschriften) «Светский философ», издававшегося Энгелем в 1775-1777 гг. по образцу «Зрителя» Р. Аддисона и пользовавшегося большой популярностью [4. С. 210-213, 216-217]. К началу работы над «Собирателем» Ftirstenspiegel Энгеля был проштудирован Жуковским очень основательно. По сообщению А.С. Янушкевича, страницы экземпляра этой книги из библиотеки 1 Букв. «зеркала для князей», лат. specula principium, франц. miroirs des princes, miroirs aux princes, англ. mirrors of princes, нем. Ftirstenspiegel. Учебные периодические издания в «придворной педагогике» 91 поэта «буквально испещрены пометами Жуковского» [5. С. 485]1. «Текст некоторых глав (Ftirsten-Wollust, Der Mann von Ross, Ver-schwendung, Freundschaft, Wahrheit, Anstand) почти целиком отчеркнут. Возможно, Жуковский отбирал их для перевода в “Собирателе”, возможно, намечал для работы с наследником» [Там же], - пишет исследователь. Выписки и переводы из Ftirstenspiegel сохранились и среди подготовительных материалов к «Собирателю» в архиве Жуковского [2. С. 568-569; 5. С. 482-484]. Таким образом, влияние книги Энгеля на придворно-педагогическую деятельность Жуковского в целом и на «Собиратель» в частности можно считать установленным фактом. Думается, оно сказалось не столько на содержании (непосредственно войти в «Собиратель» материалы из Энгеля так и не успели), сколько на концепции и стиле «Собирателя». Ftirstenspiegel Энгеля, как уже говорилось, представляет собой сборник наставлений. Каждая из его 35 глав - это отдельное поучение на нравственную тему, связанную с той или иной стороной жизни государя. Воинская честь, милосердие к подданным, бережливость, восприимчивость к здравым советам, нерасточительность на награды, трудолюбие, приверженность закону и прочие подобные качества в каждой из глав являются предметом объяснения, описания и назидания, оживляемого примерами из жизни знаменитых монархов прошлого. И хотя Энгель - не тяжеловесный морализатор, а достаточно легкий автор, остроумный, простой по языку, в меру ироничный, ясно мыслящий, - все же общий тон его наставлений серьезен, требователен и строг. Он сам заявляет в предисловии к своей книге [6. S. III-VI], что поставил перед собой цель донести до наследника престола «полезные истины» не иносказательно и смягченно, как доносят их до детей, показывая картинки, «но со всей открытостью», а потому специально написал некоторые свои рассуждения «насмешливым или даже горьким» тоном -чтобы, не щадя читателя, усилить воспитательный эффект. Получается, Ftirstenspiegel почти не делает скидки на возраст воспитанника. Это собрание взрослых и императивных монологических поучений на самые серьезные темы политической и нравственной философии. 1 В библиотеке Жуковского сохранились 3-10-й тома из Собрания сочинений Энгеля в 12 томах (Берлин, 1801-1806). Ftirstenspiegel содержится в 3-м томе. Д.В. Долгушин 92 Жуковский в «Собирателе» сохраняет энгелевскую установку на назидательность и серьезность, но несколько смягчает монологичность и императивность. Он помещает в журнал не столько свои произведения, сколько специально подобранные и переведенные отрывки разных авторов, причем не все из них представляют собой поучения: иные скорее познавательны, чем назидательны. Мы не будем анализировать каждый из текстов, помещенных в «Собиратель» (анализ такого рода был в свое время проведен И.А. Айзиковой [7. C. 275-287]), отметим лишь их общую особенность: тексты «Собирателя» были непосредственно интегрированы в учебный процесс и напрямую связаны с материалом, изучаемым на уроках. Это становится очевидным при знакомстве с первым номером журнала, начинающимся со статьи «Взгляд на мир и человека», на которой мы и остановимся подробнее. В этой статье Жуковский рисует величественный образ мироздания, гармонично сложенного из множества планет и солнц, населенных одушевленными существами. Чем планета дальше от солнца, тем она зрелее и ближе к тому, чтобы самой превратиться в солнце, -и тем более совершенны существа, ее населяющие. Каждое из солнц вращается вокруг центрального, высшего солнца; а сие высшее солнце с миллионами ему подобных может также принадлежать к системе еще высшего. И так далее до бесконечности, которую человеческому уму постигнуть невозможно [2. C. 219]. Атрибуция этой статьи составляет проблему для исследователей. Н.Б. Реморова высказывала предположение, что она представляет собой «отрывок, данный без подписи, в переводе, из какого-то французского сочинения» [8. С. 158]. Нам удалось выяснить, что дело обстоит иначе. «Взгляд на мир и человека» - контаминация двух переводных текстов и авторских рассуждений Жуковского (в этом смысле она является ярким подтверждением наблюдения А.С. Янушкевича о том, что многие материалы «Собирателя» представляют собой «причудливое переплетение выписок, переводов и собственных размышлений» [5. С. 483]). Рукопись этой статьи нам удалось обнаружить в составе конспекта, подготовленного Жуковским для занятий с наследником престола по естественной истории и физике [9]. Конспект этот записан на листах большого формата (42,5 х 27,5 см). На л. 1-13 находится его черновой текст со множеством исправлений Учебные периодические издания в «придворной педагогике» 93 (автограф Жуковского), на л. 14-26 помещена его сокращенная писарская копия. К статье «Взгляд на мир и человека» имеют отношение два раздела конспекта - «Летописи земли» и «Солнечная система» [9. Л. 1-2]. Оба эти раздела представляют собой пересказ соответствующих мест из лекций К. Триниуса (преподававшего вел. кн. Александру Николаевичу естественную историю), изданных для наследника на немецком языке под названием Zur Erinnerung an unsere Unterhaltung tiber Allgemeine Naturgeschichte in den Jahren 1829 und 1830 («В напоминание о наших беседах по всеобщей естественной истории в 1829 и 1830 гг.»; далее - «Напоминание») [10]. Для наследника были отпечатаны и составленные Триниусом «Обзорные таблицы по естественным наукам» (Uebersichts-Tabelle der Naturwissenchaft) [11], содержащие план изложения материала и толкование основных понятий по естествознанию. В экземпляре этих таблиц из Отдела рукописей и книжных памятников Научной библиотеки Томского государственного университета немецкий текст Триниуса сопровождается рукописным переводом на русский язык, выполненным собственноручно Жуковским. В дополнение к таблицам для наследника было напечатано еще «Начертание для изъяснения таблиц, составленных по лекциям г. Три-ниуса», сделанное, очевидно, Жуковским [12]. И «Обзорные таблицы...», и «Начертание...» содержат в числе прочего справочные сведения, использованные в конспекте, - перечисление планет Солнечной системы, расстояние от каждой из них до Солнца, количество спутников планет, периоды обращения планет вокруг Солнца и вокруг своей оси. Поскольку в тексте лекций Триниуса некоторые из этих данных отсутствуют, «Обзорные таблицы...» и «Начертание.» следует признать источниками конспекта (наряду с «Напоминанием»). В целом весь материал конспекта на л. 1 и, частично, на л. 1 об. является пересказом Триниуса. Из этого материала в статью «Взгляд на мир и человека» вошли только три последних абзаца (они стали первыми абзацами статьи). Последующий текст конспекта, полностью включенный в статью, у Триниуса отсутствует. Между тем он весьма своеобразен и содержит рассуждения о населенности планет «одушевленными существами». Идеи об обитаемости планет высказывались в XVIII - начале XIX в. разными авторами, в том числе Фонтенелем, Гюйгенсом, Кантом, но в данном случае Жуковский заимствует их, по-видимому, из 1 -й и 2-й глав 1 -й книги Д.В. Долгушин 94 «Идей к философии истории» И.Г. Гердера1. Как и в случае с Триниу-сом, Жуковский скорее вольно пересказывает, чем переводит его, но в некоторых случаях совпадает с Гердером практически текстуально. Сравним, например, гердеровский пассаж (в переводе А.В. Михайлова) с приведенным выше рассуждением Жуковского о «миллионах солнц»: Мы обычно довольствуемся представлением о том, что Земля - это песчинка, что она плавает в огромной бездне, что все земли вращаются по своим орбитам вокруг Солнца, что Солнце и тысячи подобных ему солнц, а, может быть, и множество таких солнечных систем вращаются по своим орбитам вокруг своего центра в рассеянных небесных пространствах, -наконец наше воображение, да и наш рассудок теряются в этом океане безмерности и вечного величия и не знают уже, где начало, где конец [14. С. 13-14]. Очевидно, что гердеровские тексты, как и тексты Триниуса, использовались Жуковским при написании конспекта. Вслед за их пересказом Жуковский приступает к собственным рассуждениям религиознофилософского плана, именно они и образуют главную, кульминационную часть статьи «Взгляд на мир и человека»: восторгаясь красотой и величием мироздания, Жуковский подводит читателя к выводу о величии и красоте Творца. Мир предстает в статье не просто сонмом миллионов солнц и планет, но еще и хором бессчетных множеств населяющих их существ, каждое из которых устремлено к Богу: И над этою бездною величия властвует Бог - Создатель и Хранитель; и мимо этой бездны, прямо к сему Создателю, по одному только духовному свойству своему, из каждой планеты, из каждого солнца переносится мыслию постигающая Его душа . Со всех миров раздается один 1 На возможную связь статьи «Взгляд на мир и человека» с этим гердеровским текстом указывала Н.Б. Реморова, она же описала пометки Жуковского в 1-й главе «Идей к философии истории», свидетельствующие о том, что поэт собирался использовать выдержки из этой главы «с дидактической целью» [8. С. 158]. Однако исследовательница сочла, что Жуковский отказался от этого намерения и Гердера все же не использовал. Нам кажется, что это не так, и влияние гердеров-ского текста на статью «Взгляд на мир и человека» неоспоримо. Об этом косвенно свидетельствует и то, что на полях описанного выше конспекта, ставшего рукописью статьи, Жуковский записывает названия тех произведений Гердера, которые наметил к включению в «Собиратель»: Licht und Liebe, Gestalt des Menschen, Adams Tod [9. Л. 2]. Кроме того, на особый интерес Жуковского-педагога к «Идеям к философии истории» указывает и то, что 4 июня 1828 г. он взял эту книгу из библиотеки наследника престола [2. С. 726; 13. С. 107]. Учебные периодические издания в «придворной педагогике» 95 общий хор хваления Божия, и все миры соединены одною связью - любовью к Богу [2. С. 219-220]. Подобный ход мысли (от восхищения премудрым устройством природы к прославлению ее Творца) был хорошо знаком Жуковскому с ранней юности - не только по физико-теологической и дидактической поэзии XVIII в.1, но и по «духовным чтениям», устраивавшимся в Московском благородном пансионе ежедневно после вечерних молитв. На этих чтениях пансионерам читалась вслух книга пастора Х.Х. Штурма «Размышления о делах Божиих в царстве натуры и провидения на каждый день года» [16]2, включавшая в себя выдержки из сочинений различных натуралистов (в том числе из Бюффона и Бонне) и благочестивые размышления на тему премудрого устройства природы. Но кроме влияния упомянутых двух традиций, вполне можно предположить влияние и «Обитателя предместия» М.Н. Муравьева. Смысловым центром этого произведения, как мы уже указывали в предыдущей статье, является беседа Обитателя предместия с Ила-новым. В ходе ее Иланов ведет речи, и по форме, и по содержанию очень напоминающие рассуждения Жуковского. Подробно, с теми же астрономическими деталями, что и Жуковский, Иланов описывает Солнечную систему, а затем делает восторженный вывод о премудрости создавшего ее Божества: Источник света и жизни - горящее солнце, служит средоточием для подчиненных ему планет. Не пременяя места, обращается оно на оси своей. Десять тысяч поперечников шара нашего отделяют нас от солнца. Всех ближе к нему катится Меркурий. Видишь сие блистающее светило? это Венера. Она странствует так же, как Земля, блистая заемным светом. Ниже ее шествует Земля - прекрасная обитель человека. Служебная планета, Луна, ей сопутствует, обращаясь кругом и освещая ночи ее. Четвертый круг описывается Марсом. В чрезвычайном отдалении, огромный Юпитер с четырьмя Лунами совершает длинный путь свой. Далее движется 1 Например, «Вечернему размышлению о Божием величестве» М.В. Ломоносова: «Скажитеж, коль пространен свет? / И что малейших дале звезд? / Несведом тварей вам конец? / Скажитеж, коль велик Творец?», или его же «Письму о пользе стекла»: «Во зрительных трубах Стекло являет нам, / Колико дал Творец пространство небесам. / Толь много солнцев в них пылающих сияет, / Недвижных сколько звезд нам ясна ночь являет. / Коль созданных вещей пространно естество! / О коль велико их создавше Божество!» [15. С. 123, 518] 2 Перевод книги: Sturm Ch.Ch. Unterhaltungen mit Gott in den Morgenstunden, auf jeden Tag des Jahres. 1768. Bd. 1, 2. Д.В. Долгушин 96 Сатурн. Отдаление солнца заменяется ему изобилием спутников, отражающих слабеющие лучи солнца, и твердым кольцом, плавающим около него. Око астронома не постигнет всех миров; но сердце благодарное и незлобивое полагает пределы любопытству благоговением, и восхищается премудростию Божиею в самое то время, когда признает свое неведение и слабость [17. С. 81-82]. Повышенное внимание Жуковского к наследию Муравьева, его участие в публикации «Обитателя предместия» говорят в пользу того, что Жуковскому могло быть памятно это место из беседы Иланова, и, следовательно, он мог ориентироваться на него при работе над статьей «Взгляд на мир и человека». Но даже если это не так, несомненно единство аксиологии, проявившейся в текстах Жуковского и Муравьева, - аксиологии «религии сердца». Очевидно и единство методических подходов. И для Жуковского, и для Муравьева фактологическое, образовательное изложение материала является поводом для морально-нравственных назиданий и религиозно-философских экскурсов. Такой методике Жуковский следовал и при преподавании истории - вполне в духе Н.М. Карамзина, «смотревшего на историю глазами художника и патриотического моралиста скорее, чем исследователя» (цит. по: [18. С. 43]). Так, в составленном Жуковским для вел. кн. Александра Николаевича пособии «Черты истории государства Российского» подробное описание событий домонгольского периода оказывается «подводкой» к моральнополитическому рассуждению, в котором Жуковский старается донести до своего ученика провиденциалистскую мысль о том, что правителю необходимо идти вместе со своим веком, но «ровным шагом»: «отстанете - он вас покинет; повлечете его быстро вперед - ниспровергнете все и себя; осмелитесь преградить ему дорогу - он вас раздавит» [2. С. 166]. Точно так же и в статье «Взгляд на мир и человека» астрономическая тема - это фундамент, на котором возводится главное здание -обосновывается религиозный тезис о том, что «человек, скоропреходящий сын земли, есть вечный сын неба», и дается его поэтикоаллегорическая артикуляция: «земля - училище; жизнь - воспитание; Бог - воспитатель» [2. С. 220]. Подобного рода моральные экскурсы в педагогических сочинениях Жуковского не были случайными и разрозненными высказываниями ad hoc. Перед нами, несомненно, планомерная и целенаправленная Учебные периодические издания в «придворной педагогике» 97 деятельность по формированию жизненных установок ученика, достигаемая через морализацию и поэтизацию преподаваемого материала. Стратегия эта, судя по всему, была довольно успешной. Великий князь постепенно усваивал не только систему ценностей своих учителей, но даже способ их образного мышления на морально-нравственные темы. Так, судя по записи в дневнике К.К. Мердера, 7 мая 1829 г. Александр Николаевич рассуждал о назначении человека прямо словами Жуковского. К.К. Мердер рассказывает: Говоря о человеке, Великий Князь сказал: «я сравниваю человека с учеником, переходящим из одного училища в другое, тот из учеников, который в низшем училище превзойдет образованием товарищей, имеет право надеяться занять в высшем училище почетное место; человек, окончив свое нравственное образование на земле, перейдет в другую жизнь и, следовательно, там займет место по достоинству». Мы не могли не похвалить сравнения Великого Князя и не радоваться его ясному и здравому уму [19. Л. 102]. Морализация и поэтизация материала в ходе педагогической деятельности имели не только воспитательное, но и интегративное значение. Они стягивали воедино темы и дисциплины, казалось бы, друг с другом не связанные. В этом проявлялась еще одна сближающая Жуковского с Муравьевым педагогическая установка - стремление к универсальности образования. «Собиратель» может быть рассмотрен в качестве примера подобного рода интеграции. Начинается он, как мы уже знаем, с отрывка из конспекта по естественной истории, превращенного в статью «Взгляд на мир и человека», в которой Жуковский называет человека «скоропреходящим сыном земли» и «вечным сыном неба». Со сходного определения человека начинается и другой, также не публиковавшийся при жизни поэта, его конспект 1829 г. - уже не по естественной, а по всемирной истории: «Человек, по телесному составу своему есть скоропреходящий сын земли, по душе своей он есть вечный сын неба» [2. С. 586]. В конспекте по всемирной истории Жуковский подхватывает ту линию рассуждений, которую начал в конспекте по истории естественной, соединяя эти две дисциплины друг с другом. Логика изложения материала в конспекте по всемирной истории такова. Небесная природа души, говорит Жуковский, побуждает человека стремиться к бессмертию, телесное же начало соединяет его с землей, где время пытается все уничтожить. Человек вступает в борьбу с ним. «Как Лапландец, привязанный к снежному своему климату, человек, хотя и Д.В. Долгушин 98 назначен для бессмертия, но любит землю свою и желает на ней продлиться» [2. C. 586]. Поэтому он воздвигает памятники, сохраняющие след земной его жизни. Памятник дает неизменяемость минувшему. Он неподвижен среди окружающего его движения. Он всегда в настоящем, но говорит о прошедшем для будущего [Там же]. Через упоминание о памятниках Жуковский интегрирует в учебный процесс идеи своей поэтической философии, в которой столь важное место занимала тема воспоминания как способа борьбы со всепоглощающим хроносом. С помощью воспоминания, считает Жуковский-лирик, можно победить изменчивость, приостановить неостановимую смену прошлого, настоящего и будущего, нащупать твердую почву вечности в текучей реке времен: «для сердца прошедшее вечно», «прошедшее тебе не изменит». Жуковский-педагог делает поэтику воспоминания отправной точкой своих рассуждений об истории как науке. Памятники, говорит он, «могут быть или естественные или искусственные». Естественные - это природные объекты, если с ними связаны какие-либо предания, а искусственные делятся на два вида -на существующие во времени и существующие в пространстве. К первым относятся праздники, годовщины, дни исторические и, что самое главное, - язык. Язык и сам по себе носитель памяти. Еще в большей степени он становится таковым, когда появляется поэзия. Песни поэтов - это «хранилище прошедшего», «минувшее живет в них для потомков». Однако в устной передаче к памяти о прошлом примешивается вымысел, и лишь «письмо дает неизменность преданию. С письмом рождается История» [Там же. С 587]. Далее Жуковский рассказывает о зарождении исторической мысли в Греции, о Геродоте и Фукидиде, и отмечает, что во времена греков и римлян не было чистого представления о человеке, они «знали только просвещенных и варваров, свободных и невольников». «Христианство сделало людей братьями», «чистейшее понятие о Божестве очистило и понятие о человечестве» [Там же. С. 588]. После этого Жуковский приводит примеры жестокости древних и филантропии христиан и переходит к разговору о человечестве, деля его, вслед за современными поэту теориями Блуменбаха, на пять рас - кавказскую, монгольскую, эфиопскую, американскую и малакскую. Возвращаясь от конспекта Жуковского по всемирной истории к «Собирателю», мы обнаружим, что первый номер «Собирателя» вос- Учебные периодические издания в «придворной педагогике» 99 производит структуру и логику этого конспекта. В раздел «Выписки» Жуковский помещает несколько тематических блоков (каждый из них состоит из цитат, афоризмов и отрывков): «Ничтожность человека на Земле», «Памятники», «Поэзия», «Предание», «Письмо», «История». Как видим, эти блоки прямо соответствуют изложению материала в конспекте, а некоторых случаях и совпадают с ним текстуально. Так, и в конспект, и в «Собиратель» вошло сравнение истории с «сосудом серебряным, заключающим в себе плоды золотые» и афоризм Цицерона о том, что история «есть душа памяти, толкователь прошедшего, оракул жизни, путеводный светильник истины» [2. С. 227, 588]. Таким образом, оказывается, что первый номер «Собирателя» строится как методическое расширение двух конспектов - по естественной и по всеобщей истории. По сути, он является хрестоматией к ним1. С педагогическими изданиями Муравьева его роднят акцент на нравственной дидактике, универсалистская установка и физикотеологическая тема, связанная с аксиологией «религии сердца». В отношении стиля и формы «Собиратель» напоминает, скорее, не периодические издания, а учебники Муравьева. Он непосредственно связан с учебным процессом, подчеркнуто назидателен, не предполагает игры и ориентирован на сферу учебы, а не досуга. В этом смысле противоположностью «Собирателю» стал «Муравейник», в котором традиции периодических изданий Муравьева оказались отражены не только на содержательном, но и на стилистическом уровне. К анализу «Муравейника» мы и перейдем в заключительной, третьей, статье цикла.
Долгушин Д.В. Учебные периодические издания в «придворной педагогике» М.Н. Муравьева и В.А. Жуковского. Статья первая // Текст. Книга. Книгоиздание. 2020. № 23. С. 5-21.
Жуковский В.А. Полное собрание сочинений и писем : в 20 т / ред. кол.: И.А. Айзикова, Э.М. Жилякова, В.С. Киселев, О.Б. Лебедева, Н.Е. Никонова, И.А. Поплавская, А.С. Янушкевич (гл. редактор). М. : Изд. Дом ЯСК, 2016. Т. 11 (первый полутом): Проза 1810-1840-х годов / ред. А.С. Янушкевич. 1048 с.
Jonsson E.M. Les « miroirs aux princes » sont-ils un genre littéraire ? // Medievales : [онлайн-журнал]. 2006. № 51. URL: https://journals.openedition.org/medievales/1461
Канунова Ф.З., Айзикова И.А., Никонова Н.Е. Эстетика и поэтика переводов B. А. Жуковского 1820-х - 1840-х годов: проблемы диалога, нарратива, мифопоэтики. Томск : Изд-во Том. ун-та, 2009. 438 с.
Янушкевич А.С. Круг чтения В.А. Жуковского 1820- 30-х годов как отражение его общественной позиции // Библиотека В.А. Жуковского в Томске : в 3 ч. Томск : Изд-во Том. ун-та, 1978. Ч. 1. С. 466-521.
Engel J.-J. Furstenspiegel. Berlin, 1798. 308 S.
Айзикова И.А. Жанрово-стилевая система прозы В.А. Жуковского. Томск : Изд-во Том. ун-та, 2004. 406 с.
Реморова Н.Б. В.А. Жуковский - читатель и переводчик Гердера // Библиотека В.А. Жуковского в Томске : в 3 ч. Томск : Изд-во Том. ун-та, 1978. Ч. 1. C. 149-300.
Жуковский В.А. Конспект по естественной истории и физике // РНБ. Ф. 286. Оп. 1. № 22. 48 л.
[Trinius K.] Zur Erinnerung an unsere Unterhaltung uber Allgemeine Naturgeschichte in den Jahren 1829 und 1830. [S.l., s.a.]. 342 S.
Uebersichts-Tabelle der Naturwissenchaft. [S.l., s.a.]. 21 S.
Начертание естественной науки для изъяснения таблиц, составленных по лекциям г. Триниуса. [Б.м., б.г.]. 35 с.
Ребеккини Д. В.А. Жуковский и библиотека наследника Александра Николаевича (1828-1837) // Жуковский: исследования и материалы. Томск : Изд-во Том. ун-та, 2013. Вып. 2. С. 77-136.
Гердер И.-Г. Идеи к философии истории человечества / пер. и примеч. А.В. Михайлова. М. : Наука, 1977. 703 с.
Ломоносов М.В. Полное собрание сочинений : в 11 т. М. ; Л. : Изд-во АН СССР, 1959. Т. 8: Поэзия, ораторская проза, надписи. 1732-1764. 1279 с.
[Штурм K.X.] Размышления о делах Божиих в царстве натуры и провидения на каждый день года : пер. с нем. : изд. периодическое. М., 1787-1788. Ч. 1-4. 337, 336, 349, 345 с.
Муравьев М.Н. Сочинения Муравьева. СПб. : А. Смирдин, 1847. Т. 1. 445 с.
Гузаиров Т. Жуковский - историк и идеолог николаевского царствования. Тарту : Tartu Ulikooli Kirjastus, 2007. 156 c.
Карл Карлович Мердер. 1824-1834 // ГАРФ. Ф. 728. Оп. 1. Ч. 2. № 2761. 331 л.
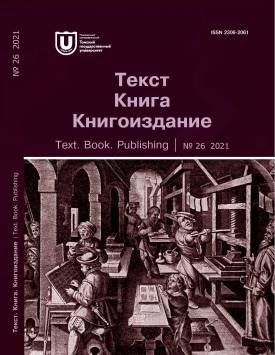

 Вы можете добавить статью
Вы можете добавить статью