Оценивается монография ЮА. Русиной «Самиздат в СССР: тексты и судьбы», в которой рассмотрены материалы самиздата как собрание огромного количества документов разных жанров в контексте феномена инакомыслия в СССР. Рецензенты усматривают главную задачу исследования в интерпретации и аналитической обработке документов в качестве исторических источников. Самиздат представлен не только как запрещенная к публикации художественная литература, но и как результат социальной, политической, журналистской, правозащитной и другой деятельности в трех аспектах: как дополняющее официальную культуру явление XX в., как своеобразная самоорганизация, саморефлексия общества и как исторический источник, дающий возможность изучения советского общества. Отмечается, что это дает возможность автору представить репрезентативную и достаточно полную картину российского самиздата.
The Samizdat Generation. Book Review: Rusina, Yu.A. (2019) Samizdat v SSSR: Teksty iSud’by [Samizdat in the USSR: Texts .pdf Самиздат - крайне самобытное явление в интеллектуальной и социально-политической истории нашей страны. Неслучайно наряду с такими словами, как гласность, перестройка, КГБ, слово «самиздат» не переводится на иностранные языки, но существует в форме кальки: 1 Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ № 19-512-23003 «Самосознание и диалог поколений в русской и венгерской литературной практике XX-XXI веков». Т.А. Снигирева, А.В. Подчиненов 180 “samizdat”. Закономерно, что анализу истории его существования посвящена серия работ как собственно исследовательского, так и публицистического и мемуарного характера. Основные из них квалифицированно аннотированы в монографии Ю. Русиной (см. раздел книги «Краткая библиография по истории советского самиздата»), а на четвертую страницу обложки вынесены точные формулы расшифровки явления и его значимости, данные видными деятелями самиздата: «Самсебяиздат» (Н. Глазков); «Сам сочиняю, сам редактирую, сам цензурирую, сам издаю, сам распространяю и сам отсиживаю...» (В. Буковский); «Единственно возможная форма преодоления государственной монополии на распространение идей и информации» (Л. Алексеева); «Специфический способ бытования общественно значимых неподцензурных текстов, состоящий в том, что их тиражирование происходит вне авторского контроля, в процессе их распространения в читательской среде» (А. Даниэль). Накопленный исследовательский опыт позволяет автору новой книги о самиздате в первой главе «Что такое самиздат и где он хранится?» выделить три бытующие в современной гуманитаристике точки зрения на самиздат. Во-первых, самиздат рассматривается как культурное явление XX в., как «другая», «вторая культура». В этом смысле он не противостоит официальной культуре, но дополняет ее. Во-вторых, самиздат исследуется в соотнесенности с понятием «общество», в качестве феномена самоорганизации, саморефлексии общества, является знаком интеллектуальной реакции и каналом информации. В-третьих, самиздат может быть рассмотрен и рассматривается как исторический источник, дающий возможность изучения советского общества и реакции его части на политику государства. Сразу заметим, что источниковедческий подход становится доминирующим в рецензируемой книге при уместном подключении двух других - культурологического и социологического. В этой же преамбульной главе автор предпринимает попытку жанровой систематизации огромного документального самиздатовского массива, выделяя следующие его составляющие: художественная литература, сборники документов (судебные процессы, газетные публикации, отчеты о демонстрациях, письма протеста), периодические издания (журналы), мемуары и воспоминания диссидентов, философские, исторические, социально-политические и публицистические Поколение самиздата. Рецензия на книгу: Русина Ю.А. Самиздат в СССР 181 произведения. Очевидно, что жанровая систематика в данном случае дополняется и смешивается с типом издания. Так, журналы могут включать в себя и публицистику, и документальные свидетельства, и мемуарную прозу. Однако обобщающий вывод главы в какой-то мере снимает возникшую неточность и подготавливает дальнейшее развертывание научного сюжета: «...самиздат - это обширный культурный пласт с множеством слоев разнородных мнений, взглядов, поведенческих проявлений. Он вместил в себя историю оппозиционной мысли и действий правозащитников, инакомыслящих и несогласных с их драматическими судьбами. Словосочетание “текст самиздата” подразумевает не только некий письменный документ, но и широкую палитру жизни позднего социалистического общества, говорящую о состоянии его умов, творческом потенциале, политических представлениях и спектрах разномыслия» [1. С. 26]. Монография, в названии которой точно определено явление и место его существования, - «Самиздат в СССР» - несет и важное смысловое уточнение - «книги и судьбы», что указывает на ее двойную цель: исследование не только результатов гражданской деятельности официально преследуемой части поколения, избавившейся от страха перед «мертвой буквой закона» (Б. Пастернак) в годы войны и послевоенного десятилетия, но драматичной, порой трагической судьбы его представителей. В книге ощутимо проступает поколенческий сюжет: самиздат создавался яркими и дерзкими представителями поколения «оттепели». В этом смысле показательна вторая глава книги «Виды и содержание самиздата». Точно отобранный материал, составивший ее параграфы (2.1. Открытые письма, обращения и заявления протеста; 2.2. Материалы судебных процессов; 2.3. Сборники документов), позволил автору, кроме ввода и анализа редкого документального материала, показать стойкость «детей оттепели» в отстаивании своей правды, защите своих соратников во всех возможных формах: от протестных писем, необходимость появления которых была вызвана арестами (например, А. Гинзбурга, Ю. Галанскова, П. Григоренко), до составления сборника о политических процессах, знаменитой «Белой книги». Убедительно и глубоко показаны причины, по которым приговоренные настаивали на своем праве - последнем слове обвиняемого, дабы публично, последовательно и аргументированно обосновать свою Т.А. Снигирева, А.В. Подчиненов 182 гражданскую позицию. Автор характеризует (а порой просто упоминает) последние слова Ю. Даниэля, А. Синявского, В. Буковского, Л. Богораз, П. Литвинова, В. Делоне, В. Дремлюга, К. Бабицкого, А. Амальрика, В. Кукуя. По справедливой оценке исследователя, «последнее слово обвиняемого в контексте изучения инакомыслия в СССР можно рассматривать как разновидность исторического источника, содержащего уникальную информацию. Значение этих материалов подтверждается их местом в самиздате, где они распространялись как автономные документы. Исследование идей диссидентского движения, его персонального состава невозможно без привлечения этих заключительных аккордов политических процессов, которые ярко характеризуют личность обвиняемого, иногда истоки его инакомыслия, цели оппозиционных действий и т.п.» [1. С. 68]. В третьей и четвертой главах монографии «Журналы в самиздате», «Самиздат в провинции: студенческая литературная и художественно-публицистическая периодика» Ю. Русина не только детально описывает названные проблемы, но способами их решения углубляет и / или намечает несколько научных сюжетов, предполагающих возможность дальнейшего изучения материала, взятого для анализа. Так, определяя значимость периодических изданий («Появление нелегальных журналов означало, с одной стороны, качественный рост и развитие самого самиздата, а с другой - организационное оформление различных оппозиционных движений» [Там же. С. 82]), показывая все разнообразие оттенков независимой мысли в неподцензурных изданиях («...журналы социально-политического, национального и религиозного содержания: “Политический дневник”, “Общественные проблемы”, “Вече”, “Вестник спасения”, “Исход”, “Вестник Исхода”, “Белая книга исхода” и др.» [Там же. С. 99]), автор особое внимание уделяет «самому большому достижению правозащитников» - бюллетеню «Хроника текущих событий». Фактически первый выпуск «Хроники текущих событий» рассмотрен Ю. Русиной как целостный текст: от рубрикатора до определения смысловой стратегии журнала и тактики компоновки материала, т.е. в рамках той методики анализа, которая в свое время была предложена в главе «Один номер “Колокола”» в книге Н.Я. Эйдельмана «Герценовский “Колокол”» [2]. Историк представил номер периодического издания, который, возможно, является первым прецедентом российского «тамиздата», что называ- Поколение самиздата. Рецензия на книгу: Русина Ю.А. Самиздат в СССР 183 ется «от корки до корки»: от титульного листа до последней страницы, от поэтики названия до особенности шрифта, от структуры до объявленной цены, от содержания именно этого 64-го номера от 1 марта 1860 г. до соотнесенности его с другими номерами - шире -основной направленностью журналистской деятельности Герцена и Огарева. Сами приемы интерпретации свидетельствуют о том, что Н.Я. Эйдельман рассматривает «Колокол» как текст, несущий формально-смысловое единство, что характерно и для анализа одного номера «Хроники...», предпринятого Ю. Русиной, более того (и в этом видится продвижение вперед научной мысли), показано, что целостность, смысловое единство каждой журнальной книги предопределены направлением журнала, его общей политической стратегией [3]. А характеристика самиздатовского журнала «Вече» буквально наталкивает исследователей, занимающихся историей «толстого» журнала в России, на научную гипотетически продуктивную идею сравнительного анализа постановки и решения социально-политических проблем в легальных, но оппозиционных режиму и неподцензурных журналах, скажем сопоставление позиции в споре западников и славянофилов на страницах «Нового мира» и реакции оппозиционного сообщества на материалы, публиковавшиеся в журнале «Вече». Анализ «Хроники.», «Вече», других достаточно многочисленных журналов самиздата («Политический дневник», «Общественные проблемы», «Вестник спасения», «Исход», «Вестник Исхода», «Белая книга Исхода» и др.), в том числе и журналов «второй культуры» («37», «Часы», «Обводной канал», «Метродор», «Сумма», «Надежда» и др.), позволяет автору документально подтвердить известное высказывание И. Шафаревича на пресс-конференции 14 ноября 1974 г. о сборнике «Из-под глыб»: «При всем разнообразии оттенков независимой мысли в нашей стране одно положение принимается почти единодушно: основной, решающей причиной, препятствующей нашему нормальному развитию, признается недостаток свободы» [4]. В аспекте креативного потенциала рецензируемой монографии особого внимания заслуживает ее заключительная четвертая глава «Самиздат в провинции: студенческая литературная и художественно-публицистическая периодика». Студенческие рукописные и машинописные журналы, типичное явление для советских вузов 1950 -начала 1960-х гг., с одной стороны, стали предвестниками политиче- Т.А. Снигирева, А.В. Подчиненов 184 ского самиздата, с другой - следствием того творческого и духовного подъема, который вызвало разоблачение культа личности. На первых страницах книги автор неоднократно обращает внимание на то, что «самиздат даже в современной интеллектуальной среде часто ассоциируется только с запрещенной к изданию художественной литературой, в то время как социально-политические самиздатские тексты обладают огромным информационным потенциалом и общественной значимостью» [1. С. 7]. Неоднократное указание на разнообразие литературы самиздата часто сопровождается акцентом на необходимость внимания к его «нехудожественным» пластам: «Действительно, существование самиздата напрямую связано с цензурой, но является он не только в форме художественного произведения, а мог быть и публицистическим, и религиозным, и научным историческим или философским текстом, и аудиозаписью и др.» [Там же. С. 11]. Углубленный, основанный на кропотливой работе в архивах анализ самиздата не столичной, но региональной локации обнаруживает проницаемость границ между политическими высказываниями и творческим волеизъявлением. Уже первый параграф главы, посвященный самодеятельному литературному альманаху Уральского государственного университета с непритязательным, но знаковым названием «Наше творчество», строится на обрисовке конфликта между окрыленными победой фронтовиками и рано повзрослевшими во время войны школьникам, которые пришли в послевоенные вузы и за знаниями, и с надеждой на самовыражение, и партаппаратом и комсомольским активом, которым студенческое творчество представлялось «идейно чуждым по своему идейному содержанию». Вузовская оппозиционность, вызванная «закручиванием гаек» в послевоенное десятилетие, с одной стороны, реализовалась, и это доказано анализом архивных материалов, в «создании конспиративных кружков и подпольных студенческих групп, имеющих программные документы» [Там же. С. 144], с другой - проявляла себя в творческом инакомыслии, о чем свидетельствует характеристика самиздатовских журналов «Всходы» и «В поисках», и в самой атмосфере студенческих «умов брожений», когда публичная лекция студента-филолога УрГУ могла быть названа «Сон и сновидения», а финальный аккорд ее звучал как анекдотический афоризм: «Да здравствует Коммунистическая партия Советского Союза - великий организатор массовых снов и сновиде- Поколение самиздата. Рецензия на книгу: Русина Ю.А. Самиздат в СССР 185 ний» [1. С. 145]. Тот же принцип языковой игры (нарушение горизонта ожидаемого) характерен и для «невинного» печатного органа -студенческой стенгазеты: «“Никакая партия не заменит ум, честь и совесть”, - афоризм, родившийся в редколлегии “Боевого органа комсомольской сатиры” (БОКС), стенгазеты Уральского политехнического института (УПИ) второй половины 1950-х гг.» [Там же. С. 159], анализ которой является безусловной находкой Ю. Русиной. По справедливому замечанию автора, «стенгазета - явление уникальное. В отличие от классического самиздата она создается в единственном экземпляре и доступна читателю сравнительно недолгий срок. В то же время - это “голос снизу”, способ выразить свое мнение, донести его до власть имущих и единомышленников одновременно» [Там же]. Добавим, что атмосферу свободомыслия поддерживали и лекции, читаемые на филфаке Уральского университета, на которых цитировались и анализировались (без называния имен и произведений) «Собачье сердце», «Роковые яйца», «Повесть непогашенной луны», «Заблудившийся трамвай»... Список можно продолжить. Оппозиционность творческой и технической молодой интеллигенции 1950-1960-х гг. являла себя и широко ходившим в ее среде самиздатом, не только столичного происхождения, но создаваемым «на местах». Конечно, это был прежде всего литературный самиздат в его разнообразном материальном воплощении: переписанный от руки «Реквием» А. Ахматовой, фотокопии «Доктора Живаго» Б. Пастернака, перепечатанные на машинки «Письма к Тесковой» М. Цветаевой, переплетенные в книги стихотворения Н. Гумилева, О. Мандельштама, Б. Слуцкого, песни В. Высоцкого, А. Галича, скетчи М. Жванецкого (в последних случаях активно подключались и магнитофонные записи). Несколько слов о том, как написана книга. Ей свойственно некое внутреннее противостояние: нарочитая сухость изложения, установка на максимальную объективность, позиция «вненаходимости» автора в материале сталкивается с потаенной, но прорывающейся взволнованностью, сопереживанием исследователя судьбам героев самизда-товского движения. Знаки напряжения между научной логикой и эмоциональным отношением к описываемым сюжетам «разбросаны» по всей книге. Это и эпиграфы к каждой главе, нередко стихотворные. Например, глава «Самиздат в провинции: студенческая литературная и художественно-публицистическая периодика» предваряется эпигра- Т.А. Снигирева, А.В. Подчиненов 186 фом из Ц.К. Норвида в переводе В. Рутминского, литератора, серьезно пострадавшего за свою привязанность и пропаганду поэзии Серебряного века: «Как много их тут... Генералы, пехота, / Полиция вида и сорта любого. / На что же идет здесь такая охота? / Всего лишь на несколько мыслей. Не ново!» [1. С. 132]. Это могут быть неожиданные, но точные оценочные характеристики: «.история “Хроники” -это один из самых ярких фактов истории правозащитного движения. В итоге журнал приобрел репутацию очень аккуратного источника информации о нарушении прав человека в СССР и правозащитном движении» [Там же. С. 82, 83-84]. Наконец (думается, не без влияния материала), автор умело использует прием переклички времен, анализируя, например, опубликованный в 9-м выпуске «Общественных проблем» актуальный и ныне документ - «Хартию научных работников»: «В документе подчеркивается, что задача организации, планирования научной деятельности и руководства ею, имеющая свою специфику, чтобы быть успешно решенной, должна опираться на особые методы по сравнению, например, с административной или торговой сферой» [Там же. С. 108]. В заключение отметим, что монография Ю. Русиной актуализирует и тем самым возвращает интерес к двум моментам: источниковедческой методологии для изучения российского самиздата и огромному пласту далеко еще не описанной региональной литературы инакомыслия. При обращении и изучении исторических источников легко попасть под обаяние свидетельств, созвучных исследователю по своему характеру и содержанию, чего счастливо смогла избежать Ю. Русина. Приемы ее исследования - «обращение к научно обоснованным методикам проверки достоверности, сравнение с другими источниками, привлечение максимально полного комплекса сохранившихся материалов, учет характеристик видовой классификации» [Там же. С. 170] - позволяют вполне доверять объективности ее выводов.
Русина Ю.А. Самиздат в СССР: тексты и судьбы. СПб. : Алетейя ; Екатеринбург : Изд-во Урал. ун-та, 2019. 204 с.
Эйдельман Н. Герценовский «Колокол». М. : Учпедгиз, 1963. 104 с.
Снигирева Т.А., Подчиненов А.В. Феномен российского литературнохудожественного журнала. Екатеринбург : Изд-во Урал. ун-та, 2018. 143 с.
Шафаревич И. О сборнике «Из-под глыб». URL: http://shafarevich.voskres.ru/a32.htm (дата обращения: 15.05.2020)
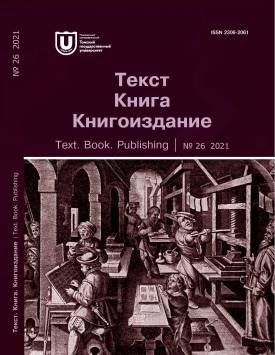

 Вы можете добавить статью
Вы можете добавить статью