Исследуется функция образа-кода Храма как текстообразующего знака «русского мира» в полусонетах Г.В. Голохвастова. Предлагаемое исследование содержит описание, анализ и интерпретацию образа Храма на материале полусонетов, образовавших в творчестве поэта отчетливо циклизующиеся художественные единства, включающие художественные символы креста, иконостаса, иконы, монаха.
The “Temple Cycle” in the Book of Poems by the Emigrant Poet Georgiy Golokhvastov as a Text in a Text.pdf Георгий Голохвастов - идейный лидер группы поэтов-эмигрантов первой волны (Е.В. Христиани, Д.А. Магула, В.С. Ильяшенко), образовавшейся в 1920-1930-е гг. в Нью-Йорке и названной Е. Витков-ским русско-американской школой [1. С. 553]. Биография Голохвастова изучена недостаточно, поскольку большая часть архивов поэта на сегодняшний день недоступна (фонд поэта хранится в Библиотеке редких книг и рукописей Колумбийского университета, Нью-Йорк), однако достоверно известно, что в январе 1917 г. он в чине полковника был командирован за границу, где после октябрьского переворота принял решение не возвращаться в Россию. С 1920 г. Голохвастов живет в США, возглавляя Нью-Йоркское русское Общество искусств и литературы, а с 1937 г. - Американский Пушкинский комитет. Для понимания художественного наследия поэта принципиально важен факт его идеологически добровольной, а не вынужденной эмиграции. Голохвастов сознательно отделил себя после революции О.К. Страшкова, А.Д. Алексенко 6 от новой России и не поддержал ни одну из враждующих идеологий. Поэт не принимал участия в братоубийственной войне и трагических революционных событиях, поэтому в США он унес навсегда запечатленный в памяти идиллический образ соборной Руси, ассоциируемой с родовым имением. Россия, воссозданная в лирике Голохвастова, -это большой дом с приветливым треском печи или песнями из девичьей, это тройка с бубенцами, бегущая по заснеженному простору, «разливы спелой ржи», «храм бедный с ветхой колокольней», «лампады у киота» и пасхальный праздничный звон, разливающийся над всей Россией-Русью. Безусловна ценность поэзии Голохвастова, «в значительной своей части, тенденциозно, но бескорыстно ориентированной на выражение уникальности российской цивилизации, неотъемлемой и органичной частью которой, находясь в условиях вынужденной эмиграции, он продолжал себя ощущать» [2. С. 49]. В поэтической системе Голохвастова создана особая концептуальная художественно-эстетическая модель «русского мира», непротиворечиво выражающая самобытные цивилизационные установки автора. Идейными и аксиологическими основаниями российской идентичности в творчестве поэта выступают канонические образы-коды: Государство, Государь и Вера, - при этом доминантной в модели «русского мира» Голохвастова выступает православная вера: «Мечту / На берегах Г енисаретских / Доверил тихому Христу» [3. С. 15]. Поэт воспринимал веру как православие, непременно воплощающее духовные координаты того русского человека, который вынужден жить на чужой земле; она ассоциировалась с образами монастыря, креста, иконы, монаха. Эти семиотические коды иллюстрируют «русскую мысль» Голохвастова. В первых книгах стихов «Из Америки» (1925), «Полусонеты» (1931) коды храма, иконы, молитвы встречаются фрагментарно, не образуя законченного художественного диалога. Это единичные знаки, намечающие границы «русского мира», пока только ощущаемого поэтом, но не определяющего пафос творчества. В поздних книгах стихов «Жизнь и сны» (1943), «Четыре стихотворения» (1944), «Сонеты за полвека» (сер. 1950-х гг.) совокупность цивилизационных кодов образует уже монументальный соборный образ «Святой Руси» - вместилища нравственности русского народа, одухотворенного православными устоями и традициями. «Святая Русь» «Храмовый цикл» в книге стихов поэта-эмигранта Г.В. Голохвастова 7 не идентифицируется поэтом ни географически, ни хронологически -обширная и необъятная, существует она с начала времен, хранимая Великой Церковью и русскими святыми, жизнью своей связанными с русской землей. Святая Русь для поэта - это «не территория, но духовный космос, проекция вселенной верующего русского человека» [4. С. 8]. Реальным воплощением «Святой Руси» и образа Бога для русского человека в изгнании является Русская церковь, объединяющая под своей сенью всех страждущих и покинутых. Образ Православной Церкви - чтимый и трепетно хранимый в памяти эмигрантов - выступал опорой их духовной жизни, побуждая к творчеству. Церковь являлась на чужбине спасительным маяком для всех, кто шел туда, как в убежище от чужого мира, от трудностей жизни. Тоска по покинутой Родине воплотилась в художественных образах русских святынь и святых. Голохвастов трагически переживает вынужденную оторванность от России, явленной ему в своеобразном импрессионистическом хронотопе, поэтому в его творчестве постоянно воссоздаются образы русской земли, русской церкви и связанных с ней реалий. Образ Храма в поэзии Голохвастова отражает укорененное в православной традиции русской словесности соборное «мы», преодолевающее разобщенность мира и человека, оторванного от родной земли. Художественной задачей поэта стало воскрешение воцерковленной соборной России-Руси и отражение ее трагической судьбы в лирических формах различных сборников. Наиболее насыщенной православной тематикой стала книга стихов «Полусонеты», над которой поэт работал на протяжении длительного времени. Книга вышла в 1931 г. в Париже и считается наиболее продуктивным и эстетически значимым сборником русского «американца», поскольку концентрирует уже зрелое сознание художника, демонстрируя его представление о «русском мире». В сборник включены исключительно полусонеты в различных строфических вариациях: «ровно 300 единиц образцовых произведений жанрово-строфической формы» [5. С. 244]. Именно Голохвастов, по мнению Е.В. Витковского, довел до совершенства форму полусонета. Полусонеты в составе книги отличаются от полусонетов, функционирующих автономно, единством текстового пространства, циклической замкнутостью, поскольку выступают в своей нарративной функции как повторяющиеся строфы, подхватывающие и ведущие сквозные, О.К. Страшкова, А.Д. Алексенко 8 изначально заданные тематические партии [5. С. 246]. Корпус полусонетов членится на соотносимые тематические группы со своими эпицентрами, периферией и взаимопереходами. К числу таких образных текстовых единств относится корпус полусонетов на христианские темы, которые в книге стихов «Полусонеты» можно разделить на три циклических единства: церковные праздники («Страстная суббота», «Троицын день», «Пасха», «Святая ночь», «Апрельский день на небосклон...»); описания церквей и монашеских традиций («Темны лампады у киота.», «Монах», «Храм бедный с ветхой колокольней.», «Скит»); интерпретация библейских сюжетов («Мадонна», «Г рехопаденье»). Предметом анализа в статье является реализация в полусонетах Голохвастова образа-кода Храма, выступающего в модели мира для поэта символом культуры России, основанием традиционного миропорядка, трепетно хранимого в памяти поэта-эмигранта, причем реализация, отражающая динамическое развитие смыслов «Храмового цикла» как единого лирического текста. Лирический цикл Голохвастова воплощается в небольших тематических блоках, «соприкасающихся, пересекающихся, а иногда и расположенных совсем изолированно, т.е. несколько лирических произведений объединены в единую поэтическую структуру при помощи самых различных конструктивных приемов, главным из которых является сквозная тема или, что еще чаще, единая авторская эмоция» [6. С. 182]. Сквозной темой цикла выступает Святая Русь - всемирный светлый Храм, запечатленный в творческом импульсе Голохвастова. Размышляя о структурных особенностях лирического цикла, В. Сапогов отмечает: «Лирический сюжет строится на развитии и оттенках авторской эмоции; сила и “центростремительность” поэтического чувства являются тем моментом, который сдерживает стихотворения цикла в пределах единой поэтической структуры» [7. С. 90]. Именно циклическая организация «Храмовой» темы в тексте книги стихов позволяет выявить своеобразный сюжет вхождения лирического героя в Храм, его очищения и восхождения к горнему миру. Пространство Храма в лирике Голохвастова индивидуализируется под влиянием историко-культурной ситуации, психоментальных особенностей и личного опыта носителя. Код Храма в художественной системе Голохвастова имеет различные трансформации: это и одино-«Храмовый цикл» в книге стихов поэта-эмигранта Г.В. Голохвастова 9 кий монашеский скит, и древний монастырь, и небольшой городской приход. Описание церковного убранства в лирике Голохвастова поражает тихой сдержанной красотой, воссозданной в синтезе цветовых и светотеневых образов, звуков, едва уловимых движений воздуха, бликов, отсветов. Для поэта важна не только пластика образа, но и его эмоционально-психологическое переживание. Полусонет «Темны лампады у киота...» открывает книгу стихов: 1. Темны лампады у киота 2. С пучком давно засохших верб... 3. С печалью тихой лунный серп 4. В оконце глянул: позолота 5. Икон зажглась, и бледный блик 6. Чуть-чуть дрожит, как будто кто-то, 7. Незрим, Христа целует Лик [3. С. 10]. Полусонет начинается описанием старого, почти оставленного храма. Лампады у киота не зажжены, печать времени лежит на ветках «давно засохших верб». Являясь единым синтаксическим целым, описание убранства храма в 1-м и 2-м стихах прерывается взглядом лирического героя извне «вместе» с печальным лунным серпом. Последующее взаимодействие стихов находится в сфере оптической картины, составленной из живописных кадров: начиная с 3-го стиха в темное пространство заглядывает лунный серп, зажигая позолоту икон. Реализуется «гармонический принцип единовременного контраста» [5. С. 62]: пространственная статика храма оживляется эмоциональностью восприятия лирического субъекта и мерцанием бликов. Перебой ритма в 4-м стихе, вызванный несовпадением метрического членения с синтаксическим («В оконце глянул: позолота»), обеспечивает динамическое начало и повышает эмоциональное воздействие на читателя. Второй анжамбеман соответствует строфическому членению полусонета, попадая между катреном и терцетом, вследствие чего высвечивается гармонический центр полусонета, приходящийся на полноударное и семантически значимое слово «Икон». Иконостас здесь - часть единого целого, того предметного мира, который является важнейшей категорией эстетического мышления поэта. Терцет реализует идейно-художественный потенциал полусонета. В храме появляется незримый «Кто-то», чьим присутствием оживляет- О.К. Страшкова, А.Д. Алексенко 10 ся все пространство. Неопределенное местоимение «Кто-то» вмещает смысловые линии всего полусонета. Божий дом, даже ветхий и древний, не оставлен, а сам Святой Дух трепетно и благоговейно прикладывается к святому окладу, оживляя и наполняя святостью все пространство. Художественно значим в полусонете прием светописи. В 1-м и 2-м стихах пространство храма темно: «Темны лампады у киота». Используя прием светописи, Г олохвастов, вероятнее всего, находится под влиянием поэтики символизма, поскольку в 1-м стихе отчетливо прочитывается «Вхожу я в темные храмы» Блока. Далее происходит усиление светового образа: «лунный серп взглянул» - «позолота зажглась» -«бледный блик // дрожит» - «Лик». Светообраз развивается от легкого лунного свечения к расцвеченному бликами образу Спасителя. Оклады икон зажигаются, символизируя тождественность Христа и Света. «Старописные» лики освещаются мерцанием лампад и в полусонете «Монах»: 1. В ночи у Ликов старописных, 2. Лампад мерцаньем озарен, 3. Следит чреду поклонов он 4. По зернам четок кипарисных 5. И вьет молитв заветных нить, 6. Чтоб дух от Князя Тьмы и присных 7. В полночный час оборонить [3. С. 11]. Голохвастов здесь следует древнерусской книжной традиции описания уединенной монашеской жизни. В центре внимания поэта -смиренная молитва монаха в древнем монастыре. Молитвенные сцены неоднократно встречаются в поэзии Голохвастова, но, как правило, они представлены в ситуации торжественной праздничной службы или одиночной молитвы лирического героя в миру. В полусонете «Монах» аутентично воссоздается предметный мир Храма: иконы, лампады, священные четки. Монашеские четки - лишь единожды использованная художественная деталь в обозримом и доступном для нас корпусе текстов поэта. Четки в монашестве называются духовным мечом и вручаются монаху при постриге как орудие непрестанной молитвы, чтобы через призывание имени Божьего монах восходил по ступеням духовного развития и стяжал Дух Святой. Перекрестная рифма «нить» - «оборонить» актуализирует функцию образа-оберега как великого христианского символа. «Храмовый цикл» в книге стихов поэта-эмигранта Г.В. Голохвастова 11 Образ монаха представлен в номинации полусонета и в его строфической организации. Лексема «Монах» вынесена в название, а в самом полусонете она не представлена. Голохвастов использует местоимение «он», которое приобретает семантику благодаря расположению в конце 3-го стиха. Местоимение стягивает на себя логическое ударение не только 3-го стиха, но и всего катрена, выстраиваемого вокруг образа безымянного монаха. Враждебная монаху сила номинирована более образно: «Князь Тьмы и присные». Заявленный в 6-м стихе «Князь Тьмы» выступает центром терцета, выделенным строфически и ритмически. Противостояние темной дьявольской силы и одинокого монаха лежит в основе повествовательной структуры полусонета. Динамичность полусонета создается отсчетом «зерен кипарисных»: каждый поклон и каждая молитва приближают «дух» к великому спасению. Разрешение противостояния двух онтологических начал происходит в 7-м стихе. Подтверждая всемогущество молитвы, полусонет завершается сильным смысловым глаголом «оборонить», дающим надежду каждому христианину на неизбежное повержение Дьявола и бесов, на обретение духовного покоя. Продолжает тему обретения духовного покоя в стенах Дома Божьего полусонет «Храм бедный с ветхой колокольней...»: 1. Храм бедный с ветхой колокольней. 2. Чуть свечи теплятся. Но тут 3. Душе-скиталице приют; 4. Здесь сердце проще, богомольней, 5. И думы в сумерках минут 6. Властнее прочь от жизни дольней 7. К Завету Горнему зовут [3. С. 21]. В полусонете представлена важнейшая специфическая черта русского национального характера - вечное странничество в поисках высшей правды и Дома Божьего. Душа соотносится с образом странника и вечным странничеством: «. он ходит по земле, но стихия его воздушная, он не врос в землю, в нем нет приземистости» [8. С. 33]. Душа скитается в поисках приюта, и здесь, в Бедном Храме, она становится проще, богомольнее. Ее движение организовано тремя вехами, обозначающими дорогу от временного приюта в ветхом храме через «думы в сумерках минут» к обретению пристанища в Горнем мире. О.К. Страшкова, А.Д. Алексенко 12 Первый сюжетный шаг (веха) закольцован 1-м стихом. Перед лирическим героем разворачивается картина, близкая и понятная каждому русскому человеку: «Храм бедный с ветхой колокольней». Голохвастов скуп на художественные детали: эпитеты «бедный», «ветхий» оттеняют строгость и сдержанность общей картины. Синтаксическая и лексическая обособленность первой части 2-го стиха «чуть свечи теплятся» локализует пространство полусонета внутри храма, а его художественная и лексическая сдержанность фиксирует аскетичность интерьера. Бедность и ветхость убранства резко контрастируют с удивительным животворящим духом, спасающим и исцеляющим измученную душу-скиталицу. Противительный союз «но», разделяющий 2-й стих, фиксирует начало третьего сюжетного шага и обеспечивает связь между двумя онтологическими сферами полусонета - духовной и земной. Лирический герой переходит границу земного бытия, отрекается от всего мирского и обретает для «души-скиталицы» приют. В последнем терцете, намечающем движение к «Завету Горнему», смещается система пространственно-временных координат. Катрен завершается пространственным маркером «здесь», и вектор духовного обновления закрепляется в стихах 6 и 7, содержащих антитезу «дольнего / горнего» миров. Покой и простота Дома Божьего спо-двигли лирического героя к несуетной молитве и неспешным размышлениям о спасения души. Закономерно в этом контексте говорить об особом «Храмовом сознании» Голохвастова, которое представляется соединением возвышенного и земного в нравственном, а следовательно, в религиозном чувстве. Завершает книгу стихов «Полусонеты» полусонет «Скит», транслирующий идею обретения духовного покоя. Лирический герой Голохвастова находит желанное утешение и покой в духовной обители. 1. Конца нет хмурым поворотам 2. Дорожки в чаще хмурых хвой... 3. Ни звука, ни души живой... 4. Вдруг - древний скит. Тропа к воротам. 5. Седой монах, как часовой, 6. Крестясь, окликивает: - «Кто там?..» 7. - Открой, старик, впусти: я - свой [3. С. 55]. Образ скита восходит к паломнической традиции, которая является неотъемлемой частью жизни Русской Православной Церкви. Па-«Храмовый цикл» в книге стихов поэта-эмигранта Г.В. Голохвастова 13 ломническая литература восходит к хожению - каноническому жанру древнерусской книжности, на который, очевидно, ориентируется поэт. В полусонете выделяются специфические особенности строфической организации. Первые три стиха вводят в сумрачный, беззвучный и бездушный мир, который неожиданно - «вдруг» - разрывается видением сакрального образа. Стих 4 номинирует древний скит: «Вдруг -древний скит. Тропа к воротам». Разрыв синтаксического целого стиха организует короткую паузу и замедляет ритм, создавая ощущение восторженного любования древней обителью, случайно выступившей из чащи леса. Далее, используя парцелляцию, поэт как бы монтирует кадры увиденного лирическим героем, переключая план повествования на тропинку у ворот и на старого монаха. Стихи 4 и 5 выстраивают трехчастную смысловую горизонталь, которая реализуется по мере приближения героя к заветной цели: древний скит - тропа к воротам - седой монах. Картина древнего монастыря постепенно открывается лирическому герою, подобно древнему граду Китежу, выходящему из вод озера. Говоря о ментальности русского человека, Н.О. Лосский в работе «Характер русского народа» подчеркивает «его религиозность и связанное с нею искание абсолютного добра, следовательно, такого добра, которое осуществимо лишь в Царстве Божием» [9. С. 240]. Именно такую модель избирает Голохвастов для своего лирического героя, обретающего Царствие Божие на земле, в удалении от мирской суеты: «Вдруг - древний скит. Тропа к воротам. / - Открой, старик, впусти: я -свой». Духовная самоидентификация героя - это его манифест «я - свой». Путь лирического героя к скиту сложен и тернист, как и непростой жизненный путь поэта, поэтому в конце пути он просит о приюте и покое. Выявленный в лирических миниатюрах «Темны лампады у киота...», «Монах», «Храм бедный с ветхой колокольней.» сюжет с незначительными отличиями развивает эпизод пребывания лирического героя в Божьем доме. Голохвастов продолжает традицию, заложенную еще в XIX в. славянофилами и почвенниками: храм представлен не как часть пейзажа, а как онтологическое замкнутое пространство, определяющее аксиологические и мировоззренческие установки личности, нации, человечества. Приметы Храма в «Храмовом цикле» Голохвастова становятся устойчивыми и повторяемыми. Главная примета, идентифицирующая О.К. Страшкова, А.Д. Алексенко 14 Храм - безусловная сакральность, которая обнаруживается в силу ряда причин. Прежде всего, Храм для лирического героя Голохвастова - это локус обретения силы и душевного покоя, в котором возможно избавление от одиночества среди враждебной толпы, отход от чуждой западной цивилизации. Алтарь, иконы и пение дьякона напоминают лирическому герою о его родовом имении, где он «трепетал в молитвах детских». Пространство Храма в лирике Голохвастова строго замкнуто в себе, оно не коррелирует с окружающим миром. Переступая порог храма, линию, которая разделяет и соединяет мирскую и горнюю реальности, лирический герой совершает переход из одной онтологической плоскости бытия в другую. Возобновляющее и очищающее душу пространство христианских символов ведет его дорогой молитвы и несуетного созерцания. Приведенная выборка полусонетов свидетельствует о том, что одним из путей постижения своеобразия национального мира Голохвастова является анализ христианских мотивов в его сборнике «Полусонеты». Динамика развития сюжета этого цикла - подтверждение нашей гипотезы о циклическом единстве. Текстовое единство «Храмового цикла» полусонетов Голохвастова организуется благодаря «попытке через повествование передать человеческое существование во времени и пространстве, или, другими словами, организовать повествование на основе таких понятий, как историческое и национальное» [10. С. 30]. Поэзия религиозного чувства проявляется в изображении торжественной красоты и умиротворенной гармонии храма, имеющего исключительное значение для художественной системы Голохвастова. Наполненный важнейшими онтологическими смыслами, он выступает точкой пересечения координат прошлого, настоящего и будущего, поскольку, пребывая в пространстве Дома Божьего, лирический герой может вновь обрести утраченную навсегда Святую Русь. Трагическая отъединенность от чуждого североамериканского настоящего и житейской суеты преодолевается молитвой у родных икон, знакомых со времен счастливого прошлого в родовом имении. Лирический герой обращается к Богу в поисках цельности духа и надежного ориентира в нравственном самосовершенствовании. Он осознает Бога как «возврат к цельности, как собирание души, как высвобождение из того тягостного состояния внутренней разорванности и распада, которое стало страданием века» [11. С. 250]. Образный мир «Храмовый цикл» в книге стихов поэта-эмигранта Г.В. Голохвастова 15 «Храмового цикла» Голохвастова глубоко согласуется с духом христианской доктрины о Боге, которую поэт в течение всей творческой жизни репрезентировал в разных лирических формах и образах. Являясь текстом в тексте, этот цикл расширяет границы понимания художественной модели поэта-эмигранта и единства его поэтической системы.
Флоровский Г.В. Пути русского богословия. Paris : YMCA-PRESS, 1937. 600 с.
Айзикова И. А. Передача национально-исторического колорита в ранних прозаических переводах В.А. Жуковского (из Коцебу и Флориана) // Вестник Томского государственного университета. Филология. 2007. № 1. С. 30-44.
Бердяев Н.А. Душа России : сб. ст. М. : Центрполиграф, 2016. 255 с.
Лосский Н.О. Условия абсолютного добра: основы этики ; Характер русского народа. М. : Политиздат, 1991. 368 с.
Сапогов В. А. О некоторых структурных особенностях лирического цикла А. Блока // Язык и стиль художественного произведения : тез. докл. IX Науч.-теор. и метод. Конф., организуемой Кафедрой рус. литературы. (26-28 мая 1966 г.) / Моск. гос. пед. ин-т им. В. И. Ленина; под общ. ред. А.И. Ревякина. М., 1966. С. 90-91.
Сапогов В. А. Лирический цикл и лирическая поэма в творчестве А. Блока // Русская литература XX века (дооктябрьский период) / отв. ред. Н.М. Кучеровский; Тул. гос. пед. ин-т им. Л.Н. Толстого. Калуга, 1968. С. 174-189.
Останкович А.В., Сугай Л.А., Федотов О.И., Шпак Е.В. Традиционные строфические формы и их жанрово-строфические единства в русской поэзии. Ставрополь : Альфа Принт, 2013. 282 с.
Голохвастов Г.В. Гибель Атлантиды : стихотворения, поэма. М. : Водолей, 2008. 576 с.
Щербинин А.И., Щербинина Н.Г. Конструкт «Святая Русь» и его смысловые актуализации // Вестник Томского государственного университета. Философия. Социология. Политология. 2015. № 3 (31). С. 5-14.
Витковский Е.В. От смерти к жизни // Голохвастов Г.В. Гибель Атлантиды : стихотворения, поэма. М. : Водолей, 2008. С. 553-557.
Останкович А.В., Алексенко А.Д. Сюжетно-образная конкретизация концепта «Русь» в сонетах Г.В. Голохвастова // Вестник Томского государственного университета. 2018. № 436. С. 49-55.
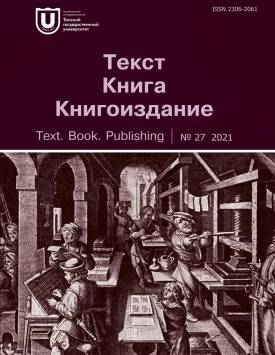

 Вы можете добавить статью
Вы можете добавить статью