В начале 1850-х гг. В.А. Жуковский разрабатывает таблицы с рисунками предметов и явлений и их зашифрованными названиями на четырех языках. Последовательное применение визуальной дидактики выглядит новаторским на фоне учебных пособий того времени и в их контексте не может быть объяснено, но оно может рассматриваться как органическое продолжение традиции «полезных» семейных настольных игр на уровне визуального и пространственного решения, зримой и тактильно воспринимаемой формы, механизмов взаимодействия ребенка с пособием.
The Polylingual Tables of Vasily Zhukovsky’s Initial Course of Study in the Context of Children’s Board Games of .pdf Четырехъязычные таблицы с рисунками [1] являются частью «Первоначального курса обучения», который В.А. Жуковский разрабатывал в последние годы жизни. История создания этого новаторского для середины XIX в. комплекса учебных пособий подробно освещена Д.В. Долгушиным [2]. «Курс» стал итогом многолетней педагогической деятельности В. А. Жуковского. В 1851-1852 гг. поэт разрабатывал его и одновременно уже занимался по нему с дочерью Сашей. Одной из важнейших задач обучения было овладение русским языком, так как в семье Жуковских говорили на немецком и французском языках. Для этой задачи полилингвальные таблицы предназна-1 Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта № 20-012-00529. Н.Л. Панина 70 чались в первую очередь, хотя их конструкция преследовала в конечном счете гораздо более сложную цель. К моменту составления таблиц В. А. Жуковский уже накопил значительный опыт преподавания русского языка как иностранного на основе собственноручно изготовленных визуальных пособий. В 1820-х гг., обучая русскому языку будущую императрицу Александру Федоровну, он использовал картоны большого формата (14 х 40 см), на которых были размещены грамматическая таблица русского языка, примеры словообразования, образцы написания прописных и строчных букв и азбука в картинках. Возможно, к этому же периоду относится картон такого же формата с немецкими прописями и азбукой в картинках [2. С. 95]. То, что полилингвальные таблицы начала 1850-х гг. являются развитием этих первых живописных азбук, подтверждает не только сохраненный принцип объединения вербальных элементов, рисунков и таблиц, но и прямые соответствия, например рисунок Цербера, охраняющего вход в Аид, в качестве рисунка к слову «Ад». Дальнейшее развитие замысла происходит в начале 1840-х гг. В это время В. А. Жуковский занимается русским языком с женой Елизаветой Алексеевной, родным языком которой также был немецкий. Сохранилась рукопись, написанная ее рукой и озаглавленная «Живописная азбука» [3]. Рукопись не содержит изображений, только ряды русских слов и их немецких аналогов, объединенные в блоки (один блок занимает страницу целиком), пронумерованные римскими цифрами. Внутри каждого блока - восемь групп по пять слов. Так, блок № I включает следующие группы слов: Ай. Das Faultier. Бой. Der Kampf. Вой. Das Geheul. Рай. Das Paradies. Рой. Der Schwarm / Geschwarm. Адъ. Die Holle. Ель. Die Tanne. Ось. Die Achse. Ёжъ. Der Igel. Ужъ. Die Schlange. Боръ. Der Tannenwald. Ботъ. Der Boot. Полилингвальные таблицы «Первоначального курса обучения» 71 Басъ. Der BaB. Бѣсъ. Der Teufel. Букъ. Die Buche. Паръ. Der Dampf. Пукъ. Das Bundel. Валъ. Der Wall. Возъ. Der Wagen. Футъ. Der FuB. Мысъ. Das Forgebirge. Мышь. Die MauB. Мулъ. Das Maultier. Нишь. Die Niche. Ножъ. Das Messer. Нуль. Die Null. Ларь. Die Kiste. Лѣсъ. Der Wald. Левъ. Der Lowe. Лобъ. Die Stirne. Лёдъ. Das Eis. Лугъ. Die Aue / Wiese. Лукъ. Der Bogen. Лукъ. Die Zwiebel. Лань. Das Reh. Дымъ. Der Rauch. Дубъ. Eiche. Даль. Die Weite. Тазъ. Das Becken. Тынъ. Der Zaun. Очевидно, что односложные русские слова объединены в группы по принципу созвучия. Следующие блоки содержат ряды постепенно усложняющихся по написанию и звучанию слов, принцип созвучия заменяется на принцип тематического соответствия, смещаются акценты: значение слова становится важнее его звучания. Здесь проявился подход, который был обозначен В.А. Жуковским как триада «предмет-понятие-слово» [2. С. 95] и который в дальнейшем определил форму визуального ряда «Первначального курса обучения», рассчитанного на прочтение, рассматривание и понимание: звучание Н.Л. Панина 72 слова первично для восприятия, но нужно двигаться от него к значению, потому что значение важнее звучания; внешний вид предмета первичен для восприятия, но нужно двигаться от него к понятию. Визуальный ряд - это некоторая целостность, состоящая из изобразительных элементов (иллюстрация, репродукция картины, рисунок), элементов художественного оформления (виньетка, заставка, орнамент, рамка), графических элементов (схема, схематический рисунок) и графических элементов оформления (линия, выделение, шрифт, интервал) [4. С. 17]. При исследовании полилингвальных таблиц В. А. Жуковского представляется оправданным выделить их внутри общего визуального ряда «Первоначального курса обучения» как самостоятельную целостность. С одной стороны, они демонстрируют причастность к общей концепции курса: здесь те же принципы оформления, те же принципы выделения и объединения элементов - букв, блоков ячеек внутри таблицы, что и в других разделах «Курса». С другой стороны, это совершенно самостоятельное и законченное учебное пособие, которое может использоваться отдельно, и его самостоятельность также визуально очевидна благодаря единообразной табличной структуре, резко отличающейся от структуры других частей курса. Визуальный ряд «Курса» очень сложен [5], он содержит большое количество нефигуративных элементов: отдельных графических символов и их комбинаций, диаграмм, карт и др. Таблицы резко выделяются на этом фоне в первую очередь благодаря плотности сюжетно-образных включений. Под таблицы В. А. Жуковский отвел двадцать листов картона размером 41 х 26 см, расчерченных на 40 крупных ячеек. Справа и слева к ним примыкают колонки, расчерченные на более мелкие ячейки, в которых помещены буквы и цифры. В центре каждой крупной ячейки расположен рисунок. Работа над картонами не была закончена, но большинство их имеет завершенный вид. Таблицы I-XV пронумерованы, карандашные линии рисунков пройдены тушью, некоторые подцвечены акварелью. Оставшиеся пять таблиц подготовлены к заполнению ячеек рисунками. Одна из них осталась совершенно незаполненной, три заполнены карандашными рисунками, в одной первые две колонки заполнены рисунками тушью, остальные ячейки пустые. По периметру рисунка расположено четыре ряда цифр, которыми зашифровано название предмета или явления, изображенного на ри- Полилингвальные таблицы «Первоначального курса обучения» 73 сунке. Название дано на четырех языках: русском, немецком, французском и латинском. Буквам и сочетаниям букв в этих языках соответствуют цифры от 1 до 32. Соответствия букв и цифр сгруппированы в колонках по правому и левому краям таблицы. Иными словами, в этих колонках содержатся шифровальные коды, которые ученику необходимо задействовать при прочтении слова1. Так, для идентификации русскоязычной подписи первого рисунка в первой таблице цифру 1 нужно соотнести с русской буквой «а», цифру 22 с буквой «й» и получить слово «ай». Для прочтения французского слова справа от рисунка нужно соотнести цифру 8 с французской (латинской) буквой «р», цифру 1 - с буквой «а», цифру 14 -с буквой «г» и так далее, получив в результате слово «paresseux» («paresseuks»). Немецкое слово восстанавливалось из сопоставления цифр и готических букв и сочетаний: 10 - «pf», 1 - «а» и т.д. Таким образом, рисунок животного на дереве, очень живой и выразительный, но загадочный и непонятный (лесная кошка? белка? куница?) оказывается изображением трехпалого ленивца: «1.22. / 8.1.14.18.23.23.18.21.31.23 / 7.14.1.15.19.8.5.23 / 10.1.5.13.16.19.18.14», т.е. «ай / paresseux / bradypus / pfaultier». По составу слов таблицы практически идентичны рукописи Е.А. Жуковской. Так, первая группа слов из рукописи «Живописная азбука» составляет первую колонку таблицы I «Первоначального курса обучения» (рис. 1), вторая группа - вторую колонку и т.д. В рукописи Е.А. Жуковской пропущены блоки № IV и № V. Начиная с блока № VI слова подбираются тематически в рамках одной группы. В картонах «Курса» тематическая однородность появляется впервые в таблице V. Она проявляется на визуальном уровне в границах вертикального ряда (колонки), усиливается постепенно от таблицы к таблице и наиболее явно обнаруживает себя начиная с таблицы X, уже целиком посвященной одной теме - теме еды и посуды. В таблице XI находим обозначения и изображения повозок и сельских орудий труда, в таблице XII - сельскохозяйственных работ и т. д. Следует отметить, что в таблицах некоторые немецкие слова заменены синонимами. Так, переводом для русского «бор» в рукописи 1 Таблица цифровых и буквенных соответствий опубликована Д.В. Долгушиным [2. C. 96]. Н.Л. Панина 74 Е.А. Жуковской служит «der Tannenwald», а в таблице I это слово заменяется на «der Fichtenwald»; «der BaB» («бас», музыкальный инструмент) заменяется на «die BaBgeige», «die Schlange» («уж») на «die Natter», «die Kiste» («ларь») на «die Truhe», «das Reh» («лань») на «der Damhirsch», «die Weite» («даль») на «die Ferne». Рис. 1. В. А. Жуковский. Первоначальный курс обучения. Таблица I Заслуживает отдельного внимания разнообразие сюжетных и композиционных решений в рисунках. Речь идет именно о сюжетах, самостоятельных и развернутых. Рисунки содержат детали, существенно дополняющие основное значение слова, они явно рассчитаны на внимательное рассматривание, сопоставление и истолкование. Так, в таблице I с изображением входа в Аид (рис. 2, в центре), охраняемого Цербером («Ад»), перекликается изображение кованых врат, охраняемых архангелом («Рай»); сквозь все таблицы проходит ряд узнаваемых фридриховских мотивов - фрагментов горных пейзажей в духе К.Д. Фридриха, одного из любимых художников В.А. Жуковского. Примером может служить рисунок к слову «жизнь» (рис. 3, в центре). 75 Полилингвальные таблицы «Первоначального курса обучения» Рис. 2. В.А. Жуковский. Первоначальный курс обучения. Таблица I, фрагмент. Слова «ай», «ад», «бор» Рис. 3. В.А. Жуковский. Первоначальный курс обучения. Таблица XIV, фрагмент. Слова «ноябрь», «жизнь», «отец» Большинство таблиц заполнено сюжетно-образными изображениями, но некоторые содержат также символы, схемы и карты. Они появляются в таблицах XIII, XIV (рис. 4) и XV и знаменуют уровень абстрактных понятий, к которому ребенок приходит, пройдя уровень звуковых (таблицы I-IV) и тематических (таблицы V-XII) соответствий. В рамках этих уровней даже абстрактные понятия изображаются в сюжетной форме: например, в таблице I слово «нуль», которое открывает очередной ряд односложных созвучий, сопровождается рисунком с грифельной доской и написанным на ней нулем (см. рис. 1, шестая ячейка в верхнем ряду по горизонтали). С помощью символов Н.Л. Панина 76 изображены значения слов, связанных с темой года («год», «день», «месяц», «январь» и т.д.). В основном здесь используются зодиакальные знаки и их комбинации. Схематически изображены понятия родства («отец», «мать», «зять» и т.д.). Своеобразным переходом от сюжетных рисунков к символическим и схематическим служат аллегорические изображения, которые соответствуют понятиям времени («ночь», «день» в таблице XIII, «время» в таблице XIV) и возраста («жизнь», «ребячество», «молодость», «мужество», «старость» в таблице XIV). Рис. 4. В.А. Жуковский. Первоначальный курс обучения. Таблица XIV Визуальный акцент на буквах и рисунках, казалось бы, позволяет определить разработанное В.А. Жуковским пособие как полилингвальный букварь в картинках, но обычные цели и задачи букваря здесь существенно усложнены. Усложнение происходит, во-первых, на уровне работы ребенка с пособием, за счет последовательной интерактивности, дидактической игры, основанных на задаче поиска значений путем декодирования. Во-вторых, цель, которая определяются общей концепцией «Курса», оказывается значительно шире изучения базовой лексики четырех языков. Полилингвальные таблицы «Первоначального курса обучения» 77 Применение на практике средств визуальной дидактики выглядит совершенно новаторским на фоне не только букварей, но и других учебных пособий середины XIX в. Требования наглядности обучения, движения от чувственно воспринимаемой конкретики к формированию понятий, ориентации на эвристическую самостоятельность ученика не раз высказывались европейскими педагогами, на которых ориентировался В.А. Жуковский, таких как Песталоцци, Рамзауэр, Дистервег [6]. Несмотря на это, инструменты визуальной дидактики не разрабатывались, и основным средством обучения оставался текст. Определение ситуации с визуальностью в росийских азбуках и букварях первой половины XIX в. - «функциональное бездействие» [4. С. 54] - может быть отнесено и ко всем другим видам пособий для начального образования. Тем не менее, как представляется, картоны с таблицами «Первоначального курса обучения» не родились в вакууме. Они стали органическим продолжением традиции «полезных» семейных настольных игр. В этом убеждают очевидные соответствия не только на уровне визуального и пространственного решения, зримой и тактильно воспринимаемой формы, но и на уровне механизмов взаимодействия ребенка с пособием. В XVIII - первой половине XIX в. детские настольные игры, которые приходят в Россию из Европы, в качестве средства обучения развиваются параллельно с учебными пособиями. Два этих вида печатной продукции, казалось бы, преследующие общие цели, на деле практически не пересекались. Сфера семейного досуга, к которой относились настольные игры, на долгое время стала непреодолимой границей, препятствовавшей обогащению инструментов визуальной дидактики в образовательной литературе за счет опыта настольных игр. Ситуация была, скорее, обратной: многие игры в первой половине XIX в. выходили в виде книг, а собственно картонажные игры были перенасыщены текстами. Огромная распространенность настольных игр в семейном обиходе делала их частью повседневности, воспринимавшейся автоматически: писатели и мемуаристы, увлеченно описывавшие мир детства, об этих занятиях практически не вспоминали [7. С. 24]. Игры, которые обнаруживают наибольшие параллели с таблицами В.А. Жуковского, по своему назначению занимали промежуточное положение между образовательными и развлекательными. Во-первых, это игры с расчерченными картонными полями, такие как лото и Н.Л. Панина 78 «гуськи», или «гусёк» (Gansespiel, jeu de l ’oie: лента, разделенная на клетки, вьется по полю, игроки переходят от одной клетки к другой, двигаясь к центру поля или конечной клетке). С одной стороны, были распространены обучающие варианты этих игр, исторические, географические, геральдические [8]. С другой стороны, эти игры входили в категорию «игр счастья» (Glucksspiels): результат в них определялся показаниями брошенного кубика или выпавшей карты [9]. Кроме того, и те и другие классифицировались как развлечения для общества, общественные игры (Gesellschagtsspiele, jeux de societe). Во-вторых, на разработки В.А. Жуковского явно оказали влияние игры со словами (шарады, ребусы, загадки), использовавшие разнообразные материалы от сборников загадок до настольных карточных игр, но не требовавшие обязательного специального инвентаря. Они также входили в категорию jeux de societe [10]. В таблицах В. А. Жуковского задействованы все принципиальные преимущества настольных игр в плане наглядности обучения: яркие зрительные, тактильные и пространственные ориентиры, компактная передача информации в виде схем и символов, содержательная насыщенность всех элементов игры, разнообразие визуальных элементов [7. С. 20-21]. Сюжетность, которая бросается в глаза при взаимодействии с таблицами, также характерна для игр на картонажном поле типа «гуськов», хотя в этих последних сюжетность задействована гораздо проще: манипуляции с полем и фишками, знакомство с рисунками и текстами в клетках на поле позволяют постепенно прочитать определенную, например сказочную, историю. Поскольку для Жуковского основным сюжетом, к которому должен приобщиться ребенок в процессе обучения, была всеобщая связь понятий, то поля таблиц, рисунки и добываемые с помощью дешифровки названия должны были вести ученика по пути осознания взаимосвязи предметов и явлений этого мира [11]. Настольные игры в XIX в. оказались одним из заповедников отходившей в прошлое эмблематической традиции. Аллегории, уходя из сферы научного знания, сохраняли свою актуальность при передаче этого знания в форме, понятной ребенку. Проникновение в смысл символов и метафор составляло существенную часть действий игрока при продвижении по клеткам поля. Разгадывание эмблемы разворачивалось как сопоставление изображения и текста в рамках игрового Полилингвальные таблицы «Первоначального курса обучения» 79 сюжета [7. С. 100]. Эмблемы старинных игр сохранялись в различных переизданиях «гуськов», выпускались специальные колоды эмблематических карт и игры эмблематического характера. Так, вокруг понятия «эмблема жизни» строится общественная игра «Пути счастия» (1842), снабженная полем с таблицей «храм счастия». В правилах игры говорится: «Нарочно не помещаем здесь истолкования клеток, дабы юношество имело случай упражняться само в размышлении и рассуждении» [Там же. С. 115]. Примером соединения «живописного лото» и jeu de l ’oie с эмблемами может служить игра 1815 г. «Le Jeu de Paris en Miniature» (рис. 5). Ее игровое поле расчерчено на 90 пронумерованных клеток, в каждой из которых вывеска одной из парижских лавок изображена в виде эмблемы с описанием товара и адресом [12]. Игра подчиняется общим правилам лото [13], но клетки следуют одна за другой к центру поля, как в «гуськах». Игрок должен истолковать эмблему в той клетке, номер которой ему выпал, чтобы восстановить название лавки. В тех случаях, когда рисунки на поле или карточках обладали самостоятельной эстетической ценностью, они создавали художественное пространство игры, стимулировали воображение. Вместе с удовольствием от рассматривания рисунков рождался собственно игровой аспект взаимодействия с пособием, воображению ребенка предоставлялся простор, без которого процесс обучения превращался в душную рутину. В рамках эмблематической традиции, которая в первой половине XIX в. продолжала жить в российской культуре [14] и которую Жуковский никогда не ставил целью разрушить или преодолеть, интерпретации представленных в его таблицах сочетаний понятий и изображений должны были развиваться свободно, подчиняясь цепочке индивидуальных ассоциаций ученика. В то же время эти ассоциации направлялись в нужное русло, поскольку структура визуального ряда предопределяла действия ребенка. Можно предположить, что в самом общем смысле процесс знакомства ученика с таблицей (так же, как с игровым полем и другими элементами картонажной игры) направлялся эмблематической традицией и в ее рамках должен был быть понятен без дополнительных пояснений. Он состоял из нескольких этапов, которые представляли собой привычное выстраивание эмблематической триады «изображе-ние-название-истолкование» [15], только здесь процесс оказывался 80 Н.Л. Панина Рис. 5. Поле игры «Париж в миниатюре». Гравюра. 1815 г. Полилингвальные таблицы «Первоначального курса обучения» 81 существенно усложненным за счет введения табличной структуры (в отличие от таблицы лото, она имела самостоятельное значение) и шифрования. Этап формирования первоначального интереса, зацепки, подразумевает зрительное «схватывание» картона как целого. При взгляде на лист в первую очередь бросаются в глаза рисунки. Их много, и они не повторяются. Сочетание очевидного разнообразия изображений и их очевидной же подчиненности некоему принципу вызывает интерес и ставит вопрос о том, что это за принцип. Для ответа можно попытаться сопоставить рисунки друг с другом. Их соположение кажется неслучайным с точки зрения композиции: в каждом ряду встречаются изображения разной степени насыщенности и детализации, чередуются крупные и общие планы, объекты даны с разных точек, в разных ракурсах. Некая система обнаруживает себя уже на этапе первого визуального контакта с картоном-пособием. Формируется визуальная энигма: наличие порядка очевидно глазу, но принцип порядка не очевиден разуму, и на уровне визуального восприятия он не может быть обнаружен. Для того чтобы проникнуть в смысл увиденного, истолковать его, ученик должен сопоставить изображение и подпись. Подписи, относящиеся к рисунку, находятся рядом с ним. Но, пытаясь провести сопоставление элементов внутри ячейки, ученик обнаруживает, что вместо подписи ему предлагается несколько рядов цифр. Один из них очевидно главный - это ряд над рисунком, выделенный цветом. Ни один ряд не может быть понят без выхода за пределы ячейки и проведения операции сопоставления цифры из ряда с цифрой в колонке справа или слева. Далее нужно выбрать из предложенных вариантов буквенных соответствий один, соответствующий языку подписи. Ориентиром для правильного выбора служит форма написания буквы: кириллическая для русского языка, латиница для французского, латинского и немецкого. Буквы немецкого языка выделены готическим шрифтом, буквы французского и латинского языков объединены друг с другом. Поскольку некоторые ячейки таблиц и отдельные элементы «Курса» раскрашены, можно предположить, что в окончательном виде таблицы должны были быть цветными. В этом случае для проведения нужных сопоставлений у ученика появились бы также цветовые ориентиры. С другой стороны, монохромный контурный рисунок был излюбленной техникой Жуковского-художника, Н.Л. Панина 82 и, возможно, никакой дополнительной доводки фигуративных изображений в таблицах он не планировал, а подцвечивание ввел только в схемы, карты и диаграммы, как в остальных разделах «Курса». За сопоставлением элементов внутри одной ячейки следовало сопоставление ячеек одной колонки, одного ряда, таблицы в целом и всего комплекса таблиц. Таким образом, ребенок продвигался по пути обобщений, чтобы, «переходя от близкого к далекому, от знакомого к незнакомому соединить все основные понятия, составляющие содержание» [16]. Визуальный ряд таблиц должен был стать частью всеобъемлющей мнемонической конструкции «Первоначального курса обучения», в которой соединились бы в их взаимосвязи факты истории, географии, физики, естественной истории, истории искусств и т. д.
Жуковский В.А. Мысли о преподавании, о грамматике, материалы для Живописной Священной истории // РНБ. Ф. 286. Оп. 1. № 128. Л. 1 об.
Панина Н.Л. Иллюстрации детских образовательных изданий в России в конце ХѴШ - начале XIX в. // Текст. Книга. Книгоиздание. 2020. № 23. С. 82-99.
Сазонова Л.И. Эмблематика в России: от Симеона Полоцкого до Пушкина // Эмблематика и эмблематичность в западноевропейской и русской культуре / под ред. А.Е. Махова М. : Intrada, 2016. C. 114-152.
Faber M. Aus Spiel wird Wissen - Lotto und Lotterie als Lemspiel fur Kinder // Lotto und Lotterie / G. Bauer (Hg.). Munchen ; Salzburg, 1997. S. 241-257. (Homo ludens; Bd. VII).
Le Jeu de Paris en Miniature. Paris: Veuve Chereau, 1815.
Lhote J.-M. Histoire des jeux de societe. Geometries du desir. Paris, 1994. 672 p.
Ребеккини Д. Мир символов: мнемонические таблицы Жуковского и их практическое значение // Жуковский: исследования и материалы / гл. ред. А.С. Янушкевич. Томск : Изд-во Том. ун-та, 2017. Вып. 3. С. 238-257.
Zollinger M. Geschichte des Glucksspiels: Vom 17. Jahrhundert bis zum Zweiten Weltkrieg. Wien ; Koln ; Weimar, 1997. 410 S.
Glonnegger E. Das Spiele-Buch. Brett- und Legespiele aus der Welt: Herkunft, Regeln und Geschichte. Uehlfield, 1999. 287 S.
Костюхина М.С. Детский оракул: по страницам настольно-печатных игр. М. : Новое литературное обозрение, 2013. 656 с.
Никонова Н. Е. В. А. Жуковский - современник педагогического века Г ермании: немецкая литература о воспитании и творческие искания поэта 18401850-х гг. // Имагология и компаративистика. 2014. № 1. С. 87-124.
Долгушин Д.В., Панина Н.Л. «Первоначальный курс обучения» В.А. Жуковского: опыт реконструкции и анализа визуального ряда // Вестник Новосибирского государственного университета. Сер. История. Филология. 2021. Т. 20, № 2: Филология. С. 94-109.
Жуковская Е.А. Живописная азбука // РГБ. Ф. 104. Карт. 1. № 22.
Ромашина Е.Ю., Тетерин И.И., Старцева Н.М., Фуртова Г.А. Очевидная грамота: визуальный ряд российских азбук и букварей XIX - начала XX в. Тула : Дизайн-коллегия, 2019. 268 с.
Жуковский В. А. Таблицы для практического курса первоначального обучения // РНБ. Ф. 286. Оп. 1. № 132б.
Долгушин Д.В. «Педагогическая поэма» В.А. Жуковского (по неизданным материалам) // Сибирский филологический журнал. 2018. № 1. С. 89-106.
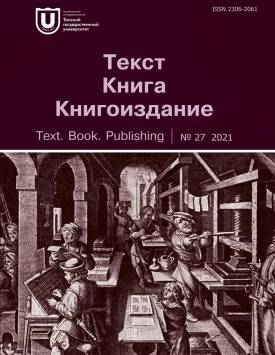

 Вы можете добавить статью
Вы можете добавить статью