1970-е годы в советском редактировании характеризуется декларативными рассуждениями о внимательном отношении к авторскому произведению и реальными нарушениями авторского права, которые диктовались требованиями марксистско-ленинской идеологии. При издании романа наиболее существенные правки на макроуровне проведены по требованию органов цензуры (Главлита), которые усмотрели в романе пропаганду текстов Священного Писания. Правки на микроуровне характеризуются самоуправством редакторов.
Soviet editing in the 1970s (On the example of Uladzimer Karatkievich’s Christ Landed in Grodno: The Gospel of Judas<.pdf 1970-е гг., именуемые сегодня периодом застоя, в советском редактировании характеризовались, с одной стороны, активной разработкой теоретических аспектов данной комплексной научной области, а с другой -все усиливающимся идеологическим давлением со стороны партийных органов, которые стремились контролировать всех и вся. Основные надзорные функции в книгоиздании выполняло Главное управление по охране государственных тайн в печати (Главлит), в 1966 г. подчиненное непосредственно Совету министров СССР. В советских республиках также были соответствующие структуры. Фактически же руководил всем Отдел пропаганды ЦК КПСС. Сегодня, в частности, в Республике Беларусь снят гриф секретности со всех документов Главлита, что дает возможность историкам и филологам ввести в научный оборот множество материалов, которые проливают свет на творческую историю отдельных произведений. Ведь это только на словах в классическом учебнике Н.М. Сикорского «Теория и практика 111 Жолнерович П.П. Советское редактирование в 1970-е гг. редактирования» (1980), ставшем своеобразным этапом в осмыслении редактирования 1970-х гг., можно было утверждать: «редактор советского издательства должен считать первейшим правилом бережное отношение к авторской рукописи» [1. С. 234]. В реальности же ни одна книга не могла быть издана без грифа Главлита, сотрудники которого вряд ли руководствовались подобными рекомендациями. Но и сверхбдительные редакторы могли - сознательно, в духе марксистско-ленинской идеологии, или по незнанию - безосновательно вмешиваться в сложную ткань авторского произведения. «Редактирование, - отмечает М. Веллер, - бич русской советской литературы последних десятилетий» [2. С. 354]. Необходимо, однако, с осторожностью относиться к таким категорическим утверждениям писателя, пострадавшего от советского редактирования, так как в данном случае не говорится о цензуре, да и настоящие редакторы-профессионалы, руководствующиеся в работе своей совестью, тоже существовали. Правда, они пострадали, как и писатели, за принципиальную позицию, как, например, Л.К. Чуковская - автор интересной и полезной для редактирования книги «В лаборатории редактора» [3] или А.Т. Твардовский, который всячески поддерживал авторов «Нового мира» и сгорел в сражении с всевластной идеологической системой. Главное в работе редактора с произведением художественной литературы - вникнуть в авторский замысел и постараться проанализировать его реализацию. И именно здесь в 1970-е гг. таилась главная опасность для писателей, которым волею судьбы попадался идеологически «выдержанный» редактор. «Будучи образованнее цензоров, редакторы представляли для писателей еще большую опасность, так как они замечали порой то, на что первые не обращали внимания („скрытое цитирование“, нежелательные аллюзии и т.п.)» [4. С. 173-174]. Если учесть, что рассматриваемое произведение - исторический роман (события разворачиваются в XVI в.) и слова В. Короткевича «каждый исторический сюжет - это открытый разговор с современником» [5. С. 221] (здесь и далее переводы на русский язык наши. - П.Ж.), можно представить, каково было отношение и цензоров, и редакторов к роману. Тем более что и до написания этого произведения хватало проблем: «Первое серьезное столкновение В. Ко-роткевича с цензурой произошло в апреле 1961 г.» [6. С. 91], а с партийными идеологическими органами - еще раньше. Как отмечают специалисты по редактированию художественных произведений, «основные правила, которые необходимо помнить редактору: в произведении должна быть органическая связь сюжета и персонажей; все сюжетные линии должны быть направлены на раскрытие ха-112 Вопросы книгоиздания /Book publishing рактеров; поведение каждого персонажа должно быть естественным, поступки героев - обусловленными внутренней логикой развития его характера» [7. С. 213]. С точки зрения сегодняшнего дня все перечисленные пункты «правил» выполнены автором безукоризненно, необходимо было провести лишь определенную правку языка и стиля, и то в основном на уровне корректуры. Роман Владимира Короткевича (1930-1984) «Христос приземлился в Городне: Евангелие от Иуды» - исключительное явление в белорусской (и европейской) литературе и книгоиздании второй половины ХХ в. Толчком к написанию произведения послужила запись из средневековой «Хроники польской, литовской, жемайтской и всея Руси» (1582) польскобелорусского хрониста, историка, поэта Матея Стрыйковского о восстании мужицкого Христа. В автобиографии «Дорога, которую прошел» (1964) В. Короткевич писал: «Сейчас работаю над историческим киносценарием „Христос приземлился в Г ородне“. Это история бродяги, который волею судьбы был назван Христом, вынужден был делать „чудеса“ и, в конце концов, возглавил восстание против церкви и короля. Такой настоящий факт отмечен в древних белорусских хрониках» [8. С. 10]. Возможно, предчувствуя, что съемки фильма по его киносценарию (на русском языке) «Христос приземлился в Гродно» затянутся и могут возникнуть непредвиденные трудности, писатель после его написания (31 марта 1965 г.) почти сразу (7 апреля) начал работать над прозаическим произведением на белорусском языке (окончено 7 апреля 1966 г.). В самом деле, во время съемок сценарий несколько раз переделывался: на протяжении десяти месяцев (с 25 мая 1965 г. по 29 марта 1966 г.) написаны шесть его вариантов. Однако и это не изменило судьбы фильма: принятый под названием «Житие и вознесение Юрася Братчика», он оказался на полке и вышел на широкий экран только в 1989 г. Путь к книге тоже был непростым. К сожалению, пока не найдена рукопись произведения. Существует предположение, что она находится в домашнем архиве одного из друзей писателя, даже, возможно, за пределами Республики Беларусь. О существовании рукописи свидетельствует запись на обороте фотографии в домашнем архиве В. Короткевича: «Страница 135 рукописи „Христа“. Сам едва разобрал. Пишу слова „И не злитесь“». Однако сохранилась машинопись романа, которая была передана автором в отдел редких книг и рукописей Центральной научной библиотеки им. Якуба Коласа Национальной академии наук Беларуси (Ф. 11. Оп. 1. Ед. хр. 41-43). Роман писался в Челябинске (поселок Ша-гол), где жила сестра Наталья Кучковская, и в Рогачеве, в старом дедовском доме, в котором жил дядя Игорь Г ринкевич. 113 Жолнерович П.П. Советское редактирование в 1970-е гг. Можно отметить две особенности при издании романа: во-первых, он не имеет журнального варианта: автор либо не предлагал произведение литературным журналам, либо их редакторы не осмеливались его печатать; во-вторых, сокращенный вариант романа в авторизованном переводе на русский язык Н. Кислика опубликован в год окончания произведения в журнале «Неман» [9] под названием «Христос приземлился в Гродно: Евангелие от Иуды». Для белорусской литературы советского времени это было обычным явлением: свои «высоколобые» цензоры и редакторы таким образом перестраховывались, получая «добро» сверху и как бы снимая с себя ответственность (для примера, несколько повестей Василя Быкова опубликованы сразу в журнале «Новый мир» на русском языке и лишь потом, в оригинале - на белорусском в Минске). При жизни писателя вышли два книжных издания романа: в 1972 г. [10] (спустя шесть лет после написания) и в 1980 г. [11] (в двухтомнике, вышедшем к 50-летию писателя). В 2015 г. роман «Христос приземлился в Городне: Евангелие от Иуды» вошел в 9-й том нового Собрания сочинений В. Короткевича (в 25 т.) [12], которое издается на основе рукописных и машинописных текстов писателя. Составитель и редактор тома приняли решение не отмечать в тексте изъятые или измененные прежде фрагменты, а отобразить это в разделах «Другие редакции и варианты» и «Комментарии», так как находящиеся на печатной странице сноски с примечаниями, естественно, отвлекают внимание читателя от основного - понимания текста произведения, как это произошло, например, при издании романа В. Аксенова «Таинственная страсть» [13]. В 2006 г. вышло отдельное русскоязычное издание романа «Христос приземлился в Гродно. Евангелие от Иуды» [14]. Но многочисленные неточности в переводе, неумение разобраться в хитросплетениях авторской мысли и простое незнание белорусских реалий не позволяют считать данный текст заслуживающим внимания. Второй перевод романа на русский язык под названием «Христос приземлился в Городне (Евангелие от Иуды)» опубликован в Минске в 2011 г. [15]. Согласно машинописи и первой публикации произведение имеет жанровое определение Евангелие от Иуды. В издании 1980 г. фраза взята в скобки и трансформирована в параллельное заглавие «Христос приземлился в Г ородне (Евангелие от Иуды)», а произведение получило жанровое определение роман. Сегодня трудно установить, кому принадлежало это изменение. Можно лишь согласиться с тем, что в классическом понимании (по всестороннему исследованию человека в его связях с обществом и временем, сюжетно-композиционной многоплановости, количеству персонажей и др.) «Христос приземлился в Городне» - безусловно, 114 Вопросы книгоиздания /Book publishing роман. Однако авторское жанровое определение более емкое, оно органически вытекает из всей сюжетной линии. Как говорил А.Т. Твардовский, «простые слова заголовка под конец чтения должны наполняться смыслом, становиться мудрыми, и если это произойдет, их простота обнаружится сильнее и значительнее самого броского заголовка» [16. С. 278]. В нашем случае заголовок непростой, но он свидетельствует об условном «авторстве» текста: именно Иуда-Иосия оказался в конце романа самым преданным другом и сторонником Христа-Братчика и «описал» события в своем «Евангелии». Интересная мысль насчет отношений автора и произведения высказана Умберто Эко, который считал: «Автор не должен интерпретировать свое произведение» - и далее, как бы с горечью, продолжал: «Заглавие, к сожалению, - уже ключ к интерпретации» [17. С. 6]. И такая писательская интерпретация должна помочь читателю сориентироваться, направить его внимание в нужном направлении и таким образом облегчить проникновение в глубинные структуры текста. «Христос приземлился в Городне: Евангелие от Иуды» для середины 1960-х гг. роман новаторский, социально-философский, исторический, в то же время и современный, со стремлением автора затронуть множество глубинных проблем; в нынешнем понимании роман постмодернистский, интертекстуальный, так как пересыпан цитациями, аллюзиями, реминисценциями. Постмодернистский характер романа подтверждается и паратекстуальностью - использованием эпиграфов для каждой из 62 глав: всего в произведении 101 эпиграф, из них 31 - выдержки из Священного Писания (соответственно, некоторые главы имеют несколько эпиграфов). В машинописи глава II «Г олод, и поветрие, и мор» снабжена двумя эпиграфами: цитатой из Книги Руфь 1:1 «В те дни, когда управляли судьи, случился голод на земле» [16. С. 25], и двустишием китайского поэта VIII в. Ду Фу «Во всех дворцах там запах вин и мяса, // А на путях - скелеты мертвецов» [12. С. 15]. Но второй эпиграф отсутствует в книжных изданиях [10. С. 9; 11. С. 11]: то ли это вызвано экстралингвистическими причинами (сложные взаимоотношения КНР и СССР), то ли редакторы посчитали его слишком жестким. Однако глава с таким названием сама по себе непростая, вызывающая у читателя чувство жалости к людям XVI в. и их страданиям, а двустишие как раз помогает раскрытию их бесправного положения. К главе LVII «И увидел я новое небо и новую землю» (само заглавие - цитата из Откровения Иоанна Богослова) предусматривался более широкий текст эпиграфа, а оставлено лишь одно предложение как продолжение заглавия: «И увидел я новое небо и новую землю, ибо прежнее небо и прежняя земля исчезли» (21:1) [15. С. 488]. Ликвидирована цитата «Ворота его не будут запираться днем; а ночи там 115 Жолнерович П.П. Советское редактирование в 1970-е гг. не будет. И принесут в него славу и честь народов. И не войдет в него ничто нечистое и никто преданный мерзости и лжи, а только те, которые написаны у Агнца в книге жизни» (21:25-27). С учетом того что в главе речь идет о сне главного героя Юрася Братчика и посещении им «Небесного Иерусалима», данная цитата является абсолютно уместной, однако наводит на ненужные размышления и поэтому изымается. При цитировании обнаруживается определенная самоцензура, так как В. Короткевич, видимо, предполагал, что упоминание слов «Евангелие», «Послание», «Деяния» в эпиграфах будет каждый раз раздражать цензоров и редакторов, поэтому сокращал названия: в машинописи -«(...Иоанна, 6, 51)», в книжных изданиях - «Иоанн, гл. 6, ст. 51)» [10. С. 130; 11. С. 118]; в машинописи - «(.Тимофею, 6, 10)», в книжных изданиях - «.Тимофею, гл. 6, ст. 10» [10. С. 371; 11. С. 332]. Составители нового Собрания сочинений посчитали необходимым дать названия полностью: «Евангелие от Иоанна 6:51» [12. С. 142]; «Первое послание к Тимофею 6:10» [Там же. С. 371] и др. Как ни странно, произведение не претерпело таких кардинальных цензорских и редакторских правок, вызванных идеологическими причинами, как, например, повесть «Цыганский король» или новелла «Ладья Отчаяния», возможно потому, что соответствующие структуры сочли роман антирелигиозным. Однако на этот счет высказался сам автор: «Я не был бы художником, если бы писал голые агитки. Меня действительно куда более волнует, что такое человек и почему он может иметь власть над другим человеком, нежели различные там конфессиональные проблемы» [18. С. 127-128] - такие слова В. Короткевича из беседы с архиепископом Минским и Белорусским Антонием (А.С. Мельниковым) приводит друг писателя, доктор филологии А.И. Мальдис. Отметим: сценарий фильма получил отрицательный отзыв Совета по делам религий при Совете министров СССР в том числе и за то, что автор «не показывает вредность религиозной идеологии» [6. С. 240]. В романе ликвидированы десятки фрагментов (абзацев, предложений или их частей), которые зачастую значительно влияют на идейную направленность произведения. Здесь уместно привести слова З.П. Ма-тузова, тогдашнего директора минского издательства «Мастацкая літара-тура» («Художественная литература»), где вышли две рассматриваемые книги: «Нас никогда не били за то, что мы выбросили, бьют за то, что оставляем» [6. С. 94]. Более всего изменились те главы, где открыто слышится авторский голос, где высказывание экстраполируется на современность или имеет вневременной характер. В романе автор объясняет читателю причину введения двух дьяволов, вылетевших из ртов персонажей: 116 Вопросы книгоиздания /Book publishing «Ибо это оставили их тело души того дела, которое все они совершали. Осталась его закостенелая оболочка» [16. С. 35]. И далее писатель продолжает (отдельным абзацем): «Если же некоторые придурковатые и последовательные до рвоты „реалисты“, иногда еще преподающие в наших школах или учащие писателей уму-разуму, спросят, зачем мне понадобилось вмешательство нечистой силы и потусторонних существ, которых, конечно, нет, - я спрошу у них только одно» [12. С. 24-25]. В следующем абзаце автор с использованием риторического приема последовательно задает четыре вопроса и положительно на них отвечает. Если ликвидировать предыдущий абзац (что и сделано в изданиях 1972 и 1980 гг. [10. С. 19; 11. С. 19]), возникает смысловая лакуна, которую не в состоянии заполнить читатель. Но и этого показалось мало, так как сокращается следующий абзац: «Ну вот. И как бы я мог иначе показать объективный смысл того, что совершали и будут совершать на протяжении всей книги эти два поганца и все их друзья?» [12. С. 25]. В этом заочном споре автора с воображаемым оппонентом ликвидированы еще три фрагмента. В рассказе Юрася Братчика (глава IX «Дно преисподней») сокращен большой фрагмент из пяти абзацев о поведении одного из «апостолов» Иосии бен Раввуни [10. С. 89; 11. С. 82]. Особенно, видимо, «зацепил» предполагаемого цензора следующий абзац: «Противное это было зрелище. Сотни две кроликов, пятнадцать свиней и один-единственный - человек... Но это не такое уж редкое явление на земле... В большинстве мест так...» [12. С. 99]. Каждая глава романа - своеобразное законченное произведение, в котором большое значение имеет последняя фраза, идейно и тематически связываемая либо с эпиграфом, либо с заглавием. Поэтому ликвидация последнего предложения главы XXIII [10. С. 230; 11. С. 207] «Он шел, и душа его плакала» [12. С. 246] нивелирует впечатление Юрася Братчика от встречи со «Старой любовью» (название главы). В прижизненных изданиях последняя фраза исчезла и из главы XXVI «Черная месса»: «Потом началось такое, о чем невозможно и не стоит писать» [Там же. С. 265]. Но ведь это высказывание свидетельствует о незаконченности действия, описанного в предыдущем абзаце о черной мессе: «Вихрь, ураган, ветер самих веков на лице. Забытье разума и самого себя. Ад, вечное пламя, яростный вечный полет самой жизни» [15. С. 293], и сужает авторскую мысль. Отмеченные правки затрагивают вертикальную структуру романа, его парадигматику, и, вероятно, были проведены цензурными органами, без участия редакторов. Причем попался как раз, по определению Н.В. Жиляковой, «злой», а не «добрый» цензор, как и в царские времена в 117 Жолнерович П.П. Советское редактирование в 1970-е гг. XIX в. [19]. Но правку языка и стиля проводили все-таки редакторы книг. И первое издание (1972 г.) редактировалось на основании машинописи. Синтагматика текста романа очень сложная, поэтому надо было внимательно проводить редакторский анализ на микроуровне (слово, словосочетание, предложение) и последующую правку. Этого, к сожалению, не было сделано. Вероятно, мешало и отношение В. Короткевича к непрофессиональному редактированию его прежних произведений, к необоснованным замечаниям редакторов, к цензорским придиркам. В домашней библиотеке писателя хранится книга 1972 г. издания с 28 правками автора, большинство которых учтено в юбилейной книге 1980 г. Мотивировать правку, убедить автора в ее необходимости - прямая обязанность редактора. Названные в выходных сведениях редакторы В. Головач [10. С. 448] и А.А. Слепцова [11. С. 400] все-таки стремились улучшить текст: в основном проведена правка на орфографическом и пунктуационном уровнях (корректоры, безусловно, тоже к этому имеют отношение). Несколько примеров: в машинописи - «Шелестит свитками бумаги и пергаментными листами, из-под аксамитистого черного капишона смотрят живые глаза», в книгах - «Шелестит свитками бумаги и пергаментными листами, из-под аксамитистого черного капюшона смотрят живые глаза» [10. С. 28; 11. С. 27]; в машинописи - «Висели на копьях, били бревнами в половинки и стены дрожали», в книгах - «Висели на копьях, били бревнами в половинки, и стены дрожали» [10. С. 354; 11. С. 318]. Сравним еще одно машинописное предложение из главы XVI «Са-ронская лилия»: «Она [Магдалина] лежала на спине, чувствовала тяжесть и теплоту его руки на своей груди, и это было хорошо, но - чудо - совсем непривычно» [12. С. 191], и это же предложение в книжных изданиях: «Она лежала на спине, чувствовала тяжесть и теплоту его руки на своей груди, и это было хорошо, она - чудо - совсем непривыкла» [10. С. 177], «Она лежала на спине, чувствовала тяжесть и теплоту его руки на своей груди, и это было хорошо, и - чудо - совсем непривычно» [11. С. 160]. Согласно какой мотивации появилась правка в книге 1972 г.? Состояние Магдалины (было хорошо, непривычно) изменено на процесс (к такому она не привыкла). В книге 1980 г. противительный союз заменен на соединительный (но - и), при этом еще и не ликвидирована запятая. Как такие вольности воспринимать автору? Не случайно известный теоретик редактирования А.Э. Мильчин писал: «Нельзя не признать справедливым недовольство авторов редакторами за правку, искажающую смысл и стиль, за нелепые замечания, за невнимательное и неуважительное отношение к себе, за силовое навязывание решений, с которыми автор не согласен» [20. С. 28]. 118 Вопросы книгоиздания /Book publishing Необычный стиль романа, в котором сочетаются различные исторические пласты, высокое и низкое, общеупотребительное и ограниченное, является заслугой автора - выражением его мировоззрения, а также одной из причин неослабевающего читательского внимания. Но как раз стиль и затрагивали редакторы. Например, корректируется предложение «В тот год Рим анафемствовал Лютера...» [4. С. 50; 10. С. 53] (в машинописи -анафематствовал [12. С. 61]); сокращается повторенное автором слово в возмущенном возгласе Кашпора Бекеша «Это ведь все равно как. всего Че-ло-века тысячи лет распинают!» [10. С. 435; 11. С. 389] (в машинописи - «Это ведь все равно как. как всего Че-ло-века тысячи лет распинают!» [12. С. 460]. Не соглашаются редакторы и с имеющейся на отдельных страницах романа грубостью высказываний, без которой народная речь теряет свою сочность и становится дистиллированной: «- Что нам до того, - убеждал Петро» [10. С. 378; 11. С. 338] (в машинописи - «- Что нам до того г......, убеждал Петро» [12. С. 401]). Без сокращенного слова неточно передается отношение бывших друзей-«апостолов» к своему предводителю Братчику-Христу. Вот автор приводит диалог Анеи, возлюбленной Юрася Братчика (Христа), и Иосии бен Раввуни (Иуды): «- Зачем?.. - без слез спросила Анея. - Зачем спасали? Умереть бы. Так оно спокойно. - Зачем? - и Иуда скверно выругался в гневе. - Затем, чтобы груши сбивать.» [12. С. 420]. В книжных изданиях напечатано: «- Зачем?.. - без слез спросила Анея. - Зачем спасали? Умереть бы. Так оно спокойно. - Зачем? - и Иуда скверно выругался в гневе» [10. С. 396; 11. С. 354]. Психологическое состояние, его проявление в речи, намерение Иосии автор объясняет в следующем абзаце: «Ошеломленная Анея заморгала глазами. Румянец стыда залил все лицо. Но Иуда не обращал внимания на это. Любыми средствами он был рад стряхнуть это бабское оцепенение. Даже бил бы» [10. С. 396; 11. С. 354], поэтому отсутствие слов о конкретной пословице разрушает авторский стиль и нивелирует мысль. Отметим, что такую вольность автор позволяет себе только в диалогах, т.е. использует речевую характеристику персонажей с определенной целью. И не случайно стиль романа называют раблезианским из-за подобных выражений (Ф. Рабле - один из любимых писателей В. Корот-кевича, он в эпиграфах использовал пять цитат из романа «Г аргантюа и Пантагрюэль»). 119 Жолнерович П.П. Советское редактирование в 1970-е гг. Видимо, не понимая, о чем идет речь, редакторы изменяют в предложении «Они зовут вас в крестовый поход против торки и неверные, собирают на это деньги с простых» [12. С. 350] слово торки на турки [10. С. 329; 11. С. 296]. И такой исторической неосведомленности редакторов предостаточно. Понятно, что книга 1980 г. печаталась на основе предыдущего издания 1972 г. Но и во второй прижизненной книге появились новые редакторские изменения. К примеру, в высказывании Джанибека «Не обдели меня, когда приведешь туда воинство твое, избранный твой народ!» [10. С. 287-288; 12. С. 307] ликвидируются слова воинство твое: «Не обдели меня, когда приведешь туда избранный твой народ!» [11. С. 259]; из-за замены буквы изменяется смысловое наполнение предложения: «Мягкая, кошачья грация была в неспешных его движениях» [10. С. 254; 12. С. 271] (движениях - по-белорусски рухах) и «Мягкая, кошачья грация была в неспешных его руках» [11. С. 229] (редактора отчего-то не насторожило возникшее в результате правки выражение неспешных его руках). Во время исследования обнаружено значительное количество недостатков, которые должны были быть ликвидированы в текстах двух книг. Например, не упорядочено написание сдвоенных имен «апостолов»: «Фома - Тумаш подморгнул. Сила - Якуб и Левон - Петр схватили предтечу за руки и поволокли» [10. С. 164; 11. С. 148], в машинописи: «Фома-Тумаш подморгнул. Сила-Якуб и Левон-Петр схватили предтечу за руки и поволокли» [12. С. 176-177]; не прослеживается единый подход при именовании средневековых городов: Городня (современный Гродно), Менск (современный Минск), но Волковыск (средневековый Волковыйск [Там же. С. 344]) и др. Такое отношение к своему детищу, конечно, не могло не задевать В. Короткевича. «Помимо чисто идеологических, редакторы советского времени нередко предъявляли писателям такие „художественные “ требования, которые исходили из ложных, надуманных, односторонних посылок и диктовались скорее опасениями, как бы чего не вышло, чем действительными слабостями произведений. И, пользуясь властным положением, добивались своего, что не могло не вести к порче авторского текста, а порой и к творческим писательским трагедиям» [21]. А были ведь еще и цензоры... В 1984 г. работник Главлита БССР В. Пепеляев на семинаре в Гродно охарактеризовал Короткевича, Адамовича, Мальдиса, Думбадзе едва ли не врагами народа. У В. Короткевича, как пишет А.И. Мальдис, «...началась острая депрессия. С тяжелым приступом „скорая“ забрала Володю в лечкомиссию, где он пролежал в реанимации без особой надежды» [18. С. 161]. И это после многочисленных произве-120 Вопросы книгоиздания /Book publishing дений, написанных за 30 лет творческой деятельности, после награждения к 50-летию орденом Дружбы народов... А речь ведь идет о последнем годе В. Короткевича на земле, которой от отдал все свои силы и талант. Исторические произведения всегда привлекают читательское внимание. Например, как указывает И.А. Айзикова, в книжной коллекции Г.К. Тюменцева находятся подобные произведения, так как они входят «в круг интереса ее владельца к художественному историческому повествованию» [22. С. 82]. «Христос приземлился в Городне: Евангелие от Иуды» В. Короткевича не только широкая панорама жизни средневековой Беларуси XVI в., произведение, в котором точно изображен герой, стремящийся вырваться за пределы устоявшихся норм и поведения, ищущий пути совершенствования общественного строя, заступающийся за оскорбленных и обиженных, личность, похожая по совершенным ей поступкам ради нового Человека на персонажей Шарля де Костера в «Тиле Уленшпигеле», Ромена Роллана в «Кола Брюньоне», Михаила Булгакова в «Мастере и Маргарите». Роман В. Короткевича еще и талантливая интерпретация Второго пришествия Сына Божьего, которая заслуженно может ставиться в ряд подобных произведений Г ермана Г ессе, Хорхе Луиса Борхеса и других писателей. По этой причине произведение имеет вневременное существование, а события могут быть экстраполированы на любое общество любого века нашей эры: что все-таки увидит Сын Божий, «приземлившись» в определенной стране, и что произойдет с Ним? По манере письма роман В. Короткевича схож с произведениями известного итальянского медиевиста, ученого и писателя Умберто Эко. Вдумчивое прочтение Священного Писания, творческое воплощение библейских сюжетов согласно авторскому замыслу, постмодернистская манера письма, высокоинтеллектуальный уровень выводов и обобщений делают роман «Христос приземлился в Городне: Евангелие от Иуды» исключительным явлением в белорусской литературе ХХ в. Настоящее прочтение этого гениального произведения еще впереди, и оно должно быть сделано в контексте славянской, европейской и мировой литературы. Таким образом, при редактировании романа В. Короткевича «Христос приземлился в Городне: Евангелие от Иуды» требовалась большая интеллектуальная работа, в первую очередь проведение качественного редакторского анализа на макроуровне (произведения как целостной структуры) и на микроуровне (линейный контекст), и внимательное отношение к авторскому тексту. В результате проведенного исследования обнаружены многочисленные немотивированные правки, изменяющие авторскую мысль и разрушающие авторский стиль. Многие правки про-121 Жолнерович П.П. Советское редактирование в 1970-е гг. ведены по требованию цензурных органов (Главлита), другие же сделаны непрофессиональными редакторами. Качественная книга - это прежде всего авторский текст, а не текст, сознательно разрушенный в результате волевой правки без согласования с автором. По этой причине возникает острая потребность в пересмотре изданных в советское время произведений и подготовке их к изданию в авторской редакции. И, соответственно, необходимы переводы на основании новых текстов.
Сикорский Н.М. Теория и практика редактирования : учебник для вузов. 2-е изд., испр. и доп. М. : Высшая школа, 1980. 328 с.
Веллер М. Песнь торжествующего плебея: избранное. М. : АСТ, 2006. 368 с.
Чуковская Л.К. В лаборатории редактора. М. : Искусство, 1960. 332 с.
Смиловицкий Л. Цензура в БССР: послевоенные годы, 1944-1956. Иерусалим, 2015. 360 с.
Караткевіч У.С. «Любую справу рабіць хвацка» / гутарыла Р. Станкевіч // Зб. тв. : у 25 т. Мінск, 2016. Т. 14. С. 216-223.
Гужалоускі А.А. Чырвоны аловак: Нарысы па гісторыі цэнзуры у БССР : у 2 кн. Кн. 2. 1943-1991 гг. Мінск : А.М. Янушкевіч, 2018. 320 с.
Редакторская подготовка изданий : учебник / под ред. С.Г. Антоновой. М. : Логос, 2004. 496 с.
Караткевіч У.С. Дарога, якую прайшоу // Зб. тв.: у 25 т. Мінск, 2016. Т. 13. С. 5-11.
Короткевич В. Христос приземлился в Гродно: Евангелие от Иуды / авториз. пер. с белорус. Н. Кислика // Неман. 1966. № 11-12.
Караткевіч У.С. Хрыстос прызямліуся у Гародні: Евангелле ад Іуды. Мінск : Мастацкая літаратура, 1972. 468 с.
Караткевіч У.С. Выбр. тв. : у 2 т. Т. 2: Хрыстос прызямліуся у Гародні (Евангелле ад Іуды) : раман. Мінск : Мастацкая літаратура, 1980. 400 с.
Караткевіч У.С. Зб. тв. : у 25 т. Т. 9: Хрыстос прызямліуся у Гародні: Евангелле ад Іуды. Мінск, 2015. 734 с.
Подчиненов А.В., Снигирева Т.А. Авторская воля и редакторский произвол: к истории публикации романа Василия Аксенова «Т аинственная страсть» // Т екст. Книга. Книгоиздание. 2018. № 18. С. 124-137.
Короткевич В. Христос приземлился в Гродно. Евангелие от Иуды / пер. с белорус. А. Сурнина. СПб. : Амфора, 2006. 622 с.
Короткевич В.С. Христос приземлился в Городне (Евангелие от Иуды) : роман / пер. с белорус. и коммент. П. Жолнеровича. Минск : Літаратура і Мастацтва, 2011. 544 с.
Воспоминания о Твардовском : сб. М. : Советский писатель, 1982. 542 с.
Эко У. Заметки на полях «Имени розы» / пер. с ит. Е.А. Костюкович. СПб. : Симпозиум, 2005. 92 с.
Мальдзіс А.І. Жыцце і узнясенне Уладзіміра Караткевіча: партрэт пісьменніка і чалавека : літаратуразнаучае эсэ. Мінск : Літаратура і Мастацтва, 2010. 208 с.
Жилякова Н.В. Злой цензор, добрый цензор: специфика цензурирования первой частной газеты в Томске («Сибирская газета», 1881-1888 гг.) // Вестник Томского государственного университета. Филология. 2019. № 61. С. 256-270.
Мильчин А.Э. Методика редактирования текста. 3-е изд., перераб. и доп. М. : Логос, 2005. 524 с.
Мильчин А. «В лаборатории редактора» Лидии Чуковской // Октябрь. 2001. № 8. URL: http://www.chukfamily.ru/lidia/biblio/vospominaniya-biblio/v-laboratorii-redaktora (дата обращения: 04.03.2020).
Айзикова И.А. Литературно-художественные произведения о Сибири в книжной коллекции Г.К. Тюменцева // Текст. Книга. Книгоиздание. 2019. № 21. С. 67-87.
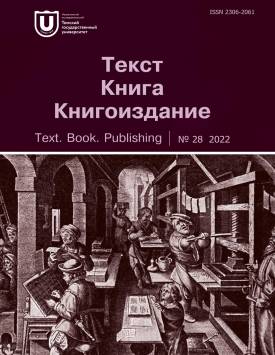

 Вы можете добавить статью
Вы можете добавить статью