Рассматриваются история публикаций художественного наследия В. Нарбута, а также принципы, которыми руководствовались составители посмертных отдельных изданий поэта; особое внимание уделяется подходам, использованным при подготовке наиболее полного собрания сочинений Нарбута, вышедшего в 2018 г. и впервые дополненного, помимо стихотворных текстов, прозой и переводами. Затрагиваются историко-литературные и текстологические аспекты, актуализированные архивными изысканиями, работой с черновиками поэта и первопубликациями его произведений.
The Collected Works of Vladimir Narbut: Archives, texts, and approaches.pdf Последний прижизненный поэтический сборник Владимира Нарбута вышел в 1922 г. Начатая поэтом в 1930-е гг. работа по подготовке книги избранных стихотворений «Спираль» была прервана его арестом и впоследствии трагической гибелью на Колыме в 1938 г. С тех пор отдельные издания произведений Нарбута выходили трижды: в 1983 г. во Франции поэтом Леонидом Чертковым был составлен сборник «Владимир Нарбут. Избранные стихи», Н. Панченко и Н. Бяло-синская подготовили книгу «Владимир Нарбут. Стихотворения», изданную в 1990 г. в СССР. В 2018 г. в издательстве ОГИ вышел том «Владимир Нарбут. Собрание сочинений. Стихи, переводы, проза». Третье за без малого сто лет обращение к творчеству одного из самобытнейших поэтов эпохи в контексте подготовки отдельного собрания его художественных произведений актуализировало вопрос выработки подходов, которыми следовало руководствоваться при составлении корпуса текстов готовящегося собрания. Ключевым здесь представлялось осмысление опыта подготовки предыдущих отдельных изданий 1983 и 1990 гг., а также - научно комментированных публикаций произведений Нарбута, осуществленных ис-126 Вопросы книгоиздания /Book publishing следователями в литературной периодике конца XX - начала XXI в. [1. С. 313-355; 2. С. 106-123; 3. С. 55; 4. С. 399]1. Леонид Чертков «заведомую неполноту» составленного и выпущенного им в 1983 г. сборника Нарбута обосновывает так: «Настоящее издание является первой попыткой собрания стихов поэта, чьи произведения в высшей степени неравноценны» [6. С. 243]. Далее составитель уточняет: «Во-первых, за пределами книги остается много „проходных“ стихов, печатавшихся в периодике 10-х гг. (или оставшихся в рукописи), когда Нарбут, по словам его друга М. Зенкевича, пытался существовать на гонорары от стихов. Другое значительное изъятие касается стихов 19171922 гг., когда он, став коммунистом, в значительной степени подчинил свое творчество агитационным задачам (отсюда мы выбрали всего несколько стихотворений). И, наконец, из последнего периода 30-х г. мы выбрали лишь те стихи, которые в большей мере отвечают критерию художественности. Помимо этого мы вынуждены были оставить пока без внимания правку основного корпуса стихов для готовившегося Нарбутом перед арестом сборника „Спираль“» [Там же. С. 243]. Издание 1983 г., впервые после более чем полувекового перерыва представило подробный очерк жизни и творчества Нарбута и «лучшее из лучшего» в его поэзии. Однако избирательный подход, которым Чертков руководствовался, решая сверхзадачу по возвращению имени Нарбута из небытия, как следует из озвученных самим составителем установок, предполагал учёт не только «воли автора, который собрал свои основные стихи в одну серию сборников, „советские“ - в другую, а к „проходным“ первого периода вообще никогда не возвращался» [Там же. С. 243], но и вкуса Черткова-поэта, опиравшегося на собственное понимание «художественных критериев», а также политические предпочтения (уточнение по поводу стихов 1917-1922 гг.). Например, попытки разделить в нарбутовских сборниках «Плоть» или «Советская земля» «основные» и «советские» стихи, следуя предложенной Чертковым классификации, превращаются в трудноразрешимую задачу. Это, в свою очередь, позволяет сделать вывод о том, что понимание того, где проходит водораздел между «агиткой» и «поэзией как таковой», в восприятии самого Нарбута и в восприятии составителя нарбутовского сборника 1983 г. все-таки разнилось. Свидетельство М. Зенкевича о том, что Нарбут в 1910-е гг. пытался существовать на гонорары от стихов, подтверждается и признанием само- 1 Образцом комментирования нарбутовской прозы можно считать подготовленную Р.Д. Тименчиком публикацию «Блок - советник студенческого журнала. Блок и литераторы» [5. С. 546-548]. 127 Кожухаров Р.Р. Собрание сочинений Владимира Нарбута: архивы, тексты, подходы го поэта, сделанным в ходе партийного разбирательства 1927-1928 гг., закончившегося смещением Нарбута с руководящих постов и исключением из ВКП(б): «В Петербурге, получая вместе с братом из дому 25 рублей в месяц, вынужден был искать заработок для поддержания своего существования. Любовь к литературе (в гимназии и попозже я пописывал стихи, очерки и рассказы) толкнула меня на путь журнально-газетной работы. Постепенно я прошел едва ли не все ступени этой работы: был хроникером, корреспондентом, рецензентом, популяризатором, переводчиком, редактором, - словом, мало-помалу сделался писателем, литератором» [7. С. 5]. Однако возможно предположить, что нежелание Нарбута возвращаться к некоторым своим дореволюционным публикациям было связано не только с тем, что он считал эти произведения «проходными» и напечатанными исключительно ради заработка, но обусловлено причинами более глубокими, онтологическими, связанными с историческими переменами, произошедшими в стране и в судьбе самого поэта. Дореволюционные поэтические публикации Нарбута демонстрируют укоренённость его художественного мира в христианском мировоззрении, позволяя рассматривать раннюю лирику поэта в контексте духовной поэзии [2. С. 106-123]. Этой же тенденцией отмечена печатавшаяся до революции проза - очерки и рассказы, создаваемые с оглядкой на идейно-тематический план и жанровые формы святочного и пасхального рассказа. Без осмысления этого обширного пласта художественного наследия представляется весьма сложным проследить, например, аспекты укоренённости в православном контексте художественного мира поэта, «в том неканоническом, народном его проявлении, с которым легко уживается так называемая „малая мифология“, фольклорная демонология, тот „лес народных поверий и суеверий“, о котором писал Блок» [8. С. 23]. Противоречивое, на первый взгляд, решение Нарбута связать в 1917 г. свою судьбу с большевизмом, как это ни парадоксально звучит, соотносится с траекторией следования идеалам демократизма и социальной справедливости, пронизанным евангельским мироощущением. Этой траекторией отмечена и галерея образов-портретов сборника 1912 г. «Ал-лилуиа»1, и написанный годом позже рассказ «Пелагея Петровна», интонированный антиклерикальным пафосом, озаренный отсветами надвигающегося революционного пожара. Н. Бялосинская и Н. Панченко указывают на то, что общественный темперамент Нарбута «определяет всю дальнейшую (и поэтическую) 1 Название книги существует в трех вариантах написания: «Аллилуиа» (авторское, повторенное дважды на обложках изданий 1912 и 1922 гг., старославянским и гражданским шрифтом соответственно), «Аллилуйа» и «Аллилуйя» (оба встречаются в статьях и работах о Нарбуте). 128 Вопросы книгоиздания /Book publishing жизнь и судьбу, столь же противоречивую, сколь и прямолинейную» [8. С. 26]. Нарбут последовательно реализует свою по пунктам расписанную акмеистическую программу в контексте органичной для мировосприятия поэта новозаветной тематики1. Как и в дореволюционных стихотворных и прозаических публикациях, в своей послереволюционной лирике Нарбут последовательно обращается к евангелическим сюжетам. Настойчивость, с которой Нарбут это делает, в русской поэзии XX в. сопоставима, пожалуй, лишь с примером Бродского и путеводным в его творческой эволюции рождественским циклом. Библейский контекст в стихах 1920-х гг., отнесенных Л. Чертковым к разряду «агитационных», порой переосмысливается с богоборческих позиций: «Что мощей покров парчовый, // Церковь, дряхлая хозяйка». Таков пафос стихотворений «Развернулось сердце розой...» [9. C. 4], «Красный акафист» [10. С. 1], «Наше Рождество» [11. С. 3] и др. Однако неизбывно присутствует ключевой в поэтике Нарбута мотив пасхального тропаря «смертию смерть поправ»: «Ты смертию смерть поборол, пролетарий // Из мертвых восстал ты в победной борьбе!» («Ты видишь, рабочий? - Над Киевом белый.» [12. С. 1]), «И не Христос восстал из мертвых, а Солнценосный Коминтерн!» («Первомайская Пасха» [13. С. 14]). Как поэтическое воплощение настойчивого стремления Нарбута преодолеть мучительную «несогласуемость» интенции поэта и запросов времени, внешних обстоятельств и внутренних установок, можно расценивать стихотворение «Рождественская звезда» [14. С. 2], написанное в Харькове 25 декабря 1921 г.: Как в далеком детстве, со звездою, По снегам рождественским бродить, Жизни с мудростью ее простою Все дурное за вечер простить. Чтобы звонкий, ясный, молодой мороз С месяцем окрепшим, с тишиною рос; Чтобы все закуты, все углы души Нега тюлем дрёмы заткала в тиши. 1 См. перечень «Книги Владимира Нарбута» в рукописи опубликованного в корпусе «Собрания сочинений» сборника «Книга стихов IV», где уже вышедшим и задуманным автором сборникам дана единая сквозная нумерация. В частности указано: «Готовятся: // Вий. Книга V стихов. // И вочеловечшася. VI книга стихов» [24. Л. 1]. 129 Кожухаров Р.Р. Собрание сочинений Владимира Нарбута: архивы, тексты, подходы Взрослые, - с пятиконечной, алой, -Бродим по свету мы со звездой. Пением «Интернационала» Колядуем, с тьмой вступая в бой. Чтобы пролетарий новый мир воздвиг, -Мир без крепостного рабства, без вериг: Чтобы в человецех днесь и навсегда В душах, солнцем ставших, умерла вражда! Трагические перипетии революции и Гражданской войны, ряд ситуаций на грани жизни и смерти вынуждают поэта утвердиться в тезисе, сформулированном еще до 1917 г.: «...но нельзя не считаться с действительностью». Новая, послереволюционная действительность, в которую с головой погрузился Нарбут, формировала принципиально новый ракурс восприятия не только тех или иных поэтических тем, но и поэзии как таковой. Красноречиво в этой связи высказывание И. Лежнева, датированное 1924 г.: «И трижды прав Вл. Нарбут, несомненно один из интереснейших поэтов нашего времени, что, посвятив себя политической работе, он отсек художественную, - и стихов сейчас не пишет „принципиальной Работа его в Ц.К.Р.К.П. совершенно отчетлива, ясна, прямолинейна, рациональна до конца. Поэтическое же творчество по самой природе своей иррационально, и „совместительство“ было бы вредно для обоих призваний. Здесь у Нарбута - не только честность с самим собой, которой в наше время не хватает многим и многим; здесь еще и здоровый эстетический инстинкт художника, которого лишены наши бесталанные соискатели этого блистательного звания» [15. С. 187]. Сам поэт в автобиографии 1927 г. характеризует создавшуюся ситуацию так: «Стихи бросил писать в 1921 году (последнюю книжку старых стихов выпустил в 1922 г.; в 1920 и 1921 гг. издал два сборника революционных стихов), твердо учитывая бесполезность и ненужность в настоящее время подобного рода занятий» [7. С. 2]. В связи с этим приходится констатировать, что избирательный подход, какими бы принципами он не был мотивирован: эстетическими предпочтениями либо политическими взглядами, идеологической конъюнктурой, - приводит к ситуации «значительных изъятий» и в творческой биографии, и в поэзии, а следовательно, в искажении восприятия целостной картины художественного мира автора. Показательно, что Л. Чертков оставляет без внимания правку основного корпуса стихов для готовившегося Нарбутом перед арестом сборника «Спираль», на что указывает в примечаниях. С одной стороны, соста-130 Вопросы книгоиздания /Book publishing витель нарушает принцип последней воли автора, которому сам старается следовать. Однако в данном случае, очевидно, учитывался контекст времени и ситуации, в которой Нарбут, в преддверии ареста в октябре 1936 г., готовил к печати свою, как оказалось, последнюю и так и не изданную книгу избранного, внося в стихи правки, обусловленные, как можно предположить, не только и не столько творческой эволюцией, сколько общественно-политической ситуацией в целом и ситуацией обструкции, в которой поэт оказался после исключения из партии и которую он сам красноречиво описывает в заявлении в ЦКК: «Вымышленная, болезненная обстановка, отягощающая и без того крайне тяжелое моё моральное состояние и ставящая меня на положение буквально „зачум-ленного“ человека» [16. С. 102]. В любом случае реализация этих принципов и подходов обусловила наличие в первом посмертном издании стихотворений поэта, как констатирует Чертков, «значительных изъятий». Н. Бялосинская и Н. Панченко, осуществляя подготовку издания 1990 г., выбирают «предложенное самим Нарбутом построение в составленной им рукописи избранного „Спираль“» [8. C. 404]. То есть и здесь на уровне композиции демонстрируется следование принципу последней воли автора. Ключевое слово «избранное» и в данном случае обусловливает приоритет избирательного подхода, органично реализованного Чертковым в первом посмертном издании стихов Нарбута 1983 г. Однако очерченные «Спиралью» структурные рамки воспринимаются составителями издания 1990 г. как слишком тесные, вынуждая изменить композицию корпуса нарбутовских текстов. Составители мотивируют это обнаруженными в прижизненных публикациях и в архивах стихами, в том числе рукописью книги «Казненный Серафим». Более того, наряду с основным, избранным, в структуре издания 1990 г. формируется приложение, куда помещаются стихи Нарбута разных лет: «юношеские, агитационные, экспериментальные („научные“), найденные незавершенными в черновиках» [8. С. 404]. Таким образом, несмотря на декларирование следования композиционному замыслу «Спирали» и принципу избирательности, разграничивающему нарбутовское художественное наследие, с одной стороны, на «поэзию как таковую» и, с другой - на «агитки», «проходные» и «советские» стихи, фактически составители издания 1990 г. стремятся к полноте в воссоздании сложной и противоречивой картины художественного мира Нарбута. Обусловленная избирательным подходом проблема «наличия отсутствия... значительных изъятий» в творческом наследии Нарбута соотносится со значительными изъятиями в творческой биографии поэта, про-131 Кожухаров Р.Р. Собрание сочинений Владимира Нарбута: архивы, тексты, подходы воцирующими ситуацию инсинуаций и домыслов, фиксируемую составителями издания 1990 г.: «Стоит показать стихи Нарбута в современном кругу поэтов или читателей, как почти обязательно следует реплика: «Какие замечательные (прекрасные, удивительные и т.п.) стихи! Но что-то с этим Нарбутом было... То ли он зверствовал в ЧК (варианты: „кого-то расстреливал“, „какой-то страшный человек“)» [8. С. 7-8]. Теснейшая корреляция трагических перипетий жизни Нарбута с «геологическим переворотом» революции 1917 г. и Гражданской войны обусловила двусмысленную зависимость посмертной судьбы творческого наследия поэта от контекста эпохи, диаметрально противоположных и взаимоисключающих установок в восприятии ключевых событий русской и мировой истории XX в. В этой связи показателен отзыв на первое посмертное издание стихотворений Нарбута, выпущенное в 1983 г. в Париже Леонидом Чертковым: «Кто такой Владимир Нарбут? Вопрос не праздный, поскольку поэта этого забыли дважды. Точнее - с двух сторон забыли» [17. С. 419]. Констатируя ключевую для творческой эволюции Нарбута проблему «белых пятен» в контексте его биографии, Л. Чертков предпосылает корпусу избранных стихотворений развернутый, насыщенный ценнейшими фактами и отсылками очерк жизни и творчества поэта. Стремящееся к полноте жизнеописание вкупе с подробными примечаниями положило начало серьезным изысканиям в области нарбутоведения. Композиция издания 1990 г. также состоит из трех частей: очерка жизни и творчества поэта, стихотворений и примечаний. Корпус художественных текстов дополнен письмами Нарбута из заключения ко второй жене С.Г. Суок. Примечания в издании, подготовленном Н. Бялосинской и Н. Панченко, в сравнении с изданием 1983 г. «прирастают» за счет применения реального комментария, текстологических изысканий, фиксирующих случаи разночтений. Таким образом, в изданиях и 1983 г., и 1990 г. в той или иной степени воплощается стремление к полноте как единственной возможности преодоления проблемы идейно-эстетических, онтологических противоречий трагической судьбы Нарбута, посмертного бытия его художественного наследия. Подготовка собрания сочинений Нарбута предполагалась во взаимосвязи двух направлений: во-первых, продолжения работы по устранению «белых пятен» в биографии поэта и, во-вторых, формирования наиболее полного свода художественных произведений Нарбута, впервые дополненного, помимо стихотворных текстов, прозой и переводами. 132 Вопросы книгоиздания /Book publishing В контексте первого направления ключевым можно считать знакомство с «партийным» делом Нарбута, которое находится в РГАСПИ, а также с хранящимся в архиве ФСБ следственным делом группы украинских писателей-националистов, в составе которой Нарбут был арестован, осужден и отправлен на Колыму. В своё время составителю собрания сочинений Нарбута удалось обнаружить в РГАСПИ отдельные, датированные 1927-1928 гг. протоколы ЦКК, касающиеся противостояния Нарбута и А.К. Воронского. Однако целиком персональное дело поэта в РГАСПИ было найдено исследователями Д.М. Фельдманом и О. Киянской. Документы партийного разбирательства, хранящиеся в этой папке, не только устраняют многие неясности и уточняют подробности «беспокойной и трагичной» судьбы поэта, но и содержат отсылки к его художественному наследию, которое в ходе партийного разбирательства использовалось оппонентами Нарбута в качестве изобличающих улик. Вот выдержки из стенограммы одного из заседаний: «А. Воронский: тов. Нарбут - человек, который раньше писал в „Новом времени“. Запишите это. Писал в 1922 г. стихи „Надежда Петровна“, вышла в 1922 г., когда вы были коммунистом, невероятно порнографического содержания (Нарбут с места: это неверно)» [18. С. 24]. В приложении к партийному делу, вместе с экземплярами сборников «Плоть» и «Александра Павловна», в качестве «вещественных доказательств» содержатся черновик нарбутовского стихотворения «В вагоне» (опубликованного в 1922 г. в одесском журнале «Зритель» под названием «Железная дорога»), а также машинопись текста стихотворения Нарбута «На закате», опубликованного в 1913 г. в приложении к «реакционной» газете «Новое время» и больше не печатавшегося. Ценным в контексте проблематики биографии и библиографии Нарбута стало уточнение подробностей другого отмеченного скандалом противостояния, в которое поэт оказался вовлечен в роковом для него и страны 1917 г. В октябре 1917 г. в Глухове, на своей малой родине, Нарбут принимает участие в кампании по выборам «в гласные уездного земства», что провоцирует резкую полемику на страницах местной газеты «Известия Глуховского совета солд., раб. и крестьянских депутатов». Оппонент поэта на выборах, редактор глуховских «Известий» М.И. Буримов в одной из статей, направленных на дискредитацию «большевика» и «футуро-интернационалиста» Нарбута, в частности, сообщает, что два с половиной года назад (т.е., в 1915 г.) тот подвизался в официозной губернской газете «Черниговское слово», помещая там свои «поэзы», воспевающие «грабительскую» Первую мировую войну [19. С. 2-3]. 133 Кожухаров Р.Р. Собрание сочинений Владимира Нарбута: архивы, тексты, подходы Данный пассаж и тут же в заметке процитированное стихотворение Нарбута «Вперед» отсылают к циклу произведений, посвященных событиям Первой мировой войны, сражениям и подвигам солдат Русской армии и опубликованных Нарбутом весной 1915 г. в газете «Черниговское слово». Еще один пласт произведений Нарбута, не печатавшихся со времени первопубликации и связанных с военной тематикой, относится к ключевому в творческой биографии поэта одесскому периоду и связан с советско-польской войной 1920 г.1 Созданные в это время стихи, с одной стороны, попадают в разряд «агитационных», но с другой - далеко этим определением не исчерпываются. Они не только пронизаны духом времени («не жить и не родиться б в эти дни...», «Дворянской кровию отяжелев...» [21. С. 2]), но и насыщены историческим контекстом, фактами и деталями нового быта и бытия. В данном случае, как и в целом в отношении текстов собрания сочинений, актуализировался вопрос использования реального комментария в качестве основного подхода при подготовке примечаний с учётом биографического, исторического, литературного, фольклорного, мифологического, языкового аспектов. Во многом направления здесь были заданы кропотливой работой, начатой в издании 1983 г. и в особенности - в издании 1990 г. Основной объем изысканий в отношении нарбутовских текстов и биографических фактов, помимо одесских архивов и фондов, осуществлялся в государственных и частных архивах и фондах Москвы, в том числе, в рукописном отделе, основном и газетном фондах РГБ, в отделе рукописей РГАЛИ [22], в архивах ФСБ [23], РГАСПИ, ГАРФе. Неоценимую помощь во время работы с одесской периодикой 1920-х гг., хранящейся в фондах Одесского литературного музея и Одесской национальной библиотеки, оказали А.Л. Яворская и О.М. Барковская. Фотокопии «Студенческого сборника» 1909 г. с подборкой стихотворений и рассказом «Часы», которую сам Нарбут считал началом своего поэтического пути, для собрания сочинений предоставил известный краевед, культуролог, журналист и собиратель Е.М. Голубовский. Корпус художественных произведений Нарбута представлен тремя частями: «Стихи», «Проза», «Переводы». Расположение текстов в каждой из частей осуществлено с опорой на хронологический принцип, однако в 1 Этот стихотворный цикл Нарбута 1920 г. подробно рассмотрен в статье «Стихи о войне Владимира Нарбута» [20. С. 105-112]. 134 Вопросы книгоиздания /Book publishing части «Стихи» некоторые разделы выделены тематически, в соотнесении с общей установкой на сохранение хронологической канвы. Тематические разделы соответствуют опубликованным при жизни поэтическим сборникам Нарбута, подготовленным самим поэтом, но не изданным рукописям сборников (за исключением сборника «Спираль»), а также стихотворным циклам. Например, тематический раздел «Стихи о войне», куда включены одноименный цикл и примыкающие к нему стихи одесского периода, окружают хронологические разделы «Советская земля (1918-1921)» и «Стихотворения 1921-1923». К такому соотнесению тематического контекста и хронологии устремлена композиция стихотворного корпуса в целом. В частности, опубликованы произведения из подготовленной поэтом к печати в 1913 г., но не вышедшей в свет рукописи «Книга стихов IV» [24]. В одноименном разделе помещены только те стихотворения из рукописи, которые не публиковались в прижизненных книгах Нарбута. Исключение составляет первое в рукописи 1913 г. стихотворение: «Неразвернувшейся душой - медвежий», впоследствии в существенно переработанном виде открывшее сборник «Плоть». Эти стихи, по сути, являются стихотворным манифестом «адамизма», провозглашая: «И нам ли ныть, когда мы все - Адамы?! // Да здравствует вселенский адамизм!» Показательно, что эхо этой эстетической программы, вырабатывавшейся в русле акмеистических исканий еще в 1912 г., находит отклик и в «агитационных» стихах нового, большевистского времени. Например, в стихотворении «Мы» есть такие строки: (На крик в ночи) - «Глядите в оба», Твердит РАБФАК и ФАБРЗАВУЧ, И не в обузу им учеба, А яблоком - на грудь, из туч. Мы, коллективные Адамы, Расколдовали Т - Д - Т, Над молотами мы упрямы В передрассветной темноте. Для упомянутых в стихах аббревиатур «РАБФАК», «ФАБРЗАВУЧ», а также сокращенного обозначения формы товарного обращения «товар -деньги - товар» необходим комментарий, что и осуществляется в примечаниях. С приведенными строками «агитационного» стихотворения «Мы» [25. С. 3] перекликаются нарбутовские строки: «Огромным яблоком Адама // Земля летела в темноте». Данный фрагмент, наряду с другими от-135 Кожухаров Р.Р. Собрание сочинений Владимира Нарбута: архивы, тексты, подходы рывками и набросками отдельных строф и строк, хранится в собрании внучки поэта Т.Р. Романовой, которое включает и архив рукописей, и машинописные тексты стихотворений Нарбута, уже известных по публикациям 1983 и 1990 гг. и ранее находившихся у В.Б. Шкловского. Т.Р. Романова любезно предоставила возможность ознакомиться с архивом. Несомненная историко-литературная и художественная ценность обнаруженного поэтического материала обусловила необходимость формирования в составе стихотворной части тома отдельного раздела «Отрывки и черновые наброски 1920-1930-х годов». Необходимо отметить, что черновики некоторых стихотворений, опубликованных в издании 1990 г. со ссылкой на архив Шкловского, в собрании Т.Р. Романовой отсутствовали. Черновые записи фиксируют кропотливый поиск поэтом точного слова, рифм, поэтических образов. Нередко Нарбут создает несколько редакций произведения (например, стихотворения «Ялта», «Чехов», «Воспоминания о Сочи-Мацесте»). Включая в свои сборники стихи, ранее опубликованные в периодике, поэт нередко подвергал их переработке, порой значительной (например, стихотворение «В парикмахерской (уездной)», «Бродяга» и др.). Итоги текстологической работы по сопоставлению различных вариантов публикаций текстов, а также, в случае их наличия, черновых редакций, выявленные разночтения представлены в примечаниях. Тексты раздела «Александра Павловна» опубликованы по изданию 1990 г., учитывавшему авторскую волю, отраженную в «Спирали». Отрывки одноименной поэмы дополнены текстом «Крыжние в зеленом росном небе...», который воспроизведен по рукописи, хранящейся в архиве Нарбута в РГАЛИ [22. Л. 2]. В издании 1990 г. эти стихи даны в разделе «Александра Павловна» под названием «Вечер», не в составе поэмы. Хранящаяся в РГАЛИ рукопись «Александры Павловны» включает две пронумерованные главки: 1. Детская весна («Оранжевые радужные перья.»); 3. Вечер («Крыжние в зеленом росном небе.»), что позволяет рассматривать данные стихи как составные части, «отрывки» поэмы. Этот вариант авторской композиции и представлен в собрании сочинений с соответствующими уточнениями в примечаниях. Публикация стихотворного цикла «Семнадцатый» требовала учёта разночтений, воплощенных сначала в первопубликациях в одесской периодике 1920 г., потом в сборнике «Советская земля» (1921), а затем - в рукописи «Спирали» (отраженных в издании 1990 г.). Представленные в собрании сочинений переводы стихотворений Те-мирболата Мамсурова и Магомета Мамакаева выполнены Нарбутом для сборника «Поэзия горцев Кавказа», вышедшего в Гослитиздате в 1934 г. 136 Вопросы книгоиздания /Book publishing Нарбутовские переводы произведений Ивана Франко и Марии Коноп-ницкой, на наличие которых указывали в своё время исследователи, отыскать пока не удалось. В составе собрания сочинений впервые представлен корпус прозаических произведений Нарбута. В его прозе в не меньшей степени, чем в поэзии, нашло отражение акмеистическое внимание к «существованию вещи» и «собственному бытию». Показательны в этом отношении и ранние очерки «Соловецкий монастырь» [26. С. 14-18], «Святки в Малороссии» [27. С. 394-396], и рассказы 1913 г. «Пелагея Петровна» [28. С. 933936], «Свадьба» [29. С. 1-7], и, наконец, созданные после революции мемуарные очерки «Король в тени. Воспоминания о В.М. Дорошевиче» [30. С. 6-7] и «О Блоке. Клочки воспоминаний» [31. С. 2-3]. Жанровое своеобразие созданных Нарбутом литературных портретов («клочки»), с одной стороны, соотносится с формальными исканиями поэта, для которого в 1920-е гг. фрагментарность становится ключевым принципом воплощения замысла (намеренная отрывочность «Александры Павловны», наброски и отрывки как форма бытования поэзии в его рукописях 1930-х гг.). В то же время мемуарные очерки насыщены историко-литературными фактами, подробностями быта, времени, нуждающимися в комментарии. Уточнение границ художественного наследия Нарбута продолжается, как и изыскания, связанные с творческой биографией поэта. Несомненный историко-литературный интерес представляет общественная деятельность Нарбута, в частности его работа в ВАППе, период руководства Нарбутом крупнейшим в Советской России 1920-х гг. издательством художественной литературы «Земля и фабрика». Всё это - шаги на пути, начатом Л. Чертковым и продолженном Н. Бялосинской и Н. Панченко, Р. Тименчиком, Н. Богомоловым, И. Померанцевым, О. Лекмановым и другими, - по воссозданию целостной картины неповторимого художественного мира одного из самобытнейших поэтов XX в.
Нарбут Т., Устиновский В. Владимир Нарбут // Ново-Басманная. 19. 1990. С. 313-355.
Померанцев И. Духовная поэзия Нарбута // Новый журнал (Нью-Йорк). 1998. Кн. 212. С. 106-123.
Тименчик Р.Д. К вопросу о библиографии В.И. Нарбута // De Visu. 1993. № 11. С. 55-58.
Богомолов Н.А. Затерянная книга, затерянное стихотворение // Новое литературное обозрение. 2009. № 99. С. 397-403.
Тименчик Р.Д. Блок - советник студенческого журнала. Блок и литераторы // Александр Блок. Новые материалы и исследования : в 5 кн. Кн. 4. Литературное наследство. Т. 92. М. : Наука. 1987. С. 546-549.
Чертков Л. Судьба Владимира Нарбута // Владимир Нарбут. Избранные стихи. Париж, 1983. С. 7-28.
Нарбут В. Автобиография от 13 мая 1927 г. Персональное партийное дело // РГАСПИ. Ф. 589. Оп. 2. Д. 4907. С. 1-5.
Бялосинская Н., Панченко Н. Косой дождь // Владимир Нарбут. Стихотворения. М., 1990. С. 5-44.
Нарбут В. В огненных столбах. Одесса, 1920. С. 4.
Нарбут В. Красный акафист // ОдУкРОСТА. Одесса. 1920. № 113 (20 авг.) С. 1.
Нарбут В. Наше рождество // Коммунист. Харьков, 1922. № 6 (598) (7 янв.). С. 3.
Владимир Нарбут. Стихи о войне // ЮгРОСТА. 1920. № 47 (3 июня). С. 1.
Владимир Нарбут. Советская земля. Харьков, 1921. С. 14.
Владимир Нарбут. Рождественская звезда // «Вісти - Известия» (Одесса). 1922. 7 янв. № 629. С. 2.
Лежнев И. Где же новая литература? // Россия. 1924. № 1. С. 179-203.
Нарбут В. Заявление секретарю ЦКК Шкирятову от 23 ноября 1928 г. Партийное дело // РГАСПИ. Ф. 589. Оп. 2. Д. 4907. С. 102.
Владимир Нарбут. Избранные стихи <Рецензия на книгу, без подписи> / Коротко о книгах // Континент. 1984. № 39. С. 419-421.
Заявление А. Воронского на заседании расширенной коллегии отдела печати ЦК ВКП(б), 14.VII.1927 // Персональное дело В.И. Нарбута. 1927. C. 24.
Интернационалист <без подписи> // Известия Глуховского Совета солдатских, рабочих и крестьянских депутатов. 1917. № 34 (11 окт.). С. 2-3.
Кожухаров Р. Стихи о войне Владимира Нарбута // Звезда. СПб. : 2018. № 3. С. 105-112.
Владимир Нарбут. «Дворянской кровию отяжелев..» // Облава. Одесса: 1920. № 2. С. 2.
Архив Владимира Нарбута // РГАЛИ. Ф. 1687 (Нарбут В.И.). Оп. 1.
ЦА ФСБ РФ. Д. Р-11774.
Нарбут В. Книга стихов IV. (Неосуществленное издание.) Рукопись 1913 г. НИОР РГБ // Ф. 178. Музейное собрание. Ед. хр. 10755. 138 с.
Нарбут В. Мы // Харьковский понедельник. 1923. № 4. 9 янв. С. 2.
Нарбут В. Соловецкий монастырь. Бог - помочь. Беседа. 1908. Авг. С. 14-18.
Нарбут В. Святки в Малороссии. Рождественский бытовой очерк. Сборник русского чтения. 1908. № 50-52. С. 394-396.
Нарбут В. Пелагея Петровна // Нива. 1912. № 46-47. С. 933-936.
Нарбут В. Свадьба // Север. СПб., 1913. № 14. С. 1-7.
Нарбут В. Король в тени. Воспоминания о В.М. Дорошевиче // Театр. Одесса. 1922. № 2 (4 апр.). С. 6-7.
Нарбут В. О Блоке. Клочки воспоминаний // Календарь искусств. Харьков. № 1 (5 янв.). С. 2-3.
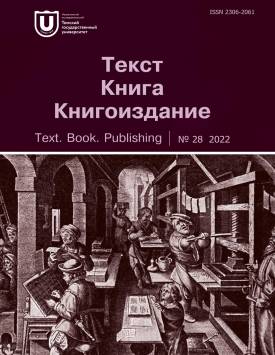

 Вы можете добавить статью
Вы можете добавить статью