Рецензия на книгу Э. Смит «И все это Шекспир» (Смит Э. И все это Шекспир. Самая эротичная комедия, самая драматичная трагедия, сгорающие от стыда мужчины, картонные злодеи, феминистки, звезды шоу-бизнеса и многое другое / Эмма Смит; пер. с англ. М. Сухотиной; науч. ред. Д. Иванов, В. Макаров. М.: Ма
Э. Смит предлагает актуальное прочтение текстов Шекспира, опирающееся на театральные постановки и экранизации его произведений ХХ-ХХІ вв. Актуализация шекспировского наследия реализуется в современном театре и кинематографе как попытка сближения сложного и многообразного содержания трагедий и комедий писателя с масс-культурой. В результате возникает опыт ее соединения с глубокой философской проблематикой шекспировского театра.
Book review: Smith, E. (2020) This Is Shakespeare. The most erotic comedy, the most dramatic tragedy, men burned by sham.pdf В настоящее время творчество великого английского драматурга и поэта У. Шекспира привлекает внимание многочисленных исследователей, как отечественных, так и зарубежных. Проблемы биографии Шекспира, загадки его авторства, философская проблематика его пьес затрагиваются в различных книгах, посвященных ему. Шекспироведение на сегодняшний день стало значительной ветвью филологии, так же как проблема «чтений», интерпретаций шекспировских текстов, в связи с чем мы обратили внимание на книгу о Шекспире, которая предлагает описание различных подходов к творчеству драматурга. В 2020 г. в издательстве «Манн, Иванов и Фербер» опубликована книга Эммы Смит «И это все Шекспир» в переводе Марии Сухотиной. Автор книги - профессор Оксфордского университета, известный шекс-пировед Эмма Смит. Уже во введении она предлагает читателю ответить на вопрос, «чем его (Шекспира. - Н.Е., Е.К.) наследие ценно для XXI века» [1. C. 14]. Автор сразу заявляет свою позицию, которая будет и далее отчетливо заметна на страницах книги: «Мне интересен совсем другой Шекспир: проблемный, неоднозначный, во многом вылепленный культурой своего века, но при этом неожиданно близкий и созвучный нашему времени» [Т ам же]. Восприятие структуры и самого материала книги рассчитано как на широкого читателя, так и на специалиста-филолога: «Каждая глава в книге посвящена отдельной пьесе и рассматривает ее в особом ключе . Каждая глава так или иначе затрагивает проблему интерпретации, современной Шекспиру и современной нам . Мне хотелось дать читателю представление об эволюции тем и жанров поэтому пьесы буду обсуждаться в хронологическом порядке. При этом я старалась сделать каждую главу более или менее самодостаточной, чтобы вы могли, к примеру, прочесть одну из них перед походом в театр или начать с конца, если там найдется что-то интересное лично для вас» [Там же. С. 17-18]. В арсенале автора психология и психоанализ, культурологический и социологический подходы, которые сочетаются с собственно филологическим анализом пьес. Правда, об эволюции тем и жанров в книге говорится меньше всего. Позволим себе опираться на более традиционный взгляд на творчество Шекспира и понять, почему книга Э. Смит достойна внимания и может быть рекомендована современным студентам при изучении его наследия в вузе в качестве дискуссионного материала. 169 Ерофеева Н.Е., Киричук Е.В. Рецензия на книгу Э. Смит «И все это Шекспир» Книга включает в себя 20 глав, каждая посвящена одной пьесе. Заметим сразу, что в образовательном процессе эта структура очень удобна, потому что позволяет максимально привлечь внимание читателя к произведению и определить его собственное восприятие, согласие или несогласие с автором книги. Эта особенность проверена в практической работе со студентами на занятиях по творчеству У. Шекспира. Э. Смит предлагает не оценивать пьесы в соответствии с теми представлениями, которые складывались годами (и даже веками), а посмотреть на их содержание и персонажей с разных сторон и с учетом всех точек зрения современного общества и искусства. Поэтому она делает акцент на том, что шекспировские тексты в первую очередь ставят вопросы, а не дают ответы. «Вот почему они остаются вечно острыми и провокационными, вот почему мы сами становимся творцами их смысла, и почему они так настоятельно требуют нашего внимания» [1. C. 17-18]. Такой подход определил и своеобразный подзаголовок книги, вынесенный на титульный лист: «Самая эротичная комедия, самая драматичная трагедия, сгорающие от стыда мужчины, картонные злодеи, феминистки, звезды шоу-бизнеса и многое другое» [Там же. C. 5]. Так, уже в первой главе, посвящённой «Укрощению строптивой», учитываются и мнения режиссеров, и интерпретация актеров, исполняющих роли Катарины и Петруччо, постоянно подчёркивается, что конфликт пьесы, образы главных героев «можно трактовать по-разному, главное, понять Шекспира и научиться его читать» [Там же. C. 21]. Автор убеждена, что при прочтении пьесы «мы сами вкладываем в произведение тот смысл, который считаем нужным» [Там же. C.21]. Исследователь акцентирует контекст, на который необходимо обращать внимание, вчитываясь в каждое слово пьесы. Для Э. Смит важны исторический, культурный, политический контексты, которые как раз и позволяют каждому поколению читателей и зрителей оценивать и сюжеты, и конфликты, и персонажей Шекспира, отвечать на актуальные сегодня в европейском обществе вопросы (например, о расизме в «Отелло»: Яго и Отелло представляются двумя полюсами добродетели, отражающими новый взгляд на человека, его ценностный потенциал, а цвет кожи -это лишь акцент, благодаря которому зритель учился принимать человека по его делам, а не по внешности. Однако, следуя за Э. Смит, можно поставить под сомнение эти завоевания эпохи Возрождения). Безусловно, нестандартный подход Э. Смит к Шекспиру вызывает интерес, хотя некоторые моменты ее интерпретаций спорны, как, например, восприятие Ричарда III сквозь призму вопроса о том, «как центральная роль Ричарда на подмостках отображает радикальные перемены в 170 Рецензии / Reviews области политики и сценического искусства» [1. C. 33]. Анализируя образ Ричарда, автор книги обращает внимание на особенности структуры пьесы, которая открывается монологом главного героя, что нехарактерно для манеры Шекспира («начать шекспировскую пьесу не самая легкая задача)» [Там же. C. 31]. Ломается привычное представление о Ричарде и после утверждения о том, что он умеет привлечь зрителя на свою сторону доверительностью, откровенностью, в том числе рассуждениями о собственной внешности. Рассматривая роль Ричарда в ряду образов королей периода войны Алой и Белой розы, Э. Смит делает интересный вывод: «Ричард III незамедлительно проявляет бульдожью хватку: он вцепляется и в зрителя, и в роль и не отпускает до самого конца. Авторитарная драматургия пьесы предельно точно передает стальную политическую волю героя» [Там же. C. 34]. И далее Ричард представлен как искусный лицедей, играющий свою ведущую роль сознательно и с удовольствием: «Тонкость не входит в арсенал Ричарда: его стиль - сплошная гипербола, сознательный перебор, почти маниакальный размах» [Там же]. Чуть ранее была проведена ассоциация с современным кино: «...однако история восхождения Ричарда на английский трон и его последующей гибели на поле боя больше похожа на современную кинобиографию известного преступника. Исторические детали здесь не так важны, как сам извечный сюжет о взлете и падении» [Там же. C. 31-32]. Трактовка пьесы отражает, скорее, взгляд современного постановщика, создающего спектакль «по пьесе Шекспира» или «по мотивам пьесы Шекспира». Э. Смит вообще предлагает пересмотреть отношение к шекспировскому Ричарду, как и Ричмонду, его антиподу. И дело не только в том, что критика XX в. стремилась убедить в миролюбии тех, кто покончил с Ричардом. По мнению автора, вся проблема в престолонаследии, потому что «время Тюдоров - хоть об этом и не рекомендовалось говорить вслух -как династии подходило к концу: она исчерпала все свои ресурсы и осталась без наследников» [Там же. C. 38]. Э. Смит говорит о «прочтении» пьесы литературоведами 1940-2000-х гг., о драматургических трактовках указанного периода, и в центре оказывается проблема тирании. «Ричард III» -первая из хроник, рассмотренных Э. Смит. Затем следуют главы 4 «Ричард II» и 8 «Генрих IV» (Часть первая). В главе о «Ричарде II» Э. Смит тоже рассматривает текст хроники в контексте политики и ценностей времен Шекспира. Однако исторический контекст удивительным образом расширен в этой главе, включая современное общество: например, подчеркивается акцент на гомосексуальных отношениях при дворе «...в современных постановках в телецикле Би-би-си „Пустая коро-171 Ерофеева Н.Е., Киричук Е.В. Рецензия на книгу Э. Смит «И все это Шекспир» на“ (2012) с Беном Уишоу в роли Ричарда эта тема порой выдвигается на первый план» [1. C. 59]. Своеобразно автор книги трактует идеи драматурга, заложенные в центральные фигуры его исторических хроник и трагедий. Говоря о будущем королевской власти, она ссылается на мнение медиевиста Э. Канторовича, который «назвал „два тела короля“»: одно физическое и бренное, второе символическое и вечное, и заключает, что смерть монарха не означает конец монархии. В этой схеме мироздания смерть одного конкретного правителя фактически лишена трагизма: она необходима и неизбежна для возобновления монаршей роли. Наследственная монархия, как и сама история, фактически противоположна трагедии [Там же. C. 60]. Интересны размышления о топосе мученичества в связи с образом Ричарда: «Ричард, застрявший в жанре трагедии, - фигура пассивная, тогда как Болингброк твердо намерен вершить историю и потому активен. Ричард пытается вписать себя в трагедию через топос мученичества, и Шекспир отчасти ему помогает, вкладывая в его уста монолог трагического героя, где раскрываются его душевные метания...» [Там же]. И здесь не обходится без сравнения с интерпретацией текста Шекспира режиссерами и актерами, которых, подобно М. Богданову (1986) или Р. Гулду (2012), привлекает антитеза в основе сюжета пьесы. Интерпретация темы через сценический костюм, безусловно, будет интересна тем, кто занимается историей современного театра. В главе о «Генрихе IV» данная хроника толкуется как «историческая пьеса, которой очень не хочется быть исторической пьесой. Она с неохотой изображает героические деяния, битвы и политические интриги, да и вообще часто игнорирует заглавного персонажа, короля. Она весьма вольно трактует исторические факты и свидетельства хронистов. Бражничать в таверне ей интереснее, чем вершить судьбы мира при дворе. Благодаря таким особенностям возникает необычный и притягательный образчик исторического жанра» [Там же. C. 108]. Автор говорит со своим читателем о хронике Шекспира современным языком: «О популярности первой части хроники свидетельствует тот факт, что она, словно современный блокбастер, породила сиквел, пытавшийся повторить успех оригинала. Однако „Часть вторая“ не единственный спин-офф популярной пьесы» [Там же. C. 109], и далее: «История этих сиквелов наглядно свидетельствует, что театр раннего Нового времени уже использовал в качестве маркетингового хода обратную связь со зрителем, чтобы монетизировать успех лучших постановок» [Там же. C. 109-110]. Говоря о триумфе Фальстафа в первой части, Э. Смит напоминает трактовку образа известными литературоведами и критиками разных лет, сама же рас-172 Рецензии / Reviews сматривает его сквозь призму роли Фальстафа в исполнении одного из актеров, полагая, что актерская интерпретация образа позволяет современным читателям и зрителям проникнуть глубже в понимание шекспировского героя. Его тучность, по утверждению Э. Смит, становится метафорой: «словно это громадное тело оказывается слишком велико для отдельно взятого человека и обретает символическую функцию. Он и сам стремится к расширительной, неоднозначной трактовке» [1. C. 114], «Фальстаф являет собою - ни много ни мало - все лучшее в мире. Неудивительно, что он круглый, как глобус, - и это в век, упоенно открывающий для себя шар земной!» [Там же. C. 114-115]. В этом контексте образ предлагается отнести к архетипическим фигурам карнавала, но дальше рассуждения о Фальстафе проводятся в сравнении с мультипликационным персонажем Г омером, и разговор подводится к заключению о высокопарности, самовлюбленности и цинизме шекспировского героя, что и делает его столь обаятельным: «Он откровенно не дотягивает до высокой моральной планки, которую ставит наша культура, и тем самым словно бы выдает индульгенцию нам, зрителям» [Там же. C. 115]. «Повышенное внимание к антигерою Фальстафу нарушает моральный телос притчи о блудном сыне, подменяя его коммерческим ходом, направленным на удовлетворение публики» [Там же. C. 120]. Вопросы чести в связи с натурой Фальстафа выводят автора книги на образ блудного сына. «Библейский мотив подсказывает дальнейшее развитие сюжета: как и в евангельской притче, безрассудный повеса должен взяться за ум. Уже в начале пьесы нам дают понять, что принц Хел намерен стратегически разыграть карту «блудного сына» [Там же. C. 117]. Однако в итоге весь разговор вновь ведется только вокруг Фальстафа, фигура которого, по убеждению автора, «антиисторическое архитектурное излишество», заслонившее собою исторический сюжет. Фальстаф угрожает принципам преемственности, которые обеспечивают исторический прогресс и тем самым тормозит ход истории [Там же. C. 121]. Нестандартно мыслящий ученый предлагает нестандартный взгляд и на трагедии Шекспира. Мы уже упоминали об «Отелло». Не менее дискуссионным является анализ «Ромео и Джульетты» (глава 5) и «Юлия Цезаря» (глава 10). Прежде всего, нам предлагают посмотреть на сюжет «Ромео и Джульетты» как на трагический и комический в качестве альтернативного прочтения (герои остаются живы), но пролог, по мнению Э. Смит, звучит как предупреждение зрителю о том, что финал предопределен, комические элементы вписаны в трагический сюжет. Возможность подобной трактовки исследователю дают издания разных редакций пьесы, опубли-173 Ерофеева Н.Е., Киричук Е.В. Рецензия на книгу Э. Смит «И все это Шекспир» кованных и сохранившихся до наших дней. Более того, историю влюбленных автор книги вписывает в массовое сознание нашего времени, оценивает пьесу в контексте массовой культуры, делая резкий переход от шекспировской эпохи к нашей: «Возможно, нашей культуре такие представления ближе, чем кажется. Посмотрите трейлер к любому фильму, и вам станет предельно ясно, что в нем происходит» [1. C. 72]. Одним словом, «Ромео и Джульетта» представляется как «плод культуры, где оригинальность и неожиданность не пользовались у публики особым спросом» [Там же]. А сам жанр трагедии пропускается сквозь призму эмоционального сценического восприятия действия и, отталкиваясь от Ж. Ануя, объявляется жанром с определённым набором характерных черт (неотвратимость и предопределённость), иллюстрацией которых и стала пьеса Шекспира [Там же. C. 73]. Рассматривая трактовку трагедии «Юлий Цезарь», отметим тягу автора книги к обобщениям, в связи с чем она рассматривает сюжет трагедии в сравнении с «Ричардом II», «Макбетом», много говорит об истории и ее интерпретации в пьесе. Как отмечает сама исследовательница, «наше собственное знание о судьбе Цезаря придает сну любопытное качество - разом и пророческое, и ретроспективное, что вообще характерно для рассуждений о будущем в исторической драме» [Там же. C. 139]. Размышления о судьбах героев вновь подводят Э. Смит к проблеме имени героев, как и в главах, посвященных комедии, и вновь она делает заявление о том, что имена в пьесах Шекспира играют особую роль: «В силу наших исторических познаний каждый персонаж в пьесе становится заложником своего имени...» [Там же. C. 144]. Так, в «Комедия ошибок», по мнению Э. Смит, «нам показан мир, где человек находится во власти высших сил, и роль этих сил мироздания берет на себя сюжет. Появление близнецов с самого начала опрокидывает наши представления о персональной идентичности и ее границах: близнецы одновременно отдельны и неотделимы друг от друга. Визуальный опыт встречи с ними заставляет усомниться в личной уникальности, в том числе нашей собственной» [Там же. C. 47]. Образ капли воды в океане лишь доказывает это: «Антифол не просто неотличим от брата-близнеца, на чем и строится сюжет комедии; речь идет о более глубоком, экзистенциальном переживании. Он неотличим и от всех остальных: не только от ближайшего родственника, на которого так похож, но и вообще от безликой людской массы. Наличие брата-двойника лишь подчеркивает его непримечательность, невыделенность из толпы. Индивидуальные черты совершенно стираются...» [Там же. C. 48]. Углубление в вопросы психологии личности приводит автора книги к заключению о том, что в пьесе «Шекспир словно го-174 Рецензии / Reviews ворит: имя собственное утратило свое предназначение. Оно подчеркнуто не выполняет свою задачу: отличать одного человека от другого. Имя как маркер личной идентичности перестает работать и в сюжете, и в ремарках» [1. C. 49]. Заметки Э. Смит по поводу подбора актера, как правило, одного на роль обоих близнецов, окончательно уводит ее в мир психологических поисков внутреннего и внешнего самовыражения. И здесь уже каждый интерпретатор, считает она, должен сделать свой выбор. Будет ли понят Шекспир в этом случае, остается непроясненным. Обращаясь к классической трагедии У. Шекспира «Г амлет», Э. Смит упоминает известный фильм с Л. Оливье (1948), версию М. Алмерейды с И. Хоуком в роли Г амлета (2000) и малознакомый отечественному зрителю экспериментальный фильм С. Коронадо (1976), в котором образ Гамлета решен в контексте «раздвоения личности». Этот «артхаусный китч», по словам автора, наиболее интересен, поскольку он заставляет перечитать оригинальный текст. При этом Э. Смит предлагает читателю театральную ретроспективу, т.е. выстраивает связь шекспировского текста с предшествующими ему образцами трагедий и драм, которые могли оказать влияние на драматурга. Двойственность Гамлета автор книги обосновывает, исследуя источники формирования образа. Выводом из предпринятого экскурса служит заключение: «Итак, когда Клавдий говорит Гамлету, что затянувшийся траур по отцу противоестествен естеству, он не просто показывает себя циником. Он выражает иное мировоззрение, иное понимание телеологии. Клавдий смотрит вперед, Гамлет - назад» [Там же. C. 154]. В связи с развитием действия в трагедии Э. Смит анализирует реалии исторической действительности эпохи Шекспира - вопросы престолонаследия, религии, театральной традиции. Она также высказывает мнение об отражении умонастроений елизаветинской эпохи в трагедии, но не личных, эмоциональных потрясений ее автора. В свете этих тезисов понятно, что проблема авторства Шекспира мало интересует исследователя, скорее, она предлагает своему читателю погружение в мир Шекспира, чтение и понимание его текстов, а также их современных интерпретаций. Трагедия «Король Лир» представлена именно таким образом - в контексте уже сложившихся ее интерпретаций от романтических -А.В. Шлегеля, С.Т. Кольриджа - к современной, автором которой является литературовед С.Э. Брэдли (свой взгляд он отразил в книге «Шекспировская трагедия»). Попытки осмыслить безжалостность развязки трагической истории короля Лира сводятся к трем вариантам: чрезмерная бессердечность финала, оставленная зрителю надежда, жестокость, обусловленная самой жизнью. Э. Смит напоминает, что пьесу пытались пере-175 Ерофеева Н.Е., Киричук Е.В. Рецензия на книгу Э. Смит «И все это Шекспир» писать, приводя пример версии ирландского поэта и драматурга Нейема Тейта 1681 г., в которой Глостер и Лир оставались в живых. Пьеса была названа «История короля Лира», в финале Корделия выходит замуж за сына Глостера, а Лир произносит умиротворяющий монолог. Но в ХХ в. появляется экзистенциальная версия шекспировского сюжета в книге Я. Котта «Шекспир - наш современник». Мрачная концепция в стиле «В ожидании Годо» С. Беккета демонстрирует абсурдный юмор и гротеск. О какой-либо надежде или нравственном уроке речь не заходит. Король, Шут, Слепец и Безумец превращаются в фигуры колоды Таро и образы фатального опустошения, пустой Вселенной. Я. Котт считает трагедию вариантом пьесы для антитеатра Ионеско и Беккета. Проблема жестокости, казалось бы, подвигнет Э. Смит к ожидаемой и актуальной для искусства ХХ в. интерпретации в русле концепции театра жестокости А. Арто, но этого сравнения не проводится. Напротив, Э. Смит осуществляет анализ переработки текста трагедии самим автором, что объясняется риторическим вопросом к читателю в конце главы: «История этих поисков есть история ответов на вопрос: чего мы ждем от трагического искусства -утешения, эмоционального подъема, беспощадного анализа?» [1. C. 212]. Анализ трагедии «Макбет» автор книги начинает со сравнения трактата Р. Бертона «Анатомия меланхолии» 1621 г. и пьесы Шекспира, которые, по мнению Э. Смит, ставят общие вопросы о природе вещей и причинно-следственной связи явлений. Именно поэтому легендарный эпизод с пророчеством трех ведьм, который обычно принято трактовать в мистическом ключе, Э. Смит рассматривает как театральный прием, позволяющий протагонисту «режиссировать» свою драму. Знаменитый монолог Макбета, слова из которого процитировал У. Фолкнер в названии своего романа «Шум и ярость», трактуется как отражение размышлений актера над метафорой Theatrum mundi - «Весь мир - театр» и демонстрирует зрителю другого Макбета - актера, сидящего на подмостках театра «Глобус» и мучительно отбывающего свою роль в спектакле. По словам Э. Смит, возможно, и «Макбет» нам интересен до настоящего времени потому, что не дает ответов, а лишь ставит вопросы. В главах 12 и 13 предложен анализ двух комедий У. Шекспира -«Двенадцатая ночь» и «Мера за меру». Эти произведения Э. Смит анализирует подробно, выявляя функции персонажей, смысловой контекст их интерпретации, привлекая современные структуралистские и психоаналитические учения. Так, по убеждению Э. Смит, в «Двенадцатой ночи» второстепенный персонаж Антонио, казалось бы, избыточный, спасающий Себастьяна, бросает обвинение в предательстве ничего не подозревающей, переодетой в мужчину Виоле, вносит в комическое действо го-176 Рецензии / Reviews моэротический ландшафт. Это не единственная его функция - Э. Смит цитирует Н. Фрая, который утверждает необходимость присутствия трагического героя, ускользающего в финале действия, но воплощающего смысл трагического. Антонио не нужен в счастливой, «брачной» развязке комедии, он просто исчезает. Э. Смит сравнивает его с образом шута из «Короля Лира», который также утрачивает в развязке трагедии свою функциональность. «Мера за меру» также рассматривается как комедия с начатками трагического сюжета. Автор книги отвергает сложившееся мнение, что это не самая удачная комедия Шекспира, повторяющая коллизии из «Двенадцатой ночи», «Сна в летнюю ночь», «Комедии ошибок» и др. Со свойственной своему стилю иронией Э. Смит замечает, что эта комедия имеет, скорее, трагический смысл. Умиротворяющая развязка похожа на счастливый финал «Двенадцатой ночи», но браки, заключенные в этой пьесе, вовсе не являются результатом преодоления препятствий на пути влюбленных, а похожи на «браки поневоле»: «Шекспир словно бы спрашивает нас: ну что, хотите комедию? Сильно хотите? Как далеко вы готовы зайти, чтобы ее получить?» [1. C. 186]. Следующие главы посвящены «римским трагедиям» У. Шекспира «Антоний и Клеопатра» и «Кориолан», которые объединяются с трагедией «Юлий Цезарь». Если первая трагедия вызывает у автора книги ироническое сравнение с историей персонажей глянцевого журнала, то вторая оценена как глубоко безысходная, не оставляющая надежды на иную развязку - гибель Кориолана неизбежна. Трагедия гибели Антония и Клеопатры интерпретирована Э. Смит в рамках концепции, изложенной в книге Р. Бенедикт «Хризантема и меч» 1946 г., посвященной японской культуре, антропологическое изучение которой оказалось необходимым после Второй мировой войны. Называя эту книгу спорной, Э. Смит все же переносит определения «культуры стыда» и «культуры греха (вины)» на характеристику смысловой содержательности протагонистов, их трагедийной функции. Самые загадочные пьесы «Зимняя сказка» и «Буря» представлены как поздние творения У. Шекспира в последних главах книги. Жанровый анализ этих пьес позволяет автору сделать вывод об экспериментах драматурга «на стыке» комедии и трагедии. Э. Смит сравнивает основную идею, на которой строится действие в этих драмах, - грехи отцов могут исправить лишь их дети. В «Зимней сказке» эта задача решается с помощью мимесиса - показа, а в «Буре» - с помощью диегезиса - рассказа. Маг Просперо вспоминает о прошлом, когда ему пришлось бежать от своих врагов на далекий остров, а в первых трех частях «Зимней сказки» 177 Ерофеева Н.Е., Киричук Е.В. Рецензия на книгу Э. Смит «И все это Шекспир» зритель становится свидетелем совершившейся трагической ошибки Леонта, в результате которой он лишается дочери и жены. Вторая часть этих историй завершается, по мнению исследовательницы, счастливой развязкой, которая свойственна жанру комедии. Э. Смит предлагает читателю версию творческой мастерской Шекспира, в которой счастливый финал исключал возможность инцеста между Леонтом и его повзрослевшей дочерью, а для Просперо - возможность стать злобным манипулятором, играющим судьбами дочери и других героев пьесы. В романе Д. Фа-улза «Волхв» (в подлиннике «Magus»), где звучат реминисценции к «Буре», главный герой принимает именно такое обличье, как бы отвергая возможность счастливой развязки, и она действительно не наступает. Но автор книги предлагает читателю сравнение с циклами романов Д. Роулинг о Гарри Поттере и сагой-фэнтези Д.Р.Р. Толкиена «Властелин колец» как образцами литературы о конфликте между злой и доброй магией. Думается, «Буря» - это драма, которая затрагивает, скорее, не вопросы магии, а гротескную эстетику (уродство и красота), возмездие и прощение, вопрос Иова, и, как справедливо замечает автор книги, «...ближайший родич „Бури“ - демонический „Доктор Фауст“ (1589) блестящего елизаветинца Кристофера Марло» [1. C. 272]. В Эпилоге автор книги замечает, что сам Шекспир гораздо шире любой возможной интерпретации его творений, и выражает надежду на то, что его творчество всегда будет доставлять радость читателю. Мы же в заключении рецензии отметим, что книга Э. Смит «И все это Шекспир» является современным, ярким исследованием, сочетающим подход филолога-шекспироведа с современными концепциями восприятия классического наследия прошлого. Книга отражает творческую индивидуальность ученого, написавшего одновременно научно-популярное и оригинальное исследование, в котором просто говорится о сложном, выражается авторское понимание предмета и читателям предлагается нестандартно мыслить, когда речь идет о произведениях великого английского драматурга. Вклад авторов: все авторы сделали эквивалентный вклад в подготовку публикации. Авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов.
Скачать электронную версию публикации
Загружен, раз: 25
Ключевые слова
трагедия, комедия, Уильям Шекспир, театр, интерпретация, английская литератураАвторы
| ФИО | Организация | Дополнительно | |
| Ерофеева Наталья Евгеньевна | Российский государственный гидрометеорологический университет | доктор филологических наук, профессор кафедры русского языка и литературы | natali-erof@yandex.ru |
| Киричук Елена Владиленовна | Омский государственный университет им. Ф.М. Достоевского | доктор филологических наук, профессор кафедры русской и зарубежной литературы | kirichuk@bk.ru |
Ссылки
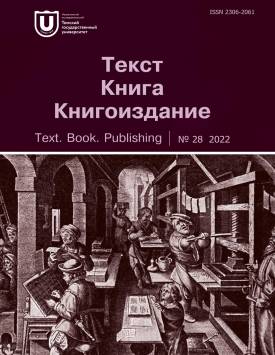
Рецензия на книгу Э. Смит «И все это Шекспир» (Смит Э. И все это Шекспир. Самая эротичная комедия, самая драматичная трагедия, сгорающие от стыда мужчины, картонные злодеи, феминистки, звезды шоу-бизнеса и многое другое / Эмма Смит; пер. с англ. М. Сухотиной; науч. ред. Д. Иванов, В. Макаров. М.: Ма | Текст. Книга. Книгоиздание. 2022. № 28. DOI: 10.17223/23062061/28/11
Скачать полнотекстовую версию
Загружен, раз: 318

 Вы можете добавить статью
Вы можете добавить статью