«Восточные» наброски М.Ю. Лермонтова из «Записной книжки, подаренной В.Ф. Одоевским»: история текста и смысловая архитектоника
Цель и задачи исследования определяются реконструкцией аутентичного текста карандашных набросков из «Записной книжки, подаренной В. Ф. Одоевским» (1841). Установлено, что во всех изданиях набросков имеются расхождения с автографами, в ряде случаев издательские исправления оправданы, так как связаны с приведением текста к языковой норме, отклонения от которой Лермонтов допускал в связи с черновым характером текстов. Выявлены некорректные издательские исправления. Предложена реконструкция аутентичного текста набросков как единого замысла. Авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов.
Oriental sketches by Mikhail Lermontov from the Notebook Presented by Vladimir Odoyevsky: The .pdf «Записная книжка, подаренная В.Ф. Одоевским» (1841) - уникальный памятник культуры, тетрадь, в которой Лермонтов работал в последние месяцы своей жизни на пути из Петербурга к месту своего военного назначения на Кавказе. Уже перед первым беловым автографом «Записной книжки...» - стихотворением «Спор» (стихотворение представляет собой диалог кавказских гор Эльбруса и Казбека, связанный с размышлением о цивилизационном потенциале северных и восточных цивилизаций) Лермонтов сделал помету заголовочного характера «Восток» [1. Л. 5 - оборот от начала тетради], однако несмотря на то, что о текстах «Записной книжки.» можно говорить как о цикле «Восток», этнографически значимых текстов всего несколько - это стихотворения «Спор», «Тамара», «Свиданье», а также два фрагмента с явно выраженным восточным колоритом, условно называемых (по первым стихам) -«Лилейной рукой поправляя.» и «На бурке, под тенью чинары.». В последних этнографический элемент звучит наиболее выраженно, однако несмотря на это, тексты не привлекали внимание исследователей, предметом интереса которых был именно «кавказский текст» Лермонтова. Достаточно лаконично о них говорится в словарных статьях «Лермонтовской энциклопедии» [2. C. 212, 417-421, 564-565] и нового юбилейного издания - «М.Ю. Лермонтов. Энциклопедический словарь» [3. С. 208-214, 375-378]. Тексты не рассматриваются в программных статьях об ориентальных текстах Лермонтова Г.В. Москвина [4], Л.А. Хода-нен [5], И. С. Юхновой [6], в специальной статье, посвященной кавказской лексике Лермонтова, Ф.И. Джаубаева касается лишь наброска «На бурке, под тенью чинары.», по поводу которого пишет, что «экзотизм слова “бурка” оттеняется такими словами, как “чинара”, “татары”, именем собственным “Ахмет Ибрагим”, которые придают определенную тональность» [7. С. 118]. При этом оба наброска привлекательны ярко проявившимся в них этнографическим мастерством, воссозданием 7 Киселева И.А., Поташова К.А. «Восточные» наброски М.Ю. Лермонтова местного кавказского колорита путем включения в текст глубинной тюркской лексики и воссозданием горской ментальности. О своей увлеченности восточным словоупотреблением Лермонтов сообщал еще в 1837 г. в письме к С. А. Раевскому из Тифлиса: «Начал учиться по-татарски, язык, который здесь, и вообще в Азии, необходим, как французский в Европе, - да, жаль, теперь не доучусь, а впоследствии могло бы пригодиться» [8. Т. VI. С. 441]. Эта запись, «выдающая нам человека, хорошо знакомого со словоупотреблениями, характерными для речи кавказского населения» [9. С. 269], дает основания внимательнее относиться к выбору им восточной лексики, подчеркивает необходимость «реконструировать наиболее соответствующий авторскому смысл художественного высказывания, его культурный контекст» [10. С. 398]. Обладая тонким восприятием звуковой наполненности языка, поэт вслушивается в кавказскую речь, включает ее описание в свои этнографические наблюдения, в стихотворении «Валерик» (1840) поэт говорит о «татарах» (кавказцах): Люблю я цвет их желтых лиц, Подобный цвету наговиц, Их шапки, рукава худые, Их темный и лукавый взор И их гортанный разговор [8. Т. II. С. 168]. В 1841 г. Лермонтов создает очерк «Кавказец», герой которого знает восточный быт и нравы и «легонько маракует по-татарски» [8. Т. VI. С. 348]. В стихотворение «Спор», также 1841 г., поэт включает кавказский вариант именования горы Эльбрус - Шат-гора. Целью настоящего исследования является уточнение особенностей творческого метода Лермонтова в ориентальных текстах и реконструкция рекомендуемого для публикации аутентичного варианта набросков, который позволяет более точно представить мастерство Лермонтова-этнопсихолога. Уже после первых публикаций набросков развернулись дискуссии о ценности набросков и необходимости их издания. Если А. А. Краевский по отношению к фрагментам указывает на навеянное ими «неизъяснимо-грустное чувство, как будто еще жив поэт, как будто еще видишь перед собою вчерне работу его и ждешь ее окончания, как бывало в иное время» [11. С. 200], то А.В. Дружинин высказывал сомнения в необходимости их издания, аргументируя тем, что «русская литература ровно ничего бы не потеряла, если б друзья Лермонтова не печатали его стихотворений в таком роде» [12. С. 221]. Если набросок «На бурке под тенью чинары...» публиковался единообразно и близко к автографу (не считая расстановки знаков препинания в 8 Проблемы текста: теоретические и прикладные аспекты / Problems of text: theory and practice их соответствии правилам современной пунктуации), то при публикации наброска «Лилейной рукой поправляя...» издатели (или редакторы), начиная с А.А. Краевского [11. С. 200], более свободно обращались с аутентичным текстом [11. С. 200]. В научной литературе вопрос о необходимости вмешательства в авторскую пунктуацию при публикации набросков поднимался эпизодично, здесь стоит отметить лишь статью в журнале «Восток», в которой анонимный исследователь, скрытый за инициалами Н.Л. (возможно, тюрколог Н.К. Дмитриев, в инициалах допущена опечатка), пишет, что «по запятой после “Кангар” можно догадываться, не думал ли Висковатов, что это собственное имя» [13. С. 182]. В рамках сложившихся аспектов анализа лермонтовского отрывка «Лилейной рукой поправляя.» не проясненным остается и текстологический вопрос о сделанной поэтом мене частей внутри четверостишия - на эту мену лишь указывали («цифрами обозначил мену двустиший» [14. С. 2013]), но не комментировали ее. Не был выявлен смысл графического выделения в автографе (прописной буквой) слов «туксус» и «ага», не интерпретировалась мена именования персонажа в наброске «На бурке под тенью чинары.», не рассматривалась его содержательная наполненность. Набросок «Лилейной рукой поправляя.» написан карандашом на листе 3 с оборота тетради, исправлений по тексту не содержит. Работа Лермонтова с черновым текстом проявилась в изменении структуры наброска. В рукописи содержатся графические символы: в начале текста изогнутая линия длиной около 3 см, в начале первого и третьего стиха в наличии короткие отчеркивания. В начале первого и третьего стихов поставлены арабские цифры - соответственно 2 и 1, обозначающие мену стихов местами. Дипломатическая транскрипция наброска представлена на рис. 1. 2--■ “ Краснеѣть какъ дѣва младая Капгаръ молодой Туксусь Лилейной рукой поправляя едва пробившийся усъ. Рис. 1. Дипломатическая транскрипция наброска М.Ю. Лермонтова «Лилейной рукой поправляя.» [1. Л. 3 от конца тетради] Набросок «На бурке под тенью чинары.» написан карандашом на листе 3 - оборот с конца тетради, содержит незначительную правку. Пер-9 Киселева И.А., Поташова К.А. «Восточные» наброски М.Ю. Лермонтова вая и вторая строфы пронумерованы арабскими цифрами, затем стоит цифра «3», но далее текст отсутствует. Рукой Лермонтова внесены два исправления. Первое касается именования героя: во втором стихе лексема «Ага» заменена на лексему «Ахмет» (написано поверх), буква «И» в начале второй части имени («Ибрагим»), возможно, что написана с сильным нажимом поверх другой буквы (стерто, расшифровке не поддается). Дипломатическая транскрипция наброска представлена на рис. 2. L Ня буркѣ подъ тѣнью чинары Стояли безмолвно ^татары И руки скрестивши предъ ив>п. Стояли молча предъ нимъ. 2, ~ И брови нахмуривъ густые Лѣниво мрлвгшъ Ага: О слуги мои удалые Мнѣ ваша жизнь дорога! 3. Рис. 2. Дипломатическая транскрипция наброска М.Ю. Лермонтова «На бурке под тенью чинары...» [1. Л. 3 - об. от конца тетради] Наброски из «Записной книжки, подаренной В.Ф. Одоевским» были впервые опубликованы А.А. Краевским в журнале «Отечественные записки» за 1844 г. [1. С. 200]. Публикация фрагментов сопровождалась комментарием издателя: «В книге есть еще какой-то отрывок, написанный карандашом . Рядом с этой страницей есть еще куплет, но карандаш так стерся, что из четырех стихов можно разобрать только.» [1. С. 200]. Далее А.А. Краевский приводит лермонтовское четверостишие, начинающееся со слов «Лилейной рукой поправляя.»: Лилейной рукой поправляя Едва пробившийся ус, Краснеет, как дева младая, Кангар, молодой. [1. С. 200]. С допущенными А.А. Краевским неточностями в публикации («кангар» вместо «капгар», многоточие вместо «туксус»), а также простав- 10 Проблемы текста: теоретические и прикладные аспекты / Problems of text: theory and practice ленными пунктуационными знаками настоящий фрагмент был перепечатан трижды - в 1844 г. [15. Т. IV. С. 191], в 1847 г. - с пометой «Из записной книги недоконченные стихотворения» [16. Т. I. С. 284], в 1856 г. [17. Т. I. С. 282]. Во второй половине XIX в. наметилось два подхода к публикации набросков Лермонтова. Первый связан с исключением набросков из основного корпуса текстов и расположением их в блоке с комментариями (таковым является издание произведений поэта С.С. Дудышкиным в 1860 и 1863 гг. [18], второй - с помещением отрывка в основной корпус произведений (как то было сделано А.И. Введенским в издании 1891 г. [19]) с учетом проделанной П.А. Ефремовым в 1873 г. выверкой рукописи Лермонтова [20]. И, наконец, в академических изданиях XX в. упрочилась заложенная в собрании сочинений Лермонтова под редакцией Д.И. Абрамовича традиция включения фрагментов в раздел «Отрывки и наброски» [21]. Уже начиная с первой публикации наброска «Лилейной рукой поправляя...», авторская графика и не соблюдалась: слово «Туксус» (отсутствующее в первом издании) писалось со строчной буквы, тогда как в автографе стоит прописная буква. Изменения затрагивали пунктуацию и грамматику. В издании под редакцией Б.М. Эйхенбаума при воспроизведении лермонтовского текста допущена ошибка: вместо глагола «краснеет» зафиксировано деепричастие «краснея» [22. Т. II. С. 128], таким образом, рядом оказываются два однородных деепричастных оборота. В данном случае выраженное глаголом сказуемое отсутствует, таким образом, предложение утрачивает грамматическую завершенность. После первого деепричастного оборота редактор добавляет отсутствующую у Лермонтова запятую, при этом второй оборот не обособляет. Результатом неточной редакторской работы стали неясность смысла и неверное грамматическое строение фразы: Лилейной рукой поправляя Едва пробившийся ус, Краснея как дева младая Капгар молодой туксус [22. Т. II. С. 128]. В последующих изданиях - под редакцией Н.Ф. Бельчикова [8] и В.А. Мануйлова [23] - авторская пунктуация по-прежнему не соблюдалась, но были исправлены допущенные в издании под редакцией Б. М. Эйхенбаума грамматические неточности: употребленный Лермонтовым глагол «краснеет» воспроизведен верно, расставленные пунктуационные знаки позволяют прочитать лермонтовское четверостишие как 11 Киселева И.А., Поташова К.А. «Восточные» наброски М.Ю. Лермонтова грамматически выверенную и завершенную по смыслу фразу [8. Т. II. С. 199; 23. Т. II. С. 479]. В собрании сочинений 1954-1957 гг. относительно автографа поставлены две новые запятые: первая обособляет деепричастный оборот (как было и в предшествующем академическом издании), вторая обособляет, по логике редакторов, приложение, в функции которого выступает словосочетание прилагательного и существительного («молодой туксус»): Лилейной рукой поправляя Едва пробившийся ус, Краснеет как дева младая Капгар, молодой туксус [8. Т. II. С. 199]. В академическом издании 1979-1981 гг. появляется еще одно редакторское обособление - запятыми выделяется сравнительный оборот «как дева младая»: Лилейной рукой поправляя Едва пробившийся ус, Краснеет, как дева младая, Капгар, молодой туксус [23. Т. II. С. 479]. По отношению к автографу в наброске «На бурке под тенью чинары ...» изменений при публикации значительно меньше. Редакторы допускают лишь вполне обоснованное правилами пунктуацию выделение (в автографе отсутствует) деепричастного оборота («брови нахмурив густые» [8. Т. II. С. 200; 22. Т. II. С. 129] «И брови нахмурив густые» [23. Т. II. С. 480]) и обращения («О слуги мои удалые») во второй строфе. В новом юбилейном четырехтомном издании 2014 г. текст набросков воспроизведен без изменений относительно издания 1979-1981 гг., отличия связаны лишь с объединением набросков и определением их места относительно друг друга. На единство замысла набросков «На бурке под тенью чинары.» и «Лилейной рукой поправляя.» первым обратил внимание еще А. Смирдин, поместив в «Сочинениях Лермонтова» (1847) «Лилейной рукой поправляя.» в продолжение отрывка «На бурке под тенью чинары.» [16. Т. I. С. 284]. На общность набросков, написанных одним редким для русской поэзии стихотворным размером - трехиктным дольником, указывал и М.А. Пейсахович [24. С. 446], сходство «содержания, размера, рифмовки» было отмечено Э.Э. Найди-чем [25. С. 624]. Этой позиции придерживается и А. С. Бодрова [14], основываясь на анализе расположения набросков. По ее мнению, Лермонтов, работая в черновой части тетради обдуманные четверостишия 12 Проблемы текста: теоретические и прикладные аспекты / Problems of text: theory and practice помещал с правой стороны, тогда как левую сторону использовал для размышлений. В этой связи в новом академическом собрании сочинений поэта, подготовленном в 2014 г. под общей редакцией И. С. Чистовой [26], наброски приводятся уже как реконструкция единого замысла стихотворения при соблюдении графики и пунктуации издания 19791981 гг. [23]. Реконструированный (с соблюдением правил современной орфографии и пунктуации, но с возможностью сохранения авторских акцентов) и рекомендуемый для публикации набросок выглядит таким образом: 1 На бурке под тенью чинары Лежал Ахмет Ибрагим, И руки скрестивши, татары Стояли молча пред ним. 2 И брови нахмурив густые, Лениво молвил Ага: О слуги мои удалые, Мне ваша жизнь дорога! 3 Лилейной рукой поправляя Едва пробившийся ус, Краснеет как дева младая Капгар, молодой Туксус. Набросок «На бурке под тенью чинары.» состоит из восьми стихов, в центре которых образ Ахмета Ибрагима, который в шестом стихе называется «Ага» («обращение к мужчинам, несколько старше по возрасту, статусу» [27. С. 10], однако имя Ахмет появляется лишь после правки на месте личного именования героя по его статусу. Заменяя лексему, обозначающую социальный статус («Ага»), на лексему, обозначающую имя собственное («Ахмет Ибрагим») [1. Л. 3 - об. от конца тетради], Лермонтов акцентирует в герое личностное начало. Типизирующий элемент - именование героя через его социальный статус возникает в шестом стихе («Ага»), появление лексемы «ага» в котором, вероятно, и вызвало правку второго стиха. Учитывая, что имя является важнейшим элементом создания образа-персонажа, можно сделать вывод, что поэт акцентирует личностное начало в герое, типизируя его при этом, - это отвечает особенностям реалистического метода, сложившимся в лер-13 Киселева И.А., Поташова К.А. «Восточные» наброски М.Ю. Лермонтова монтовском творчестве при изображении Востока, когда тип героя возникает «из суверенных характеров его представителей» [4]. Называние героя не только по имени, которое, как отмечает О.Н. Верещагина, «является частью лингвокультуры Кавказа» [28. С. 483], а титулом вкупе с изображением героя, возлежащего «под тенью чинары» («На бурке под тенью чинары...»), точно передает быт и нравы горцев, отражает «жизнь человека в ее повседневности» [29. С. 256] и в ее миросозерцательных основах. В отрывке «Лилейной рукой поправляя.» поэт использует два тюркизма: «Капгар, молодой Туксус» [1. Л. 3 от конца тетради]. Существительное «Капгар», семантически дополненное приложением - «молодой Туксус», можно рассмотреть как субстантивное словосочетание, логическое подлежащее - нет сомнения, что именно об этом лице говорится в предложении, в то же время не вполне прояснены грамматические отношения внутри этой группы. Если с эпитетом «молодой» все ясно, то логические отношения между двумя тюркизмами («капгар», «туксус») понять сложнее. Г рамматически в этом словосочетании должен быть один номинатив, который является определяемым словом, тогда как другой может являться приложением. Определить и разграничить грамматическую роль каждого из этих тюркизмов возможно с помощью выявления их семантики. И «капгар», и «туксус» адаптированы Лермонтовым к орфоэпической норме и словообразовательной модели русского языка, в связи с чем при первой публикации отрывка не были расшифрованы («капгаръ» напечатано ошибочно как «кангаръ», слово «туксусъ» не приведено вовсе). А.И. Введенский при публикации набросков приводит мнение B. Д. Смирнова, считавшего, что «печатавшиеся ранее слова кангар и туксус не имеют смысла, и Лермонтов, вероятно, написал: «капгар» (кап-кара - очень черный) и «тупдус» (туп-дус - очень гладкий)» [19. Т. IV. С. 301]. Если близкие слову «капгар» лексемы связаны с обозначением цвета волос и слово можно перевести как черноволосый, брюнет, то «туксус» «означает безусый» [30. С. 133]. Отсутствие бороды является не столько портретной характеристикой, сколько подчеркивает связанный в возрастом статус этого человека в обществе, что с этнографической точностью было подмечено А. А. Бестужевым в повести «Мулла Нур» (1836): «Тюксюсы, или безбородые, отроки или юноши от десяти до семнадцати лет, бродили поодаль, не имея права мешаться не только в важные дела, но даже просто в разговоры со старшими» [31. C. 17]. И «капгар», и «туксус» начинаются в рукописи Лермонтова с прописной буквы. В первом случае прописная буква, с одной стороны, 14 Проблемы текста: теоретические и прикладные аспекты / Problems of text: theory and practice обусловлена началом нового стиха, с другой - акцентирует действующее лицо (Лермонтов не всегда в черновых автографах начинает стих с прописной буквы). Объект повествования, т.е. написание «капгара» с прописной буквы подобно написанию имени собственного. Вторая прописная буква в строке (при написании «туксуса») также связана с называнием конкретного объекта действия, она аналогична прописной букве при актуализации личностного аспекта. Обозначая действующее лицо, поэту важно подчеркнуть не цвет волос юноши, а именно его социальное положение, чем и обусловлено появление здесь второй прописной буквы (по аналогии с «Ага» в предшествующем наброске). Грамматическим подлежащим является «капгар», «туксус» же выступает словом, подчиненным номинативу «капгар» и вместе с прилагательным «молодой» дополняет его портретную характеристику (юный, безбородый), образуя цельное сочетание, которое, находясь в постпозиции по отношению к определяемому слову, обособляется графически. Необходимость этого обособления подчеркнута и интонационно - интонации всего наброска присущ ритмический параллелизм, фразовое ударение в каждом стихе падает на первое слово и не только определяет эмоциональную окраску всего поэтического фрагмента, но и его смысловую наполненность. При изображении восточного мира поэт точно подмечает важность обозначения для кавказского менталитета социального статуса человека. Таким образом, наброски демонстрируют стремление поэта «к этнографической точности» [32. С. 322] при изображении реалий кавказской жизни, понимание им кавказской жизни в такой степени, когда, как указывают И.С. Юхнова и М.П. Леонова, «не только слово входит в кругозор и лексикон человека, а формируется представление о семио-сфере чужого культурного пространства» [33. С. 46]. При работе над текстом Лермонтов усиливает его психологическую насыщенность. Мена касается коллективного портрета окруживших Ахмета Ибрагима «татар» [1. Л. 3 от конца тетради]. От первоначальной характеристики «безмолвно» поэт отказывается и переносит ее в измененном виде («молча») в четвертый стих, в этой же строке акцентирует внимание на жесте - «руки скрестивши». И хотя оба обозначения («безмолвно» и «руки скрестивши») несут единый смысл отчуждения, но мена усиливает психологическую выразительность ситуации - жест психологически более информативен, при его помощи поэт изображает внимающих Ахмету Ибрагиму татар в состоянии высокой степени отчужденности, скепсиса, опасения. Возможно, что именно это недоверие пытается преодолеть герой, когда обращается к ним («О слуги мои уда-15 Киселева И.А., Поташова К.А. «Восточные» наброски М.Ю. Лермонтова лыя») с выражением заботы: «Мне ваша жизнь дорога!» [1. Л. 3 от конца тетради]. Лермонтов, «хорошо зная психологию и обычаи горцев» [34. С. 58], в нескольких стихах при помощи жестов («руки скрестивши»), мимики («брови нахмурив»), манеры речи («лениво молвил») создает психологически и этнографически точную зарисовку кавказской жизни. Психологическая напряженность наброска создается и при помощи излюбленного Лермонтовым приема антитезы - противопоставления расположения Ахмета Ибрагима к своим воинам и их недоверия - реалистическая линия при изображении Востока органична романтической эстетике. Антитезой по отношению к стихам «На бурке под тенью чинары ...» выступают стихи, начинающиеся со слов «Лилейной рукой поправляя...». Если в одном наброске перед нами зрелость, мудрость и недоверие, то во втором - юность, пылкость, искренность. Нежность лилейной руки и «чуть пробившейся ус», неконтролируемая психосоматика («краснеет как дева младая») противопоставляются закрытости («и руки скрестивши»), физической зрелости («брови густые»), уверенности в себе («лениво молвил»). Антитетичность присутствует и при изображении туксуса, лилейная рука которого оттеняет черноту его волос и смягчает образ. Тюркизм «капгар» выполняет ту же функцию - указывает на примету восточного юноши, отдаляя на скрытый план портретную характеристику романтического героя с черными кудрями, тогда как на первый план выводится психологическая характеристика. Набросок «Лилейной рукой поправляя.» в синтаксическом отношении представляет собой многокомпонентную конструкцию, простое предложение с глаголом-сказуемым и объектом-подлежащим, осложненное деепричастным оборотом, сравнительным оборотом и приложением. Если подлежащим оказывается тюркизм «туксус», то в роли сказуемого выступает глагол «краснеть» («краснеет как дева младая»), являющийся в русской языковой картине мира основным средством выражения физиологического изменения человека в состоянии смущения. Объектом описания в лермонтовском четверостишии стало внешнее, физиологическое проявление «туксусом» стыда. Лингвокогнитивную модель этой ситуации составляет описание самого внешнего проявления смущения, вербальное выражение которого заключается в семантике глагола «краснеет» и сравнительном обороте «как дева младая», а также описание мимики, сопутствующей смущению, - «поправляя... ус», причины описанной ситуации и собственно внутреннее состояние героя оказываются за кадром. Мимическая реакция изображена не в основной части высказывания, а в дополнительной - в деепричастном обороте. Первоначальный вариант четверостишия открывался ос-16 Проблемы текста: теоретические и прикладные аспекты / Problems of text: theory and practice новной частью, в которой зафиксирована сама ситуация смущения («Краснеет как дева младая // Капгар молодой Туксус» [1. Л. 3 от конца тетради]), за которой следовала вторая часть, содержащая добавочное значение («Лилейной рукой поправляя // Едва пробившийся ус» [1. Л. 3 от конца тетради]). Затем, нумеруя двустишия, Лермонтов переносит деепричастный оборот из постпозиции в препозицию, при этом сама синтаксическая функция второй части и основная ее семантика при перестановке не изменяются, но меняется тема-рематическое членение высказывания, переносятся поставленные ранее интонационные, логические акценты. Сравнение двух вариантов наброска - до и после перестановки деепричастного оборота - показывает различную функциональную нагрузку, разную смысловую насыщенность высказывания в отношении экспрессивности. Первоначально находясь в постпозиции, деепричастный оборот «Лилейной рукой поправляя // Едва пробившийся ус» [1. Л. 3 от конца тетради], не выделенный в рукописи Лермонтова графически (что допускается для постпозиции), входил в группу основной ремы как составной элемент, характеризовал дополнительное действие подлежащего (первоначально деепричастный оборот непосредственно примыкал к подлежащему «Капгар»). Рассматривая тема-рематическое членение высказывания при прямом и обратном порядке слов, Е.В. Падучева указывает на наличие в «собственно реме», т. е. синтаксической группе, на которую приходится логическое ударение, акцентоносителя - слова, «на которое падает фразовый акцент» [35. С. 475]. В случае первоначального нахождения деепричастия в постпозиции акцентоносителем в наброске выступает само слово «Капгар», т.е. объект действия, поэт концентрирует внимание именно на портрете. В деепричастном обороте в этом случае содержится значение пояснения (в чем проявляется это смущение) и наложенное на него дополнительное значение - сопутствующее действие объекта, следующая за смущением мимическая реакция. При перенесении деепричастного оборота из постпозиции в препозицию во втором варианте набросок открывается деепричастным оборотом, меняется акцентоноситель, теперь фразовый акцент падает на глагол-сказуемое «краснеет», семантика которого может быть связана не буквально с физическим покраснением лица, а быть близка к значению глагола «смутиться» - почувствовать себя неловко. При перестановке деепричастного оборота указывается уже не на дополнительность, а на одновременность внутреннего переживания, выраженного глаголом, и внешнего действия, заключенного в деепричастном обороте. Мимическая реакция теперь будто предшествует самому действию и указывает 17 Киселева И.А., Поташова К.А. «Восточные» наброски М.Ю. Лермонтова на признак ситуации стыда, визуально выдает смущение. Такая перестановка актуализирует семантику сравнения - деепричастный оборот открывается словосочетанием «лилейной рукой», в котором белый цвет (лилейный) подчеркивает юность и чистоту «Капгара», акцент тем более усиливается тем, что синонимичной конструкцией к деепричастному обороту выступает сравнение - «как дева младая» - с той же семантикой невинности. Здесь же следует пояснить, что данное сравнение, несущее оттенок устойчивого сочетания (о робком человеке), лексически связано с глаголом-сказуемым «краснеет», выполняет функцию конкретизации, что обусловливает факультативность его обособления (Лермонтов не выделяет графически этот оборот, запятые были проставлены при первой публикации отрывка и присутствуют во всех последующих публикациях). Перенос акцента с объекта изображения на само психологическое состояние несколько размывает глагольный признак активного действия в сторону значение нединамического, пассивного состояния. Отсутствие необходимого графического знака обособления деепричастного оборота, находящегося в препозиции, связано с самим путем перестановки частей местами, когда части не переписывались, а нумеровались поэтом. Оба отрывка являют собой пример косвенного психологизма, когда внутренний мир персонажей передается через описание внешних проявлений эмоций: жесты, манера речи, психосоматика. Соблюдение авторской пунктуации при публичном воспроизведении текста позволяет уловить тонкое мастерство Лермонтова-этнопсихолога. Несмотря на то, что рассмотренные наброски не стали основой законченного произведения, они заслуживают внимания по целому ряду обстоятельств. Во-первых, как вышедшие из-под пера (карандаша) великого поэта, во-вторых, как тексты, ярко характеризующие художественный метод Лермонтова в аспекте изображения им кавказского мира, в-третьих, как свидетельство интереса поэта к восточной культуре. Лермонтовское наследие отличается поэтическим изображением нравов, обычаев и культуры кавказцев, этнографической и психологической точностью. В «восточных» набросках Лермонтова «Лилейной рукой поправляя...» и «На бурке под тенью чинары...» не содержится собственно описания увиденных кавказских ландшафтов или бытовых деталей, однако созданные в них образы позволяют сделать выводы о глубоком знании поэтом кавказской ментальности. Интерес поэта к Востоку до сих пор целостно не осмыслен современной наукой, понимание Лермонтовым восточной культуры «по сей день остается для нас запечатанной тайной» [36. С. 243], хотя отдельные ее аспекты и получили освещение. 18 Проблемы текста: теоретические и прикладные аспекты / Problems of text: theory and practice Обращение к автографам, внимание к авторской пунктуации и графике, мене слов и синтаксических конструкций дает возможность проникнуть в секреты художественного мастерства Лермонтова, уточнить особенности лермонтовского этнопсихологизма, специфику синтеза романтизма с его идеей героической личности и реализма как ведущего метода в лермонтовском «восточном» тексте, в котором типическое, национальное и индивидуальное гармонизируются в живой цельности художественного образа.
Ключевые слова
М.Ю. Лермонтов,
«Записная книжка, подаренная В.Ф. Одоевским»,
текстология,
«восточный» текст,
этнография,
психологизмАвторы
| Киселева Ирина Александровна | Московский государственный областной университет | доктор филологических наук, профессор, заведующая кафедрой русской классической литературы | 79099227849@yandex.ru |
| Поташова Ксения Алексеевна | Московский государственный областной университет | кандидат филологических наук, доцент, доцент кафедры русской классической литературы | kseniaslovo@yandex.ru |
Всего: 2
Ссылки
ОР РНБ. Ф. 429. № 12. 27 л. Записная книжка, подаренная В.Ф. Одоевским. 1841 г.
Лермонтовская энциклопедия / гл. ред. В.А. Мануйлов. М. : Сов. энциклопедия, 1981.746 с.
М.Ю. Лермонтов. Энциклопедический словарь / гл. ред. и сост. И.А. Киселева. М. : Индрик, 2014. 940 с.
Москвин Г.В. Очерк «Кавказец» как феномен экзистенциальной парадигмы в прозе М.Ю. Лермонтова // Litera. 2021. № 3. С. 19-28. doi: 10.25136/2409-8698.2021.3.35041. URL: https://nbpublish.com/library_read_article.php?id=35041 (дата обращения: 12.01.2022).
Ходанен Л.А. Культурный концепт «Кавказ» и его текстообразующая роль в творчестве А.С. Пушкина и М.Ю. Лермонтова // Сибирский филологический журнал. 2015. № 4. С. 47-57.
Юхнова И.С. Очерк «Кавказец» в контексте творчества М.Ю. Лермонтова // Современные проблемы науки и образования. 2015. № 1-1. С. 11-27.
Джаубаева Ф.И. Этнокультурные явления - способ взаимодействия языков на Кавказе (на примере произведений М.Ю. Лермонтова) // Известия Российского государственного педагогического университета им. А.И. Герцена. 2008. № 59. С. 114-123.
Лермонтов М.Ю. Сочинения : в 6 т. М. ; Л. : АН СССР, 1954-1957.
Киселева И.А., Поташова К.А., Сеченых Е.А. Творческая история стихотворения М.Ю. Лермонтова «Спор» (1841) в культурно-историческом контексте // Научный диалог. 2019. № 10. С. 264-279. doi: 10.24224/2227-1295-2019-10-264-279
Киселева И.А., Поташова К.А. Проблема текстологического описания автографов М.Ю. Лермонтова из «Записной книжки В.Ф. Одоевского» (1841 г.) // Canadian-American Slavic Studies. 2020. Т. 54, № 4. С. 387-402.
Отечественные записки. 1844. Т. 32, № 2. Отд. 1. С. 200-201.
Дружинин А.В. Письма иногороднего подписчика о русской журналистике // Современник. 1849. Т. 15, № 6. С. 209-244.
Н.Л. (Дмитриев Н.К.?) Об одном стихе Лермонтова // Восток. 1923. Кн. 3. С. 181-182.
Бодрова А. К реконструкции одного поэтического замысла Лермонтова // Статьи на случай: сборник к 50-летию Р.Г. Лейбова. 2013. URL: https://publications.hse.ru/mirror/pubs/share/folder/xpfa5gpzia/direct/115871042 (дата обращения: 12.01.2022).
Лермонтов М.Ю. Стихотворения : [в 4 ч.]. СПб. : Типография Ильи Глазунова и комп., 1842-1844.
Лермонтов М.Ю. Сочинения : [в 2 ч.]. СПб. : Александр Смирдин, 1847.
Лермонтов М.Ю. Сочинения с биографическим очерком : [в 2 т.]. СПб. : И.И. Глазунов, 1856.
Лермонтов М.Ю. Сочинения, приведенные в порядок и дополненные С.С. Дудышкиным : [в 2 т.]. СПб. : А.И. Глазунов, 1860.
Лермонтов М.Ю. Полное собрание сочинений : в 4 т. / под ред. А.И. Введенского. СПб. : А.Ф. Маркс, 1891.
Лермонтов М.Ю. Сочинения : [в 2 т.] / под ред. П.А. Ефремова. СПб. : Глазунов, 1873.
Лермонтов М.Ю. Полное собрание сочинений: в 5 т. / под ред. и с примеч. Д.И. Абрамовича. СПб. : Разряд изящной словесности Имп. Акад. наук, 1910-1913.
Лермонтов М.Ю. Полное собрание сочинений : в 5 т. / ред. текста, коммент. и предисл. Б.М. Эйхенбаума. М. ; Л. : Academia, 1935-1937.
Лермонтов М.Ю. Собрание сочинений : в 4 т. / ред. коллегия: В.А. Мануйлов (отв. ред.), В.Э. Вацуро, Т.П. Голованова и др. Л. : Наука. Ленингр. отд-ние, 1979-1981.
Пейсахович М.А. Строфика Лермонтова // Творчество М.Ю. Лермонтова: 150 лет со дня рождения (1814-1964). М. : Наука, 1964. С. 417-491.
Найдич Э.Э. Примечания // Лермонтов М.Ю. Полное собрание стихотворений : в 2 т. Л. : Сов. писатель. Ленингр. отд-ние, 1989. Т. II. С. 597-657.
Лермонтов М.Ю. Сочинения : в 4 т. СПб. : Изд-во Пушкинского Дома, 2014.
Напольнова Е.М. Система обращений в современном турецком языке // Вестник Санкт-Петербургского университета. Востоковедение и африканистика. 2015. № 4. С. 5-13.
Верещагина О.Н. Имя собственное в творчестве М.Ю. Лермонтова // Ономастика Поволжья : материалы XVII Международной научной конференции / сост. и ред. B. Л. Васильев. 2019. С. 481-484.
Поташова К. А. Поэтика визуального образа в «кавказском тексте» А.С. Грибоедова // Научный диалог. 2020. № 3. С. 250-264.
Михайлов М.С. К вопросу о занятиях М.Ю. Лермонтовым «татарским» языком // Тюркологический сборник. М. : Изд-во Академии наук СССР, 1951. С. 127-135.
Бестужев-Марлинский А.А. Мулла Нур. СПб. : Типография А.С. Суворина, 1890. 240 с.
Киселева И.А., Поташова К.А. Стихотворение М.Ю. Лермонтова «Свиданье» (1841): история текста, архитектоника, смысл // Проблемы исторической поэтики. 2021. Т. 19, № 1. С. 124-139.
Юхнова И.С., Леонова М.П. Проблема межкультурной коммуникации в прозе М.Ю. Лермонтова // Диалог и диалогичность / И.С. Юхнова, Т. Попович, А. Ямадзи, C. В. Рудакова, М.П. Леонова, Н.Ю. Петрищева, Е.И. Канарская. Нижний Новгород : Издательство Нижегородского госуниверситета, 2020. С. 44-55.
Ахмадова Т.Х. Кавказ и кавказцы в романе М.Ю. Лермонтова «Герой нашего времени» // Современный ученый. 2018. № 1. С. 57-61.
Падучева Е.В. Порядок слов и фразовая просодия: инверсия в теме // Смыслы, тексты и другие захватывающие сюжеты : сборник статей в честь 80-летия И. А. Мельчука. М. : Языки славянской культуры, 2012. С. 473-485.
Телегина С.М. С.Н. Дурылин о религиозных истоках поэзии М.Ю. Лермонтова // Христианское чтение. 2018. № 2. С. 138-151.
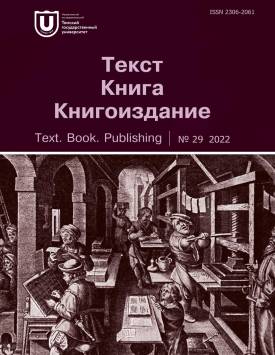

 Вы можете добавить статью
Вы можете добавить статью