Исследуются стратегии чтения и интерпретации творчества М.Ю. Лермонтова центральным персонажем романа Ю. Фельзена «Письма о Лермонтове» (1935). Эти стратегии близки к биографическому методу - отождествление автора и его героя. Цель познания лермонтовской личности - обретение персонажем Фельзена экзистенциального ориентира и эстетического принципа на пути к собственному творчеству. В самоидентификации с Лермонтовым-Печориным происходит акт самопознания, признание несоответствия пишущего персонажа своему идеалу и поведенческая самокоррекция. Автор заявляет об отсутствии конфликта интересов.
The reader-character in Yuri Felzen’s novel Letters about Lermontov.pdf В культурном самоопределении русских писателей «младшего» поколения послереволюцинной эмиграции ХХ в. необходим был эстетический ориентир. В. Ходасевич, поэт «старшего» поколения, призывал младоэмигрантов к продолжению классической традиции А. С. Пушкина. Г. Адамович, другой поэт «старшего» поколения, считал, что писать, как Пушкин, в ХХ в. невозможно. Он призывал к искренности в искусстве, «к простоте “человеческого документа”, сделанной “для себя” дневниковой записи» [1. C. 751]. Большинство младоэмигрантов последовали за Адамовичем и отвергли Пушкина, найдя эстетический ориентир в М.Ю. Лермонтове. Поэт Б. Поплавский писал: «Как вообще можно говорить о пушкинской эпохе! Существует только лермонтовское время...» [2. С. 47]. Исследователи справедливо замечают: «противостояние Пушкина и Лермонтова не означало умаление первого и возвеличивание последнего. Речь шла о вытеснении пушкинской парадигмы художественности» (Н.В. Летаева) [3. С. 44]. 25 Назаренко И.И. Персонаж-читатель в романе Ю. Фельзена Проза Юрия Фельзена (1894-1943), писателя-младоэмигранта второго ряда, нечасто привлекает внимание исследователей [4-8]. Известно, что Фельзен был поклонником творчества М. Пруста. Его проза, по мнению Л. Ливака, - попытка литературного проекта: «создать психологический роман-эпопею о творческом созревании русского писателя-эмигранта по модели, предложенной Марселем Прустом» [9. С. 7]. В романной трилогии («Обман», 1930; «Счастье», 1932; «Письма о Лермонтове», 1935) и примыкающих к ней рассказах Фельзена раскрывается становление начинающего писателя Володи в связи с коллизиями его частной, интимной жизни - отношений с возлюбленной, русской эмигранткой Лелей Герд. Фельзен, помимо Пруста, испытывал глубокий интерес к личности и творчеству Лермонтова. Об этом свидетельствуют упоминания Лермонтова и интертекстуальные знаки его творчества в романах и рассказах Фельзена, рецензия на «Книгу о Лермонтове» в 2 т. П.Е. Щеголева (1929) статья «Лермонтов в русской литературе» (1938). Мы обратимся к роману «Письма о Лермонтове», выражающему восприятие личности Лермонтова и толкование творчества русского поэта, а также версию истории русской литературы героя романа Фельзе-на, в которой отразилась и авторская концепция судьбы литературы в современном мире. Роман интересен в двух аспектах: во-первых, метатекстовая структура романа, сюжет интерпретации художественного наследия русского поэта; во-вторых, проблема рецепции художественного творчества, искусства, рецепция которого имеет экзистенциальный смысл, определяет становление читателя творцом текстов. Мы попытаемся проанализировать сюжет чтения и интерпретации творчества Лермонтова персонажем-читателем в романе «Письма о Лермонтове» и воссозданный им образ писателя-классика, чтобы понять авторскую концепцию человека-творца и искусства (литературы). Д. Чавдарова определяет связь двух функций читающего персонажа: 1) построение интертекстуального поля; 2) авторская литературная самоидентификация. Создание образа читателя включает в себя определение его характера и границ литературной компетенции: «создать читателя значит... дать нечто читать персонажу - иметь прочитанным этот текст самому и рассчитывать на то, что с этим текстом знаком и внешний читатель - читатель произведения с читающим персонажем» [10. С. 125]. Л.В. Чернец считает, что персонаж-читатель «отражает эстетические, литературно-критические взгляды писателя» [11. С. 560]. «Письма о Лермонтове», по определению К. Соливетти, - «одноголосый (монодийный) эпистолярный роман» [4. C. 213]. В романе представлены письма центрального персонажа (с 5-го по 13-е) его возлюб-26 Проблемы текста: теоретические и прикладные аспекты / Problems of text: theory and practice ленной после конца их отношений. Но предмет писем не воспоминание, не рефлексия прошлого и не продолжение романа в письменной форме. Адресант, как заявлено в названии романа, пишет о Лермонтове. Ответные письма отсутствуют, хотя опосредованно становится понятно, что они существуют: они восстановимы из комментариев адресанта и кратких цитат. В определённой мере смещение предмета писем к литературе, к Лермонтову можно объяснить тем, что центральный персонаж, автор писем и нарратор, осознаёт себя начинающим писателем, пусть и не стремится к публикации и не упоминает о реально написанных текстах. Его писательские интенции реализуются в ведении дневников и написании писем. В трилогии Фельзена сам переход текстов персонажа от дневниковой формы («Обман») к эпистолярной («Счастье», «Письма о Лермонтове») выражает творческое становление персонажа, овладение жанром, адресованным не самому себе (дневник), а Другому (письмо). Адресация Другому нужна для обретения внутреннего единства и для преодоления монологизма сознания, обретения хотя бы одного читателя - возлюбленной. Письма в романе Фельзена исключают другого адресата, кроме возлюбленной, но для адресанта одновременно исполняют роль дневника, способствующего самопознанию: «мои, теперь заброшенные дневники и эти, их заменяющие, почти дневниковые к вам письма» [12. C. 227]. Однако близость творческому акту частных писем проявляется в оглядке на возможного читателя в будущем. Нарратор-персонаж готовится к созданию крупной художественной формы (роман), пока лишь воображая её: это «роман о себе», но не автобиография, как считает Л. Ливак [9. C. 12], не фиксация пребывания в эмпирической реальности, а способ прожить по собственным критериям («роман, где я такой, каким хотел бы сделаться» [12. С. 209]). Это важно для понимания того, что писательство у Фельзена не эскапизм, не уход от реальности, а её познание, форма коррекции личностного проживания в несовершенном мире. Творческая коллизия Володи связана с любовной - разрывом и разлукой с любимой (он - в Париже, она - в Каннах). Духовное одиночество обусловливает творческий кризис, невозможность продолжать «роман о себе». Творческая коллизия разрешается уходом в мир культуры, в «роман с писателем», роман о Другом (писателе), воплощением которого становятся письма возлюбленной. Переписка - это попытка сохранить общение с Лелей. Но большинство писем Володя посвящает не мыслям о ней, а осмыслению современности, своего поколения, искусства, творчества и личности Лермонтова. Сюжет романа движется к постепенному примирению Володи с Лелей: сначала она не отвечает на 27 Назаренко И.И. Персонаж-читатель в романе Ю. Фельзена письма, но потом, осознав возможность его независимости от неё, существование мира культуры, ей недоступного, присылает ответные письма. В переписке с любимой нарратор-персонаж выбирает исповедальный модус. Исповедь нарратора-персонажа, по классификации А.Б. Криницына, является исповедью-самоанализом («герой пытается говорить о важнейших чертах своего характера» [13. С. 40]). Искренностью Володя надеется установить с возлюбленной доверительные отношения, где он не будет подчиненным. Любимая играет роль свидетеля и судьи, даёт в ответ на исповедь «ледяное осуждение» [12. С. 235]. Но она не только адресат исповеди («вы - использовавшая во зло искренние дружеские мои признания - отпадаете как исповедница» [12. С. 239]), но и посредник, с помощью которого нарратор-персонаж ведет воображаемый диалог с более высокой инстанцией - русской литературой и Лермонтовым («мне хочется видеть, как эти слова становятся поводом для наших бесконечных с ним разговоров» [12. С. 236]). Монологизм сознания автора, таким образом, преодолевается не диалогом двух персонажей, а введением лермонтовского текста, расширяющего кругозор персонажа, автора метатекста. О.О. Рогинская выделяет в эпистолярном романе два сюжета: «сюжет переписки / реально-жизненный сюжет» [14. C. 61]. В «Письмах о Лермонтове» реально-жизненный сюжет редуцирован в пользу сюжета переписки: физического взаимодействия между центральным персонажем и его возлюбленной нет, и он почти не пишет о внешних событиях своей жизни в Париже. Реально-жизненным сюжетом возможно назвать перечитывание Володей известных ему, Леле и всем русским читателям текстов Лермонтова, в переписке же он выражает результаты чтения и осмысления. Сюжет чтения в романе движется от частных наблюдений о жизни Лермонтова и его творчестве к определению места русского поэта в мировой литературе, к осознанию нарратором-персонажем того, что сам он не Лермонтов. Первое упоминание Лермонтова вводится в конце 5-го письма, где Володя сообщает, что начал перечитывать произведения по её совету. Это возвращение к оставленному национальному миру, сохранённому в эмигрантской действительности в пространстве культуры. Лермонтов важен для Володи и Лели как писатель, знакомый с детства, связанный с воспоминаниями о России и об их недавних отношениях. К. Соливетти считает, что назначение писем о Лермонтове на персонажном уровне -пробудить в возлюбленной прежние чувства: «Любой сюжет, любой литературный комментарий - как и сам Лермонтов - служат способом-попыткой восстановления любовных отношений» [4. С. 216]. 28 Проблемы текста: теоретические и прикладные аспекты / Problems of text: theory and practice Но любовная линия (5-е, 11-13-е письма) только обрамляет литературную - сюжет самопознания / познания (чтения) Лермонтова, интерпретации художественного феномена в границах вымышленного мира персонажа (6-10-е письма). Литературный сюжет в романе важен не только в развитии персонажа, он имеет самостоятельное значение как авторский метатекст. Центральный персонаж, которым завладевает автор, выражает авторскую литературную самоидентификацию и авторскую интерпретацию творчества Лермонтова. Доказывается это тем, что Володя, единственный субъект речи в романе, максимально близок к авторскому сознанию, и тем, что в критическом дискурсе («Лермонтов в русской литературе») восприятие Лермонтова Фельзеном созвучно восприятию его героя. Согласимся с М. Руббинс в том, что образ Лермонтова субъективен в интерпретации Фельзена. Однако нельзя согласиться, что центральный персонаж лишь «выделяет в его стиле, тоне, поэтике то, что было свойственно самому Фельзену» [15. С. 153]. Напротив, Володя рефлексирует о субъективности его понимания, на которое указывает ему возлюбленная, не всегда согласная с ним в оценке Лермонтова. В. Изер пишет о чтении: «То, как читатель переживает текст, отражает характер и склонности читателя, и поэтому литературное произведение можно уподобить зеркалу; но в то же время в процессе чтения создается действительность, отличная от собственной действительности читателя» [16. С. 210-211]. Володя обращается к Лермонтову, потому что воспринимает его как близкого себе, однако признает: «Лермонтов больше всего привлекает меня именно тем, чего у меня нет» [12. С. 218]. К. Соли-ветти указывает, что для персонажа Лермонтов - «образец восприятия жизни во всех её аспектах, в прекрасном и трагическом, символ художественного вдохновения, рожденного несчастной и неразделенной любовью, и символ литературного призвания» [4. С. 223]. В рассказе Володи о детстве открывается причина глубокой связи с Лермонтовым: он познакомился с его творчеством в гимназии, в возрасте, когда человек учится понимать мир. Это не интеллектуальное познание, а эмоциональное, романтическое восприятие творчества и личности Лермонтова. Это время первого «романа с писателем» - так персонаж, помимо воображаемого литературного произведения, называет «нечастое длительное свое состояние, всегда вызывавшееся каким-нибудь писателем или поэтом» [12. С. 214]. Чтение не уводит ребенка от реальности в мир искусства, а дарует понимание единства реальности и искусства, ощущение красоты бытия. В детском воображении центрального персонажа оформился роман о Лермонтове, где «мое суще-29 Назаренко И.И. Персонаж-читатель в романе Ю. Фельзена ствование было стерто и заменено блистательно-прекрасной “его” судьбой» [12. С. 234]. Последующие «романы с писателями», упомянутые в воспоминаниях, - юношеский «роман с Блоком» и зрелый, эмигрантский «роман с Прустом». Однако творчество Блока не давало ощущения единства жизни, а преклонение перед Прустом не переросло в глубокие «отношения», возможные в будущем. Важно, что Володя перечитывает произведения Лермонтова. В. Изер пишет о перечитывании: «впечатление от второго прочтения литературного произведения часто не совпадает с первым. ...уже знакомые события предстают в новом свете, иногда меняют значение, иногда в них проступают скрытые смыслы» [16. С. 209]. Нарратор-персонаж воспринимает творчество Лермонтова не наивно-романтически, как в детстве, а открывает в текстах поэта ранее незамеченные коллизии его жизни, близкие самому Володе (непонятость, отвергнутая любовь и др.), сопоставляет разные произведения (например, «Дума» и «Княжна Мэри» в 8-м письме), постигая лермонтовское творчество как целое. В познании искусства и жизни с помощью искусства персонаж не принимает позицию историка литературы. Литература для него - живой процесс, а история литературы - «кладбище, куда постепенно словно бы “свозится” “живая, действующая литература”» [12. С. 206]. Но назвать Володю «наивным» читателем нельзя - его текст полемичен: он предлагает отказаться от устоявшихся оценок, «готового благоговения» [12. С. 205]. Справедливо было бы назвать Володю не только персона-жем-читателем, но и персонажем-интерпретатором. Рефлексия чужих текстов сопровождается рождением метатекста: идеи доказываются цитатами лермонтовских текстов и обширными комментариями к ним. Стратегия чтения и интерпретации Лермонтова пишущим персонажем близка к биографическому методу - неотделение жизненного опыта и творчества писателя, отождествление автора и его героя. Лермонтов сопоставляется с русскими и европейскими писателями в контексте мировой литературы. В ней выделяются два потока: - «умирающая» классическая литература: литература древности -от Средневековья («Песнь о Роланде») и Возрождения (Данте, Ронсар) до эпохи Просвещения (Расин); литература XIX в. (Пушкин, Некрасов, Тютчев, Надсон, Достоевский, Толстой, Байрон, Гейне, Мюссэ, Стендаль); - современная литература конца XIX - начала ХХ в. (декаденты, Блок, Пруст). По убеждению персонажа романа, классика в ХХ в. умирает, становится непонятной и неспособной взволновать. Но, умирая, классическая 30 Проблемы текста: теоретические и прикладные аспекты / Problems of text: theory and practice литература передаёт свои художественные открытия современной, а значит, искусство продолжает развиваться. Лермонтов является связующим звеном: он писатель XIX в., но его творчество остаётся современным, потому что опередило своё время. Пушкин завершил, по убеждению Володи, литературу XVIII в. Лермонтов в XIX в. начал писать о коллизиях человека, не исчезнувших в ХХ в. Главная претензия к Пушкину - отсутствие искреннего, личного в творчестве, его проза «гладкая, тускло-серая и легковесная» [12. С. 205]. Лермонтов стоит выше Пушкина, потому что был искренен в творчестве и этим открывал пути для литературы ХХ в. Противопоставляя Пушкина и Лермонтова, Володя замечает, что у последнего был свой «роман с писателем», не с Байроном, как можно предположить, а именно с Пушкиным. Этим Фельзен утверждает диалог писателя с предшественником как движущую силу развития литературы. Г ерой романа выстраивает поле лермонтовского творчества (вводя в наррацию названия произведений или цитаты из них): поэзия («Парус», «Три пальмы», «Пророк», «Дума» и др.), поэмы («Сашка», «Мцыри», «Демон»), драмы («Маскарад»). Внимательнее всего он к прозе Лермонтова (романы «Княгиня Лиговская», «Г ерой нашего времени»), которая, в отличие от поэзии, где видно влияние Пушкина, Байрона, Гейне, бесподражательна. Из повестей «Героя нашего времени» Володя выделяет «Княжну Мэри», написанную в форме дневника - жанра, где человек наиболее откровенен, что важно для самого начинающего писателя в романе Фельзена. Творчество Лермонтова в его понимании исповедально: в коллизиях своих героев (Печорин, Демон, лирический герой поэзии) писатель изображал автобиографические коллизии, исследовал собственный внутренний мир. Как начинающий писатель, ищущий художественные формы, Володя пытается постичь стиль Лермонтова. Нарратор-персонаж приходит к выводу, что его стиль - это борьба с несовершенством человеческого языка, неспособного точно передать работу сознания, стремление не умалчивать, а выражать в слове тончайшие чувства и движения человеческой души. В 9-м письме Володя выделяет черты лермонтовского стиля: 1) использование одних и те же стихов в разных контекстах, «случаях непохожих и как будто несовместимых» [12. С. 230]; 2) употребление слов на «ость», «душевно объяснительных и обобщающих» [12. С. 230]; характерный для писателя языковые оборот - «“не тот, который” - столь исследовательское, перебирающее о каждом случае все вероятные, допустимые предположения, чтобы прийти к единственно правильному» [12. С. 230]. 31 Назаренко И.И. Персонаж-читатель в романе Ю. Фельзена Володя подчеркивает, что, несмотря на исповедальность, Лермонтов «писал “не об одном человеке”, а, конечно, о человеке вообще» [12. С. 219]. Самоанализ позволял ему говорить о природе человека как такового. Лермонтов должен был стать писателем-психологом: в «Герое нашего времени» он заложил основы русского психологического романа, оказался предтечей Толстого и Пруста - величайших романистов-психологов в оценке центрального персонажа. Лермонтовский стиль предвосхитил прустовский, литературу модернизма, способную показать нецелостный мир и противоречивого человека, к чему стремится нарратор-персонаж. Лермонтов в его оценке выше Толстого и Пруста, потому что его литературный и жизненный пути оборваны, но в неполные 26 лет он оставил такое творческое наследие, которое несопоставимо с творчеством Толстого и Пруста в том же возрасте. Создание Фельзеном «Писем о Лермонтове», а не о Прусте, несмотря на то, что в среде эмигрантов он считался прустианцем, несмотря на то, что в критических статьях он чаще писал о Прусте, чем о Лермонтове, выражает национальное самоопределение автора и его героя как русского писателя, но на пересечении культурных границ. В эмиграции Володя познакомился с творчеством Пруста, благодаря чему приблизился к французской культуре, «сбросивши стеснительную “кожу одно-народности”» [12. С. 211]. Пруст в художественной рецепции Фельзена - тема, ожидающая подробного исследования. Здесь лишь укажем, что Пруст после Лермонтова - это главный ориентир для Володи. Подвиг Пруста для персонажа в «нечеловечески-честном умении себя выразить, какого еще никогда не было» [12. С. 211]. Пруст развил художественные открытия Лермонтова, превзошёл Толстого, «безжалостно “обобрал” свое и следующие поколения» [12. С. 212]. Пример французского писателя показывает возможность существования в частном мире любви и творчества в эпоху коллективизма и исторических катаклизмов ХХ в., беспощадных к отдельной личности. Личность Лермонтова познаётся с помощью чтения его дневников, писем его знакомых и отзывов современников. В самопознании персонажа романа проекция на Лермонтова нужна для обретения жизненного ориентира (мужество, стойкость перед ударами судьбы) и эстетического принципа (искренность и терпение в творческой работе). Нарратор-персонаж открывает двойственность Лермонтова как частного человека, гордого и нетерпеливого в жизни, и Лермонтова-поэта, терпеливого и сосредоточенного в творческой работе. В то же время Лермонтов был поэтом и в частной жизни, всегда напряженный, вдохновленный для творчества. Гордость, замкнутость, презрение Лермонтова к людям не-32 Проблемы текста: теоретические и прикладные аспекты / Problems of text: theory and practice искренни, Володя открывает скрытую сострадательность писателя как основу его личности и творчества, в чём узнает себя. Эта сострадательность остаётся непонятой и непринятой людьми, подавленной, что приводит Лермонтова к несчастьям в любви и что он выражает в коллизиях своих героев (Демон, не принятый Тамарой). В лермонтовских любовных отношениях фельзеновский персонаж узнаёт собственные - жертвенность, преданность, наполненность одним человеком. С помощью Лермонтова он познает и принимает трагичную сущность любви: «тяжелый каждодневный “крест ”, навязанный жизнью, по своей воле уже не сбрасываемый» [12. С. 229]. Любовная драма центрального персонажа близка несчастной любви Лермонтова к Варваре Лопухиной (выведена в образе Веры в «Княгине Литовской» и «Г ерое нашего времени»): социальные обстоятельства разрушили их духовную связь, Лопухина оказалась замужем за другим, а Лермонтов внутренне навсегда остался ей верен - так Володя верен покинувшей его возлюбленной. Чтение в романе приближает к познанию жизни. Благодаря Лермонтову нарратор-персанаж открывает одиночество человека в бытии, где существование -смертельная борьба: «так - по-лермонтовски - устроена жизнь и только так стоит и надо жить, что каждый оголен и от всего в мире оторван, но не должен прятаться и жаться в своей норе» [12. С. 218]. Володя не надевает маску Лермонтова или других его героев. Напротив, открывается несоответствие идеалу - собственная духовная слабость: «Я восхищенно завидую лермонтовской мужественности, язвительности, напору, но у меня вместо всего этого - трусливое, себя оберегающее, меланхолическое смирение» [12. С. 219]. В сопоставлении себя с Лермонтовым Володя сознает свою творческую вторичность и неодаренность, кается возлюбленной, называя себя «домашним творцом», т.е. графоманом без публикаций и читателей. Желание писать для него подобно страсти графомании, он с трудом справляется с собой («Предчувствую тон следующего моего письма и даже нетерпеливость за него взяться» [12. С. 213]), но всё же соблюдает «этикет» - пишет любимой два раза в неделю по понедельникам и четвергам, а не чаще. Пример классика учит преодолевать нетерпение в творческой работе -не облекать в текст случайные мысли и впечатления, а длительно их перерабатывать ради точности выражения, преодоления несовершенства человеческого языка. В таком случае можно говорить не только о самопознании в диалоге с Лермонтовым, но и о самостроении своего художественного сознания с помощью чтения. В 10-м письме попытки постичь причины гибели Лермонтова. Персонаж романа винит общество, не заметившее душевные качества Лер-33 Назаренко И.И. Персонаж-читатель в романе Ю. Фельзена монтова-человека, но и не снимает ответственности с самого поэта: «В его гибели виноваты душевная щедрость и беспечность, до сумасшедшего нежаления себя, раздраженность, вызывавшаяся постоянной и неиссякаемой человеческой пошлостью» [12. С. 221]. Володя полагает, что от гибели Лермонтова мог бы спасти отказ от жизни в светском обществе ради жизни в искусстве - в последний год жизни тот стремился «к отставке, “толстому журналу”, упорядоченной писательской деятельности, ко всей той внешней перемене, которая единственно могла бы его сохранить» [12. С. 236]. Трагическим примером Лермонтова можно объяснить экзистенциальный выбор центрального персонажа романа Фельзена: не попытки влиться в остающийся чуждым парижский социум и добиться социального благополучия, а жизнь в творчестве, поиск родственной души. С 11-го письма литературный сюжет соединяется с любовным, движущимся к примирению центрального персонажа с возлюбленной. Он убеждает её, что его литературная игра - скрывание любовных чувств за письмами о Лермонтове - была неумышленной. В последнем письме (13-м) он замечает, что их примирил Лермонтов: её чувства пробудились благодаря ревности возлюбленной за его любовь к литературе. Финал романа не воссоединение с возлюбленной (хотя упомянуто, что она собирается вернуться из Канн), но утверждение любви к искусству как способа духовного общения людей вопреки обстоятельствам реальных условий жизни и вопреки несовершенству и стихии человеческих чувств. Оставаясь в действительности, смиряясь с невозможностью достижения гармонии и идеала, герой Фельзена остаётся верен однажды вызвавшей чувства, неидеальной, но духовно близкой женщине. Эстетическая позиция нарратора-персонажа, которую он формулирует, постигая творчество Лермонтова, - исповедальность - близка романтической эстетике. Это сосредоточенность на внутреннем мире, а не на окружающей реальности: «я предпочитаю “правду о себе” любому безответственно-поэтическому полету, высокая цель поэзии для меня - в новизне, в обособленности и своеобразии самой жизни, ее создавшей, в упрямом старании такую жизнь запечатлеть, с беспощадностью поэта к себе» [12. С. 225]. Однако отказ от вымысла трактуется как отказ от иллюзий, от романтических претензий к жизни. Как ни парадоксально, Володя открыл в прозе Лермонтова, трезвой и недидактической, правдивость в понимании пишущим самого себя. Володя Фельзена - герой нового времени, он отказывает искусству в возможности преображения действительности или прорыва к метафизическому. Лермонтов для него «был просто человек, и, погруженный в себя, он настойчиво рассуждал о себе и о своей жизни» [12. С. 221]. 34 Проблемы текста: теоретические и прикладные аспекты / Problems of text: theory and practice Нежелание центрального персонажа печататься, с одной стороны, связано с сомнением в творческих способностях, боязнью критики и неуспеха, но и с примером Лермонтова, который не был сосредоточен на публикации: «стихи пишутся на листках и дарятся кому попало, о том, чтобы печататься, Лермонтов и не думал» [12. С. 225]. С другой стороны, причина в монологизме сознания личности: «до первой книги я всё еще могу думать о какой-единственной, несомненной и для других, хотя бы предположительной своей правоте, о каком-то своем необычайном преимуществе, которое после книги, боюсь, для других уничтожится (и это меня в себе самом разуверит)» [12. С. 240]. Пишущий персонаж боится читателя, Другого, который может войти в его художественный мир и разрушить его претензии на всеправоту. В его воображении читатели всегда враждебны и не согласны с автором: «я спорю с воображаемыми опровергателями и хочу у них отнять последнее утешение и надежду» [12. С. 204]. Поэтому эксплицитный адресат нарратора-персонажа - возлюбленная, на понимание которой он надеется. Имплицитный адресат «Писем о Лермонтове», возникающий на авторском уровне, шире - это человек, искушенный в понимании русской и европейской литературы, «грядущий историк» [17. C. 31-49], как называет образ адресата младоэмигрантской литературы И. Каспэ. В «Письмах...» его образ конструируется интертекстуальным полотном цитат, аллюзий и реминисценций, введенных автором с помощью пер-сонажа-читателя, но далеко не всегда проясненных самим персонажем. Это полотно создаёт субъективные авторские образы Пушкина, Лермонтова и самого молодого эмигрантского писателя, полемично направленные в будущее «грядущему историку». Писательское становление Володи заключается в овладении эпистолярным жанром с его ориентацией на читателя: персонаж добивается ответа от возлюбленной в создании текста не о себе, а о Другом (о себе -лишь косвенно). Он воплощает замысел романа о Лермонтове в виде эпистолярного романа. Герой сближается с автором не как создатель романного текста, а как посредник и двойник, необходимый автору для самообъективации, познания себя через текст. В «Письмах о Лермонтове» оформляется образ мира, где материальная действительность не отменима, но вторична по отношению к искусству. Реальность воспринимается субъектом сквозь призму сознания, дающего субъективную версию себя и эмпирической реальности. Литература является не высшей реальностью, а возможностью выражать в слове работу сознания - мельчайшие чувства и движения души творца: «видите, сколько удается объяснить в письме, чего на словах не вы-35 Назаренко И.И. Персонаж-читатель в романе Ю. Фельзена скажешь» [12. С. 214]. Искусство в авторской концепции, на примере Лермонтова, - напряженный акт самопознания, нужный самому художнику, но позволяющий выходить от наблюдений о себе к обобщениям о человеческой природе. Чтение - это познание Другого и его образа бытия, приближение к пониманию реальности, но чтение является преддверием на пути к созданию текста, собственного образа бытия, выстраиваемого в диалоге с мировой литературой. После романа «Письма о Лермонтове» Фельзен продолжил осмысление творчества Лермонтова. Статья «Лермонтов в русской литературе» (1938) не развитие, а концентрат романных идей о лермонтовском творчестве (трагедия непринятой доброты, жизнь как вечная борьба, создание Лермонтовым русского психологического романа и др.). Однако в критическом дискурсе автор оценивает Лермонтова менее категорично: как «гармонический русско-европейский человек» [18. C. 171] он равен Пушкину в чувстве меры, свободе от политики и религии. Фель-зен приходит к выводу: после смерти Лермонтова русская литература оказалась несвободной от власти политических и религиозных идей (Гоголь, Тютчев, Толстой, Достоевский). Автор видел необходимость возвращения русской литературы «к душевной широте, к заветам Пушкина и Лермонтова» [18. C. 172] и утверждал это своим творчеством.
Зобнин Ю.В. Поэзия «младшего» поколения // Литература русского зарубежья (1920-1940): учебник для высших учебных заведений Российской Федерации / отв. ред. Б.В. Аверин, Н.А. Карпов, С.Д. Титаренко. СПб. : Филологический факультет СПбГУ, 2013. С. 739-792.
Поплавский Б.Ю. О мистической атмосфере молодой эмигрантской литературы // Поплавский Б.Ю. Собр. соч. : в 3 т. Т. 3: Статьи. Дневники. Письма / сост., коммент., подгот. текста А.Н. Богословского, Е. Менегальдо. М. : Книжница; Русский путь; Согласие, 2009. C. 45-51.
Летаева Н. В. Оппозиция «Пушкин» - «Лермонтов» на страницах журнала русского зарубежья «Числа» // Вестник Новгородского государственного университета. Серия: Гуманитарные науки. 2015. № 1 (84). С. 42-45.
Соливетти К. «Письма о Лермонтове» Юрия Фельзена: автор как персонаж // Соливетти К. Автор и его зеркала. СПб. : Алетейя, 2005. C. 209-229.
Летаева Н.В. Эпистолярный жанр в прозе Ю. Фельзена и М. Агеева // Литература в контексте современности : сб. материалов VI Международной научно-методической конф. (Челябинск, 13-14 декабря 2012 г.) / отв. ред. Т.Н. Маркова. Челябинск : Энциклопедия, 2012. С. 65-69.
Проскурина Е.Н. Повествовательное пространство прозы Ю. Фельзена // Жанровые и повествовательные стратегии в литературе русской эмиграции. Томск, 2014. С. 279294.
Крюков А.А. Традиции и новаторство в повести Юрия Фельзена «Обман»: к постановке проблемы // Вестник КГУ им. Н.А. Некрасова. 2015. № 1. С. 113-116.
Димитриев В.М. Память-воспоминание в «неопрустианском» проекте Юрия Фельзена // Димитриев В.М. Концепции памяти в прозе младшего поколения русской эмиграции (1920-1930 гг.) и роман Ф.М. Достоевского «Подросток» : дис.. канд. филол. наук. СПб., 2017. С. 224-251.
Ливак Л. «Роман с писателем» Юрия Фельзена // Фельзен Ю. Собр. соч. : в 2 т. Т. 1. М., 2012. С. 6-39. URL: https://www.litres.ru/uriy-felzen/sobranie-sochineniy-tom-i/(дата обращения: 27.12.2019).
Чавдарова Д. Homo Legens в русской литературе XIX века. Шумен (Болгария) : Аксиос, 1997. 142 с.
Чернец Л.В. Читатель // Введение в литературоведение : учеб. пособие / под ред. Л.В. Чернец. М., 2004. 680 с.
Фельзен Ю. Письма о Лермонтове // Фельзен Ю. Собр. соч. : в 2 т. Т. 1. М., 2012. С. 202-249. URL: https://www.litres.ru/uriy-felzen/sobranie-sochineniy-tom-i/(дата обращения: 27.12.2019).
Криницын А.Б. Формы исповеди в романах Ф.М. Достоевского : дис.. канд. филол. наук. М., 1995. 204 с.
Рогинская О.О. Эпистолярный роман: поэтика жанра и его трансформация в русской литературе : дис.. канд. филол. наук. М., 2002. 237 с.
Рубинс М.О. Русский Монпарнас. Парижская проза 1920-1930-х годов в контексте транснационального модернизма. М. : НЛО, 2017. 222 с. URL: www.litres.ru/mariya-rubins/russkiy-monparnas-parizhskaya-proza-1920-1930-h-godov-v-kont/ (дата обращения: 27.12.2019).
Изер В. Процесс чтения: феноменологический подход // Современная литературная теория. Антология. М. : Флинта; Наука, 2004. С. 201-225.
Каспэ И. Искусство отсутствовать: Незамеченное поколение русской литературы. М. : НЛО, 2005. 192 с.
Фельзен Ю. Лермонтов в русской литературе // Фельзен Ю. Собр. соч. : в 2 т. Т. 2. М., 2012. С. 169-172. URL: https://www.litres.ru/uriy-felzen/sobranie-sochineniy-tom-ii/(дата обращения: 27.12.2019).
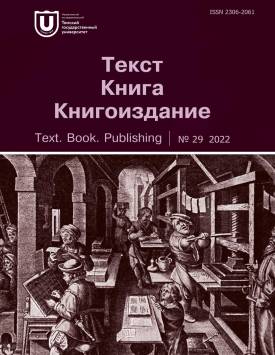

 Вы можете добавить статью
Вы можете добавить статью