Петербургский текст в «Воспоминаниях» М.В. Добужинского
Рассматривается хронотоп Петербурга в мемуарно-автобиографическом произведении «Воспоминания» русского художника первой волны эмиграции М.В. Добужинского. Отмечается многоликость Петербурга, предстающего как реальный исторический городской пейзаж, счастливое время детства, объект изобразительного искусства героя-художника, а также как пространство авторской мистификации. Установлено, что Петербург и петербургский текст восприняты героем через призму произведений А.С. Пушкина и Ф.М. Достоевского. Автор заявляет об отсутствии конфликта интересов.
The Petersburg text in Vospominaniya by Mstislav Dobuzhinsky.pdf Мстислав Валерианович Добужинский (1875-1957) - участник художественного объединения «Мир искусства», мастер городского пейзажа, книжной иллюстрации и театрально-декорационного искусства, также реализовал свой талант в мемуарно-автобиографическом творчестве. Художник оставил большое литературное наследие: художественную критику, эпистолярий, автобиографическую прозу и многочисленные варианты стихотворений. В 1918 г. М.В. Добужинским был написан и опубликован очерк «Ночью в вагоне», в 1923 г. вышли «Воспоминания об Италии». В связи с кончиной Л.С. Бакста были написаны воспоминания художника о нем, в 1927 г. - о Б.М. Кустодиеве, а в 1929 г. - о З.И. Гржебине. В 1929 г. в парижской газете «Последние новости» был опубликован очерк «Наутилус (из воспоминаний детства)». В начале 1940-х гг. М.В. Добужинский стал публиковать части воспоминаний, объединенные одной темой: «Круг „Мира искусства“», «О Художе-40 Проблемы текста: теоретические и прикладные аспекты / Problems of text: theory and practice ственном театре», «Историческая выставка портретов», «Встречи с писателями и поэтами» в нью-йоркском «Новом журнале», «Ремизовское „Бесовское действо“» в парижской газете «Русская мысль». Начиная с 1947 г. М.В. Добужинский стал готовить книгу воспоминаний, однако смерть прервала работу художника, и авторский замысел, архитектоника автобиографического произведения остались до конца не реализованными. М. В. Добужинским была на несколько раз переписана и отредактирована первая часть мемуарно-автобиогра-фического повествования о жизни художника с детских лет до начала ХХ в., но и она не была завершена. Ностальгирующий характер памяти художника-эмигранта, стремящегося в «Воспоминаниях» «оживить» ушедшее, обусловил специфику хронотопа произведения, в основном связанного с Петербургом, что отразилось в некоторой авторской идеализации в воссоздании образа города. В мемуарно-автобиографической прозе художников хронотоп выступает как форма восприятия и художественного моделирования действительности, представляя собой своеобразный сконструированный континуум, воплощающий бытийные, духовные, этические и эстетические ценности, ориентиры, идеалы авторов. Моделирование хронотопа мемуарно-автобиографического текста, созданного автором-худож-ником, помогает раскрыть феномен авторского сознания посредством актов воспоминания, воображения, восприятия мира и самовосприятия и создать идеальный топос как выражение эстетических исканий художников. Включаясь в единый контекст мемуаристики русского зарубежья, «Воспоминания» М.В. Добужинского демонстрируют характерные для них особенности хронотопа: история жизни творческой личности дается в связи с историческим контекстом, пространственно-временная организация обусловлена избирательностью памяти автора-художника и зависит от эстетического вектора, значимо воплощение не только исторического, но и мифологизированного хронотопа, сосуществование реального и ирреального мира, идеального и антимира, противопоставление социума и авторского «Я». М.В. Добужинскому свойственны уход в мистификацию, проникновение элементов потустороннего мира в действительность, обращение в прошлое. Цель данной работы состоит в определении специфики хронотопа Петербурга в «Воспоминаниях» художника М.В. Добужинского и выявлении взаимосвязей между живописным изображением города М. В. До-бужинским и отражением его восприятия в вербальном тексте. Феномен изобразительного искусства в мемуарно-автобиографической прозе художников формирует единую модель мира, воплоща-41 Галькова А.В. Петербургский текст в «.Воспоминаниях» М.В. Добужинского ющуюся в реальной и метафизической ипостасях, что позволяет выйти за биографические рамки в область синтетической памяти - пространство мировой культуры. Пространством, отражающим мифологизированное мироощущение автора-повествователя и выступающим как средство художественной интерпретации реальности, у М.В. Добужинского выступает своеобразная художественная мифологема Петербурга. Петербург в мемуарно-автобиографическом повествовании М.В. Добужинского становится местом концентрации фантастических явлений, как притягательных, так и страшных. Город у М.В. Добужин-ского порождает страх и ужас, которые художник стремится преодолеть посредством изобразительного искусства. Пространственно-временная модель в «Воспоминаниях» неизменно коррелирует с хронотопом города, культурно-историческим архетипом Петербурга, оказавшим существенное влияние на жизнь и творчество художника. Ю.М. Лотман рассматривает Петербург как знаковую систему, город как текст и механизм порождения текстов. Зашифрованномъ различными кодами черт города привела к семиотической неоднородности текстов, противоречиво стремящихся к образованию единого петербургского текста. «В истории Петербурга символическое бытие предшествовало материальному. Код предшествовал тексту» [2]. Такой город мыслится как антитеза естественного и искусственного, поскольку он создан вопреки природе и вынужден бороться с ней. Такая противоестественность определяет возникновение эсхатологических мифов о гибели города, его обреченности, обусловленной вечной борьбой стихии и культуры. Однако Петербург мыслится в двойной перспективе как вечный и обреченный одновременно, что позволило «трактовать его и как „пара-диз“, утопию идеального города будущего, воплощение Разума, и как зловещий маскарад Антихриста» [3. C. 281]. Идеальный искусственный город, рационалистический город-утопия лишен истории, что обусловило активное порождение «петербургской мифологии» [3. C. 283], миф восполнял семиотическую пустоту. Петербургская «картина мира» представляет собой призрачный город, фантастическое и фантасмагорическое пространство, отличающееся эффектом театральности. В.Н. Топоров отмечает, что «Петербург имплицирует свои собственные описания с несравненно большей настоятельностью и обязательностью, чем другие сопоставимые с ним объекты описания (например, Москва), существенно ограничивая авторскую свободу выбора» [4. C. 26]. Однако единство петербургского текста определяется единством и цельностью идеи, стремлением к высшей цели, поиском пути к духовному возрождению, к моральному спасению «в условиях, когда жизнь 42 Проблемы текста: теоретические и прикладные аспекты / Problems of text: theory and practice гибнет в царстве смерти, а ложь и зло торжествуют над истиной и добром» [4. C. 26-27]. Пространство Петербурга предстает как искусственное, неорганичное, сугубо культурное, фантомное и вымышленное. Характеристикой петербургского текста, как и самого города, становится впечатление миражности, фантасмагоричности, «умышленности», метафизичности. Физическая, «атмосферная», и метафизическая, духовная, сущности Петербурга одновременно характеризуются хаотичной призрачностью (мороки, двоение, призраки, сновидения, «петербургская чертовня») и космической прозрачностью (единство природы и культуры, гармоничность, ясновидение, откровения). «Петербургская» тема многократно разрабатывалась в изобразительном искусстве. Однако в то время как петербургский текст русской литературы - реальность, такого же текста русской живописи нет. Субстрат (некий резерв) петербургского текста, согласно В.Н. Топорову, образуют образы Петербурга в изобразительном искусстве художников круга «Мира искусства», которым принадлежит второе «открытие» Петербурга в начале ХХ в. (а также статья А.Н. Бенуа «Живописный Петербург»1, 1902) [4. C. 24]. Петербургу в «Воспоминаниях» посвящено большинство глав. Так, хронотоп первой главы «Петербург моего детства» определяется образом современного герою Петербурга, воспринятого ребенком, что обусловливает большую временную дистанцию между временем рассказывания и описываемыми событиями. К историческим фактам в связи с Петербургом автор-повествователь практически не обращается, крайне редко проводятся параллели с историческими реалиями: в аракчеевском доме, где жил герой, пахло кухонным чадом и кошками, вероятно, так же, как и в дни самого А.А. Аракчеева; охтенка-молочница была такая же, как и во времена А. С. Пушкина. В то же время в изобразительном творчестве М.В. Добужинского «Петербург живет только в неразрывной связи с историческим прошлым. Пространство „старого Петербурга“ для Добужинского - это то, чего ни в коем случае нельзя изменить, не 1 А.Н. Бенуа писал: «Любопытно, что мнение о безобразии Петербурга настолько укоренилось в нашем обществе, что никто из художников последних 50 лет не пожелал пользоваться им, очевидно, пренебрегая этим „неживописным“, „казенным“, „холодным“ городом. В настоящее время можно найти немало художников, занятых Москвой и умеющих действительно передать красоту и характер ее. Но нет ни одного, кто пожелал бы обратить серьезное внимание на Петербург» [13]. Эстетика «живописного безобразия» [4. С. 68] Петербурга, не реализовавшись в живописи худож-ников-современников, нашла позже вербальное воплощение в «Воспоминаниях» М.В. Добужинского. 43 Галькова А.В. Петербургский текст в «.Воспоминаниях» М.В. Добужинского нарушив внутренней жизни города. ...Добужинский видит Петербург как целостный и сложный организм, в котором неповторимость и уникальность ландшафта складывается в особый стиль, без которого Петербург перестает существовать и который поэтому требует к себе особого отношения. Образ Петербурга в графике Добужинского продолжает романтическую традицию, сложившуюся еще в пушкинскую эпоху, но переосмысленную Н.В. Гоголем и Ф.М. Достоевским» [5. C. 83]. В «Воспоминаниях» авторское отношение к Петербургу на протяжении всей главы стабильно - это ностальгический образ города. Он складывается из зрительного восприятия регулярно посещаемых героем мест. В процессе повествования автор-повествователь отмечает лишь изменение некоторых исторических реалий, в сущности не повлиявших на его теплое отношение к такому Петербургу как особому пространству своего детства, тихому, спокойному, патриархальному, например, облик города несколько изменило появление газовых фонарей. В мемуарно-автобиографическом тексте создается одновременно образ «высокого» и «низкого» [4. C. 68] Петербурга, который представлен вывесками, лавками, будками, дворниками, извозчиками, продавцами, торговками, уличными ремесленниками и т.п. Подобная «низкая» стихия в тексте эстетизируется. Временная соотнесенность в главе варьируется, подчиняясь воле автора-повествователя, некоторые локусы даются в изменчивости их внешнего вида в зависимости от календарного времени, суточного или в связи с праздниками. Особое внимание в хронотопе «праздничного Петербурга» уделяется балаганам, согласно В.Н. Топорову, балаганы заключают в себе идею мифоритуального дионисийского «начала» петербургской городской жизни [4. C. 251-252]. Реальное пространство дополняется образами из детского воображения, образами желаемого и нежелаемого, возникающими как из уже прочитанных книг, так и из мистических представлений, внушаемых видом некоторых домов. Внимание к мелочам, деталям, подробное их описание мотивировано в тексте детским любопытством, потребностью зрительных впечатлений. Автор-повествователь отмечает, что критическим переломом в его восприятии Петербурга стали исторические события 1905 г., период с 1905 по 1914 г. обозначен как время изживания балаганов, народных гуляний, стирания милых автору черт городского быта, доживания петербургских типов, при этом автобиографический герой не вписан в данный временной контекст, это время жизни реалий из детского восприятия города. Искусствовед Г.И. Чугунов писал о том, что облик Петербурга детства был значим для художника в силу своей патриархальности: «И в 44 Проблемы текста: теоретические и прикладные аспекты / Problems of text: theory and practice Петербурге, и тем более в Новгороде, Вильно или Тамбове художник еще застал в той среде, где протекало его детство, патриархальность русского быта, которую он полюбил всем сердцем; ощущения этой спокойной, неторопливой, безмятежной жизни он бережно сохранял в душе... и так или иначе выразил во многих произведениях» [6. C. 332]. Глава заканчивается проспективным авторским изложением своих художественных взглядов на Петербург как объект искусства. М.В. Добужинский формулирует и разъясняет свои творческие ориентиры. С помощью перехода в рамках одной главы от «идиллии петербургского детства» [8. C. 22] к красоте и изнанке северной столицы, одновременно воспринятыми ребенком и взрослым героем, автор-повествователь стремится продемонстрировать изменения своего понимания города, развенчать мнение о его односторонней интерпретации. Так, Петербург из детских впечатлений оценивается автором-повествователем, принимая во внимание исторический ход времени, как «праздничный», идеализированный образ города, только кажущийся таким, это ностальгия, некогда бывшая мечта, возникшая во время разлуки. Реальный город на самом деле бытовой. Посредством темы Петербурга автор-повествователь формирует в тексте индивидуализированное представление о себе, о своем типе личности художника, о чем неоднократно повторяет: «Порой город меня до крайности угнетал. я его ненавидел и даже переставал замечать его красоту. Вероятно, через это надо было пройти, иначе. любовь была бы неполной. И, конечно, только глядя на окружающее глазами художника, можно было избавиться от гнета обывательских впечатлений и их преодолеть. Красоты Петербурга, его стройный и строгий вид и державное течение Невы - все это были мои первые, непосредственные и пассивные впечатления детства. но как художник „активно“ я воспринял Петербург гораздо позже, уже зрелым» [8. C. 22]. Таким образом, автор-повествователь акцентирует в понимании ге-роя-художника наличие особого творческого взгляда. Трансформация восприятия города произошла в силу усвоения героем повествования новых художественных техник и приемов, навыков, воспринятых за границей, после непосредственного знакомства с европейским искусством - «я стал смотреть на него как бы новыми глазами и только тогда впервые понял все величие и гармонию его замечательной архитектуры» [8. C. 22], что подразумевает включение Петербурга как «модели» в систему изобразительных координат, наложения определенных пропорций, принципов перспективы, соотношения форм и т.д. Подчеркивая, что «через это надо было пройти», автор-повествователь выражает свое 45 Галькова А.В. Петербургский текст в «.Воспоминаниях» М.В. Добужинского понимание творческого акта, который предполагает непростой психологический процесс уяснения сущности вещей посредством преодоления обыденности. В связи с этим авторским «прозрением» упоминается увлечение культом старого Петербурга в кругу художников «Мира искусства», которое герой разделял. Однако в отличие от А.Н. Бенуа, Е.Е. Лансере, А.П. Остроумовой-Лебедевой, С.П. Яремича, которые изображали старый Петербург, поскольку связывали идею гармонии с прошлым, для М.В. Добужинского же были характерны обостренное восприятие и передача современности, его интересовала современная урбанистическая цивилизация, воспринятая сквозь призму Э.Т.А. Гофмана и Ф.М. Достоевского. Город воспринимается автором-повествователем посредством художественных артефактов и при этом интерпретируется как произведение искусства. В то же время при всей разработанности данной темы деятелями искусства автор-повествователь выделяет свое уникальное видение, акцентирует внимание на собственной визуальной интерпретации культурной столицы. Особое внимание уделяется передаче облика Петербурга при помощи перечисления конкретных объектов изображения: «спящие каналы, бесконечные заборы, глухие задние стены домов, кирпичные брандмауэры без окон, склады черных дров, пустыри, темные колодцы дворов» [8. C. 23]. Свой выбор автор-повествователь объясняет личными изобразительными критериями: «скупой, но крайне своеобразной живописной гаммой и суровой четкостью линий» [8. C. 23]. По авторскому мнению, петербургским реалиям присущи настроения безысходной печали, жути, «горькой поэзии и тайны», «всё казалось небывало оригинальным и только тут и существующим» [8. C. 23]. В этой особенности просматривается авторская тенденция к фиксации в повествовании отличительных черт своей художественной манеры. Продолжая отмечать исторические метаморфозы Петербурга, автор-повествователь воспроизводит два контрастных облика города, результатом эстетической рефлексии становится новый образ: «На моих глазах город умирал смертью необычайной красоты, и я постарался посильно запечатлеть его страшный, безлюдный и израненный облик. Это был эпилог всей его жизни - он превращался в другой город - Ленинград, уже с совершенно другими людьми и совсем иной жизнью» [8. C. 23]. Тема гибели, умирания, уничтожения города - общее место для петербургского текста [4. C. 23]. Отмеченные повествователем исторические изменения города отражают умение художника по-разному запечатлевать Петербург в собственном художественном творчестве - от спокойной констатации видов Петербурга к выражению такого трагизма в об-46 Проблемы текста: теоретические и прикладные аспекты / Problems of text: theory and practice разе города, которого до него русское искусство не знало. У М.В. Добужинского «безлюдность» как художественный прием символизирует одиночество и безысходность [7. C. 36]. Воссоздавая облик города в довольно абстрактных и субъективных деталях, не конкретизируя, в какой работе он был запечатлен, а лишь указывая на сам факт изобразительного творчества, автор-повествователь отражает свои художественные установки: эстетизация сначала неприглядного (задних дворов), а затем уже «больного» города, пережившего страшную историческую катастрофу. В «Воспоминаниях» хронотоп Петербурга крайне изменчив, что обусловлено авторской интерпретацией, он предстает как реальный исторический городской пейзаж, как счастливое время детства, как объект изобразительного искусства героя-художника, а также как пространство авторской мистификации. Петербургский текст у Добужинского опосредован восприятием произведений А.С. Пушкина и Ф.М. Достоевского1, с которыми художника связывало единство восприятия города, «стремление наделить его духовно-мистическим началом» [7. C. 164]: «Но не один Достоевский заполнял тогда мои мысли, они все больше обращались к Пушкину, к его петербургским образам, и вдохновенные рисунки Бенуа к „Медному всадни-ку“... давали мне заразительный пример» [8. C. 188]. Характеризуя живописное творчество художника, искусствовед Г.И. Чугунов справедливо отмечал значительную роль Петербурга в создании внутренней приближенности художника к Ф. М. Достоевскому. «Город в произведениях и Достоевского, и Добужинского - дома, улицы, парадные, лестницы, дворы, заборы - всегда весьма значителен в создании того или иного образа. Здесь уместно вспомнить слова художника о домах, которые имеют „свое лицо“ и сохраняют отпечаток человеческой сущности живших в них людей. Такая общность в восприятии города является несомненным источником внутренней связи Добужин-ского с писателем, источником специфическим, присущим только людям, обладающим художественным мировоззрением» [6. C. 351]. В данном контексте Петербург связан и с ирреально-фантастическим изображением города у Ф.М. Достоевского, и с петербургской гофмани-аной А.С. Пушкина, с грандиозным образом города и мутно-серым колоритом, лежавшим на петербургской жизни в «Медном всаднике». Ис- 1 Для автобиографического героя важно также отразить свои «связи» с писателем - принципиально авторское упоминание, что квартира, в которой жил его дядя, была соседней с той, где жил Ф.М. Достоевский, а «печальный петербургский пейзаж» - штабели двор, брандмауэр, заборы, - который видел из окна и герой, представал и глазам великого писателя. 47 Галькова А.В. Петербургский текст в «.Воспоминаниях» М.В. Добужинского следователь О.Н. Толстая отмечает, что М.В. Добужинский в своем изобразительном творчестве интерпретировал современную культуру мифотворческими средствами. По ее мнению, мировосприятие художника соотносится с мировосприятием Ф. Кафки и Дж. Джойса, что в частности проявляется в частичном сходстве экспрессионистической фантастики некоторых изобразительных произведений с литературными. По мнению О.Н. Толстой, у М.В. Добужинского, как и у Дж. Джойса, «в изображении города присутствуют каннибалистические мотивы», имеется в виду урбанизация, «которая поглощает и переваривает все живое: „Праздник“ (1906), „Городские сны. Безмолвие“ и „Недра горо-да“ (1918)» [9. C. 147]. В мемуарном творчестве М.В. Добужинского Петербург становится авторским идеалом, здесь одновременно сочетаются черты прекрасного и уродливого, определившие антиномию петербургского текста. Хронотоп города в главе «„Уколы“ Петербурга», куда герой вернулся после двухлетнего отсутствия, становится и пространством активного творчества, художественного «озарения», пробуждения художественного видения, Петербург воспринимается им также посредством старинных литографий на выставке «Старого Петербурга». Можно сказать, что герой пережил катарсис, вернувшись в Петербург. Очевидно, что таким образом одновременно происходит взаимообусловленное формирование художественной личности героя и его «собственного» образа Петербурга. Причем автор-повествователь не ограничивается описанием одной стороны города, а стремится изобразить его во всем многообразии своего видения и влияния на свою жизнь. Если хронотоп Петербурга в первой главе был сосредоточен на бытовых деталях, то здесь он предстает как хронотоп духовной жизни автобиографического героя. Визуальный облик реального пространства современного герою города - его многокрасочность - противопоставляется в данном контексте монохромности европейских городов, что является отражением авторских художественных предпочтений. В облике города автор-повествователь находит и привычные, милые ему до сей поры патриархальные, провинциальные уголки. Автор-повествователь констатирует: «Петербург всем своим обликом, со всеми контрастами трагического, курьезного, величественного и уютного действительно единственный и самый фантастический город в мире» [8. C. 188] - в таком определении ощущаются характеристики, данные Петербургу Ф.М. Достоевским. Как замечает В.Н. Топоров, «фантастичность Петербурга обозначает уход от „грубой действи-тельности“, от эмпирической реальности к высшей и подлинной реальности, ad realiora, и в этом отношении фантастичность - в извест-48 Проблемы текста: теоретические и прикладные аспекты / Problems of text: theory and practice ной мере - стоит в том же ряду, что и другой способ ухода от „грубой действительности^ отучаться видеть, умерщвлять в себе это чувство действительности» [4. C. 89]. При этом Петербург в тексте фантастичен, поскольку в нем реализуется инфернальная тема, злое «начало», присущее городу, в разных его вариантах - от гоголевского «Портрета» до ахматовской «Поэмы без героя» [4. C. 47-48]: в ненастную погоду, в дождь и слякоть герою чудились кошмары на улицах и «мелкие бесы», вылезающие из щелей (отсылка к Ф.К. Сологубу). Город здесь осознается автором-повествователем как одухотворенное существо, враждебное человеку. В этом умении передавать фантастику обыденного художник близок Н.В. Гоголю, Ф.М. Достоевскому, А.А. Блоку и А. Белому [10. C. 55]. Дождь, слякоть, мокрота имеют в петербургском тексте негативную семантику, поскольку «наступает беспросветность, безнадежность, тоска (зрительно - ничего не видно и не различимо; событийно - дурная повторяемость, ориентация на прошлое, отсутствие выхода, безверие)» [4. C. 36]. Герой-художник начинал верить в реальность «безвестного Макара Девушкина» [8. C. 190], образ которого приходил ему на ум при созерцании из окна пустынной стены, что стало почти кошмаром для автобиографического героя, его притягивало то, что таилось за этой страшной пустынной стеной, которую он пытался изобразить. Таким образом, сам герой столкнулся со своеобразным проявлением «петербургского» метафизического страха [4. C. 89]. Авторское самоописание в этом фантастическом «мире» перекликается с графическим изображением художником Мечтателя в книжных иллюстрациях к «Белым ночам» Ф. М. Достоевского: одиноко идущий по улице человек, закрывшийся от внешнего мира воротником, при всей своей любви к Петербургу спасающийся от угнетающих его мест. К тому же в мемуарно-автобиографическом тексте хронотоп Петербурга приобретает самостоятельное значение, как и в иллюстрациях художника к повести, где главным героем выступает город как «эквивалент духовного мира главного действующего лица» [10. C. 85]. В данном эпизоде также сказывается и двойственность художественного мировоззрения М.В. Добужин-ского, его художественный метод, позволяющий органично сочетать рациональность и эмоциональность, реализм и условность, символизм, фантастику и обыденность в изобразительном искусстве. Преодолеть психологический дискомфорт, депрессию, вызванную видом стены, художнику-повествователю позволил творческий акт: «Я почувствовал неодолимую потребность эту страшную стену изобразить, и с величайшим волнением и пристально, с напряженным вниманием, со всеми ее трещинами и лишаями ее и запечатлел, уже любуясь 49 Галькова А.В. Петербургский текст в «.Воспоминаниях» М.В. Добужинского ею... и она перестала меня угнетать. Я что-то преодолел, и эта пастель была первым моим настоящим творческим произведением» [8. C. 190]. Так герой повествования определяет для себя суть настоящего творчества - это сублимация, акт преодоления себя, своего негативного мышления, познания предмета посредством углубления в его мельчайшие детали, что позволяет перевести объект действительности в произведение искусства, при этом обретающее новую семантическую окраску. Однако автор-повествователь не способен прояснить психологический аспект изображения: «Меня и теперь удивляет, почему меня привлекала эта сторона Петербурга, а не его красота, которую я так любил с детства и продолжал любить уже сознательно» [8. C. 190]. Упоминая собственные картины в тексте произведения в связи с описанием архитектурной «изнанки» Петербурга, мемуарист не стремится в какой-либо мере описать их замысел. Вероятно, это обусловлено тем, что он раскрывает общий подход к своему живописному изображению, например, указывает на выбор ракурса. Несмотря на аналитический подход к воспоминаниям о творческом процессе, для самого автора-повествователя остаются неясными некоторые аспекты психологической составляющей творческой деятельности. Однако несмотря на то, что в мемуарно-автобиографическом повествовании упоминаются реальные здания, которые стали объектами изображения городских пейзажей, в отличие от художественных работ М.В. Добужинского, вербализованное изображение Петербурга в воспоминаниях об этой поре жизни лишено трагизма. Такова прямо не названная в повествовании картина «Домик в Петербурге» (1905) - «Эта неказистая, но ставшая мне милой петербургская „усадьба“ была неоднократно мной изображаема и в летнем ее виде, и в уютном снежном уборе» [8. C. 189]. На картине этот дом является «олицетворением жизненного уюта, который теряется в современном мире» [11. C. 92] и противопоставлен другому -безликому, огромному и скучному. Довершает композицию зловещая пустая стена. В противопоставлении этих домов символизируется подавление старого уклада современной урбанизацией, вытеснение индивидуальнонеповторимого стандартным. Современный город предстает как царство однообразия, стандарта, стирающее и поглощающее человеческую индивидуальность. Однако в тексте воспоминаний автор-повествователь себе такой цели не ставил. Этот период жизни отмечен автором-повествователем в бытовом плане как уютная спокойная семейная жизнь. Как пишет современный исследователь о картине М.В. Добужинского из цикла «Г ород», визуальный образ маленького деревянного дома в окружении индустриального города отражает «поиск своего духовного „Дома“ - родного дома с 50 Проблемы текста: теоретические и прикладные аспекты / Problems of text: theory and practice духовно чистой атмосферой. Свой „Дом“ в творчестве художников Серебряного века становится важным художественным концептом. Отеческий дом, город, деревня, повседневные вещи являются источником гармонии и счастья» [12. C. 105]. Отметив тем не менее подавляющее действие этой непарадной стороны города, герой преодолел настоящее чувство тревоги посредством художественного творчества, субъективное углубление в изображение действительности тем самым становится средством одухотворения мира, преобразующей силой искусства. Таким образом, Петербург в тексте - это город иной, «свой», ностальгический, идиллический образ, переосмысленный и навсегда утраченный героем-повествователем, однако потерявший свою мрачную сущность и оставшийся в памяти родным и прекрасным. Заканчивается повествование об «уколах» Петербурга эстетической рефлексией по поводу преодоления стеснения рисовать на улицах, которое прошло во время заграничных путешествий автобиографического героя в 1906 г. Хронотоп Петербурга разрушен 1917 г., после которого изменились взаимоотношения героя с городом: «Впоследствии это стеснение совершенно прошло, особенно после революции 1917 г.» [8. C. 191]. Рубеж-ность 1917 г. в теме Петербурга подчеркивается в тексте в очередной раз, но теперь акцентируется иная семантика этого времени - исторический переворот позволил художнику полностью изжить комплексы. Время 1917 г. - рубежное, но не конечное, отмечается, что автобиографический герой занимался изобразительным искусством в пространстве города, при этом город оставался его основной темой, однако в тексте не описываются ни характер этой деятельности, ни жизнь самого героя. Гибель города - это кульминация противостояния старого и нового Петербурга, который неумолимым ходом истории превращен в нечто совсем иное. Ленинград в мемуарно-автобиографическом повествовании -это реализация заключенного в художественном творчестве М.В. Добу-жинского противопоставления города человеку (несмотря на то, что, в отличие от других «мирискусников», художник был более гибким в восприятии новых темпов жизни и перестал видеть в машине символ бесчеловечности, мысли о трагедии человека в городе будущего [7. C. 50]), это сбывшийся и непобежденный страх, город перестал быть одухотворенным, потеряв черты романтики, он стал чисто бытовым, в нем уже невозможно реализовать мечту о жизни по законам красоты. Хронотоп Петербурга в мемуарно-автобиографическом тексте До-бужинского также связан с топосом министерства, представляющим своеобразный антимир: авторское сознание героя, вынужденного там служить, не может сжиться с реальной, иной, скрытой стороной города, 51 Галькова А.В. Петербургский текст в «.Воспоминаниях» М.В. Добужинского бездушной и серой. Атмосферу, царившую в министерстве, автор-повествователь ассоциативно соотносит с «Шинелью» Н.В. Гоголя. Служба среди «сослуживцев Акакия Акакиевича» угнетала героя, казенщина противоречила его высокохудожественной натуре, воспоминания о ней сопряжены с сожалением об утраченном времени, которое можно было бы потратить на рисование. (Сама жесткая и черствая сила строгого делового ума была чуждой духовной жизни, что отражено в работах художника «Вырубленный сад» и «Уголок Петербурга», 1904 г.). Окружающему чиновничьему миру противопоставлен личный, внутренний мир, тщательно скрываемый, переносящий героя в высшие сферы, не достижимые для других. «Но все-таки эта двойная жизнь не мешала моему искусству. Даже, может быть, наоборот. Я носил в себе скрытый от других мой любимый мир, и в этом, конечно, была своя романтика» [8. C. 181]. Внутренний мир мог реализоваться только в художественной жизни, которая одна имеет высший смысл. Автор-повествователь вербально отражает в тексте свое стремление к иному миру - «миру собственной духовной жизни, углубленному самоизучению» [7. C. 47], уходу в себя, отрешенности художника-интеллигента от жизни, такое же смысловое наполнение имеет изобразительное искусство художника в портрете поэта и критика К.А. Сюннерберга «Человек в очках» (1906 г.). Таким образом, Петербург в мемуарно-автобиографическом повествовании отразил различные черты, свойственные образу города в художественных работах М.В. Добужинского: эстетизм, трагизм, лиризм, иронию, философичность, сентиментальность, фантастичность и реальность. Петербург в «Воспоминаниях» стал средоточием различных смыслов, реальных и сверхреальных, автобиографический герой балансирует на грани своего исторического жизненного времени-пространства и ирреального, созданного за счет литературных текстов, визуальных артефактов, компенсирующих потребность в постижении «души» города. Петербург предстает в тексте как «сложное», амбивалентное пространство, насыщенное культурными кодами, отраженное познающим сознанием, которое воздействует системно, преобразуя внутренний мир героя. Тема изображения Петербурга позволяет автору-повествователю раскрыть общий подход к своему живописному искусству, переосмыслить некоторые аспекты художественной деятельности, вербализовать визуальное представление города.
Скачать электронную версию публикации
Загружен, раз: 21
Ключевые слова
Петербург, петербургский текст, мемуарно-автобиографическая проза художников, первая волна эмиграции, литература русского зарубежья, М.В. ДобужинскийАвторы
| ФИО | Организация | Дополнительно | |
| Галькова Алёна Вадимовна | Томский государственный университет | кандидат филологических наук, старший преподаватель кафедры общего литературоведения, издательского дела и редактирования | kalosagahtos@gmail.com |
Ссылки
Лотман Ю.М. Символика Петербурга и проблемы семиотики города // Семиотика города и городской культуры. Петербург. Труды по знаковым системам XVIII. Ученые записки Тартуского государственного университета. 1984. Вып. 664. С. 30-45
Лотман Ю.М. От редакции // Семиотика города и городской культуры. Тарту, 1984. С. 3.
Лотман Ю.М. Внутри мыслящих миров. Человек - текст - семиосфера - история. М. : Языки русской культуры, 1996. 464 с.
Топоров В.Н. Миф. Ритуал. Символ. Образ: исследования в области мифопоэтического: избранное. М. : Прогресс: Культура, 1995. 621 с.
Громов Ф.Ю. «Петербургский ландшафт» в творчестве «мирискусников» (тема ретроспективы исторических стилей) // Труды Санкт-Петербургского государственного университета культуры и искусств. 2009. Т. 186. С. 78-83.
Чугунов И.Г. М.В. Добужинский и его «Воспоминания» // Добужинский М.В. Воспоминания. М. : Наука, 1987. С. 321-365.
Чугунов Г.И. М.В. Добужинский. Л. : Художник РСФСР, 1984. 300 с.
Добужинский М.В. Воспоминания. М. : Наука, 1987. 477 с.
Толстая О.Н. Эволюция мифотворчества в русско-советском изобразительном искусстве // Вестник Санкт-Петербургского университета. Сер. 2. 2006. Вып. 2. С. 143-151.
Гусарова А.П. «Мир искусства». Л.: Советский художник, 1972. 97 с.
Гришина Е.В. Город - «томительная и горькая поэзия» // Декоративное искусство и предметно-пространственная среда. Вестник МГХПА. 2012. № 4. С. 92.
Усманова А.А. Философия вещи в эпоху модерна (на материале русской культуры конца XIX - начала ХХ века) // Вестник Пермского университета. Философия. Психология. Социология. 2013. Вып. 2 (14). С. 102-107.
Бенуа А.Н. Живописный Петербург // Мир искусств. 1902. Т. 7, № 1. С. 1-5.
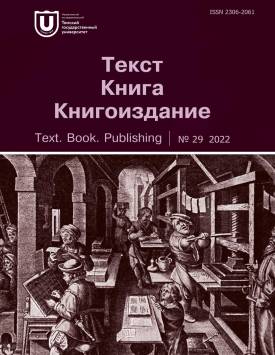
Петербургский текст в «Воспоминаниях» М.В. Добужинского | Текст. Книга. Книгоиздание. 2022. № 29. DOI: 10.17223/23062061/29/3
Скачать полнотекстовую версию
Загружен, раз: 182

 Вы можете добавить статью
Вы можете добавить статью