Анализируется журнал В.А. Жуковского «Муравейник» в сопоставлении с педагогическими изданиями М.Н. Муравьева, с привлечением новых архивных материалов. Показывается, что «Муравейник» сочетал в себе черты и учебного, и кружкового журнала. Как преимущественно учебный он воспринимался его юными участниками, как кружковый - продвигался Жуковским и П.А. Плетневым. В рамках кружковой стратегии Жуковский наполнял свои тексты в «Муравейнике» мотивами и аллюзиями, выстраивающимися в две ведущие темы - идиллическую и рыцарскую, соединявшиеся в жизнестроительном идеале рыцарской идиллии. Автор заявляет об отсутствии конфликта интересов.
Educational periodicals in the “court pedagogy” of Mikhail Muravyov and Vasily Zhukovsky. Article Three.pdf В предыдущих статьях (см. [1, 2]) нами были изучены периодические издания, издававшиеся М.Н. Муравьевым и В.А. Жуковским в ходе их педагогической деятельности при дворе - «периодические листы» «Обитатель предместия» и журнал «Собиратель». Первое из них (вместе с примыкающими к нему «Эмилиевыми письмами» и «Берновскими письмами») представляло собой художественно-дидактическую прозу идиллического толка, наполненную аллюзиями на жизненные обстоятельства своих читателей - учеников М. Н. Муравьева великих князей Александра и Константина Павловичей. Второе строилось как методическое расширение конспектов Жуковского по всеобщей и естественной истории, использовавшихся при преподавании этих дисциплин велико-89 Долгушин Д.В. Учебные периодические издания в «придворной педагогике» му князю Александру Николаевичу. Журнал «Муравейник» похож и на первое, и на второе из них. В нем сочетаются черты и учебного, и кружкового журнала. Очевидно, исходным для него был именно учебный контекст. Можно сказать, что этот журнал родился прямо в учебной аудитории. Инициатором издания, как свидетельствует П.А. Плетнев, был Жуковский, целью издания - выработка у учащихся литературного стиля, развитие у них «вкуса и охоты» «к приготовлению собственных сочинений и переводов с одного языка на другой» [3. С. 159]. Плетнев вспоминает: «Муравейник издавался с целью поощрения государя наследника и августейших сестер его, великих княжон Марии Николаевны и Ольги Николаевны, равно как и совоспитанников великого князя Иосифа Ви-ельгорского и Александра Паткуля, к практическим занятиям русским языком» [4. С. XXI]. Но, в отличие от «Собирателя», учебный характер «Муравейника» был сглажен, замаскирован, дополнен кружковыми чертами. «Муравейник» вышел из учебного класса, но сам не был похож на учебный класс. В нем не было разделения на учительскую кафедру и ученическую скамью, на того, кто учит, и того, кто внимает учению. Концепция журнала предполагала сотрудничество взрослых, именитых литераторов-учителей (Жуковского, фактически принявшего на себя обязанности главного редактора «Муравейника», и Плетнева, ставшего его помощником1) и их совсем юных учеников и учениц. Александру Николаевичу и А. В. Паткулю на момент начала издания шел всего тринадцатый год, И. М. Виельгорскому - четырнадцатый, Марии Николаевне - двенадцатый, а ее сестре Ольге - и вовсе девятый. Их неумелые детские сочинения должны были соседствовать с шедеврами Жуковского под одной обложкой, причем авторство и тех, и других обозначалось одними только литерами2, что создавало иллюзию равенства. Даже саму идею об издании журнала Жуковский и Плетнев постарались преподнести своим ученикам не как педагогическую директиву, а как совместный с ними замысел. Плетнев рассказал о нем на уроке по русскому языку 23 января 1831 г. Великий князь Александр Николаевич в этот день записал в своем дневнике: «У П.[етра] Александровича] мы переводили с французского на русский, и сегодня положили, что впредь в каждую 1 За технической стороной печатания надзирал С. А. Юревич. 2 П.А. Плетнев пишет: «Собственные сочинения и переводы В.А. Жуковского служили для них, конечно, лучшими образцами. Их легко отличить от первых детских опытов. Последние обозначались тогда одною первою буквою имени, иногда с присоединением первой буквы фамилии, напр., А., или А.Р. (Александр Романов), М., или М.Р. (Мария Романова). Иногда же эти буквы выставляемы были наоборот. Случалось, что вместо них являлись и произвольно придуманные буквы» [4. С. XXI]. 90 Книга в контексте культуры /Book in culture субботу будет издаваем журнал, заключающий в себя наши переводы, которые В.[асилий] А.[ндреевич] найдет достойными для помещения» [5. Л. 7 об.]1. Как видим, наследник престола был уверен, что он сам и его товарищи по учебе участвовали в принятии решения о журнале -«положили» его издавать. Статус «Муравейника» как журнала «кружкового», а не наставнического подчеркивался и его подзаголовком: «Муравейник, литературные листы, издаваемые неизвестным обществом неученых людей» [6. С. 248]. Исследователи справедливо видят здесь отсылку к «Арзамасу», «Арзамасскому обществу безвестных людей». Но, кроме того, нужно учесть и опыт участия Жуковского в других кружковых сообществах, предшественниках «Арзамаса» - домашних кружках в Муратово, Дол-бино, Черни («Academie des curieux impertinents»). Именно в них существовала практика домашних изданий - рукописных газет «Муратовская вошь», «Муратовский сморчок», «Полночная дичь». В отличие от этих изданий и протоколов «Арзамаса» в «Муравейнике» игровая стихия используется очень умеренно. В нем нет кружковых прозвищ (имена авторов скрываются всего лишь за буквенными сокращениями), нет веселой галиматьи, нет кружковых ритуалов. Из «арзамасского» наследия «Муравейником» была востребована не столько буффонная игра, сколько идеал нравственного братства. В этом смысле концепции журнала ближе, чем «Арзамас», оказались «серьезные» кружки пансионского происхождения, также сильно повлиявшие на Жуковского, - Собрание благородных воспитанников университетского пансиона, Дружеское литературное общество. Высказывание Андрея Тургенева о втором из них («цель наша - образование себя в литературе, особенно в русской, образование нравственного нашего характера» [7. С. 459]) могло бы стать эпиграфом к «Муравейнику». Впрочем, в качестве эпиграфа Жуковский воспользовался другим текстом из своей юности. На титульный лист «Муравейника» он вынес две последних строфы из стихотворения Ф. Шиллера «Идеалы» [6. С. 248], к переводу которого обращался сначала в 1806 г. («Отрывок»), а потом в 1812 г. («Мечты»). Речь в этих строфах идет о дружбе и труде. Дружбу Шиллер сравнивает с нежной рукой, исцеляющей все сердечные раны. Труд - со строительством для вечности из крупинок времени, песчинка за песчинкой, Sandkorn fur Sandkorn. Названием журнала Жуков- 1 Цитаты из дневника и рабочих тетрадей великого князя Александра Николаевича здесь и далее приводятся с расстановкой пропущенных им пунктуационных знаков, но с сохранением особенностей написания, в том числе орфографических ошибок. 91 Долгушин Д.В. Учебные периодические издания в «придворной педагогике» ский как бы развивал эту метафору Шиллера: именно так трудолюбиво и дружно, перетаскивая песчинки, строят свой муравейник муравьи. Эпиграф должен был объяснить название журнала. О том, что муравей -символ трудолюбия, ученикам Жуковского было прекрасно известно из эмблематики и басен Крылова и Лафонтена. Но еще он - символ братского сотрудничества. Этот смысл Жуковский хотел напомнить с помощью «Идеалов» Шиллера. Вся юность Жуковского прошла в поисках «сочувственников», под знаком мечты о «счастии», под девизом «l’activite dans un petit cercle» -поэтической деятельности в «малом круге» чувствительных душ. Этот идеал он вынес из Московского благородного пансиона и тургеневского кружка, сохранил его в перипетиях личных драм и теперь искал ему применения при дворе. Очень многое в «Муравейнике» родом из юности Жуковского. Это не только апология самооценки и самонаблюдения по методике Б. Франклина в статье «Способ обратить добродетель в привычку» (Муравейник. 1831. № 3) [6. С. 248], но и сам тип журнала для «полезного и приятного препровождения времени», созданного совместными трудами кружка молодых друзей. В Московском благородном пансионе литературное творчество учащихся усиленно поощрялось, их сочинения и переводы постоянно публиковались в пансионских изданиях («Утренняя заря», «И в отдых и в пользу», «В удовольствие и пользу» и т.д.). Фактически, задумав «Муравейник», Жуковский обратился к этому опыту, впрочем, добавив к нему и некую толику арзамасского наследия. Итак, можно сказать, что, позиционируя «Муравейник» как кружковое издание, Жуковский надеялся сформировать вокруг него дружеское сообщество, объединяющее учителей и учеников на поприще литературы, что, как он знал из собственного опыта, необычайно плодотворно в педагогическом отношении. Кроме того, участие в таком сообществе способствовало бы обогащению жизненного кругозора будущего императора. Постигая азы кружкового общения (так же, как с помощью Д.Ф. Ливен он постигал азы общения салонного), великий князь Александр Николаевич смог бы составить представление о специфике литературного быта своего времени, ведь, по верному наблюдению У.М. Тодда III, именно модель «дружеского сообщества», пришедшая на смену модели покровительства, лежала в основе литературных коммуникаций первой четверти XIX в. (см. [8. C. 62-86]). Все эти надежды не сбылись. Слишком юный возраст, специфическая социальная принадлежность и связанные с ней жизненные приоритеты, наконец, личные склонности и способности не позволили учени-92 Книга в контексте культуры /Book in culture кам Жуковского откликнуться на его жизнестроительный посыл. «Муравейник» воспринимался ими, скорее, как часть школьной рутины, чем как увлекательное интеллектуальное приключение. По крайней мере, именно так относился к нему главный адресат педагогических усилий Жуковского - великий князь Александр Николаевич1. Красноречив (или, вернее, молчалив) в этом отношении дневник великого князя за 1831 г. Упоминания о «Муравейнике» в нем крайне скудны. Первый раз «Муравейник» упоминается в уже процитированной выше записи 23 января, второй раз - в записи 2 февраля 1831 г., в которой Александр Николаевич сообщает: «Сегодня вышел первый номер нашего журнала Муравейника» [5. Л. 11 об.]). Затем упоминания о «Муравейнике» исчезают -так что мы не можем знать, когда появились следующие его номера (всего их было пять). И только 13 марта 1831 г., в пятницу, Александр Николаевич записывает: «После обеда я читал описание военной игры2, а потом мы читали некоторые статьи из Муравейника» [5. Л. 23]. Обратим внимание, что здесь журнал уже не называется «наш». Большинство опубликованных в «Муравейнике» «детских» текстов были связаны не со свободным творчеством, а с учебным процессом и часто представляли собой упражнения, выполнявшиеся в качестве домашнего или классного задания. 13 из 19 материалов первого и второго номера - не что иное, как переводы, в которых ученики Жуковского и Плетнева регулярно практиковались на уроках (см. об этом в исследовании Д. Ребеккини, настаивающего на чисто учебном характере «Муравейника» [10. C. 26]). Например, в рабочей тетради Александра Николаевича сохранился черновой набросок прозаического перевода на русский язык знаменитой баллады У. Вордсворта «Нас семеро». В его текст рукой учителя (Жуковского?) внесены исправления, а в качестве оценки подведен неутешительный итог - «9 правоп.», «4 грам.», т.е. 9 орфографических и 4 грамматические ошибки [11. Л. 4]. В доработанном и расширенном виде этот перевод был опубликован во втором номере «Муравейника». В тетрадках Александра Николаевича сохранился и набросок русского перевода рассказа И. Гебеля «Каннитферштан» [11. Л. 37-40], опубликованного в пятом номере «Муравейника». На уроках словесности ученики занимались не только переводами, но и написанием сочинений. «У П.[етра] Александровича] мы писали описание учебной комнаты», - сообщает наследник престола 30 января 1831 г. [5. 1 Возможно, более способная и литературно одаренная великая княжна Мария Николаевна смотрела на это дело и иначе. 2 Имеется в виду [9]. 93 Долгушин Д.В. Учебные периодические издания в «придворной педагогике» Л. 9 об.], «у П.[етра] Александровича] мы сочиняли по данным сюжетом», - записывает он 6 февраля 1831 г. [5. Л. 12 об.]. Некоторые из этих сочинений предназначались для «Муравейника» - впрочем, чаще всего их следовало бы называть изложениями, а не сочинениями: в основе их лежали уже готовые тексты. Так, например, сочинение об Александре Невском, заданное наследнику престола, представляло собой просто пересказ письма, написанного ему Жуковским из-за границы 1 января 1828 г. Написано оно было не без трудностей. 25 апреля 1831 г. Александр Николаевич корил себя: «За уроком г. Плетнева, писав по диктовке, зделал много ошибок. Я так же забыл докончить перевод и написать о Александре Невском» [5. Л. 34 об.]. В конечном итоге миниатюра «Александр Невский» была все-таки завершена и опубликована в пятом номере «Муравейника». Преподавание словесности при дворе не ограничивалось учебной аудиторией. По вечерам для наследника и его сестер устраивались литературные чтения. В феврале - августе 1831 г. проводили их или учителя (Жуковский и Плетнев), или помощник воспитателя С.А. Юревич, или специально приглашенный для обучения царских детей декламации артист французской труппы по фамилии Жениес. Свои занятия с ними он начал 14 февраля с чтения «Сида» П. Корнеля, которое произвело на слушателей сильное впечатление. «Вечером г. Жениес читал нам трагедию Сида, - записал Александр Николаевич в своем дневнике, - и мне было это весьма весело, у него удивительный голос и большое искусство читать» [5. Л. 14]. Выбор произведения для чтения явно не случаен: в первом и втором номерах «Муравейника» Жуковский поместил свой перевод испанского эпоса о Сиде. Средневековая рыцарская тема вообще, как мы увидим дальше, занимала ключевое место в журнале, и это вполне гармонировало с учебным планом: зимой - весной 1831 г. на занятиях по истории Александр Николаевич как раз проходил средние века. Теодорих, Юстиниан, Альфред Великий, Карл Великий, норманны, Вильгельм Завоеватель, крестовые походы - эти имена и темы мелькают на тех страницах его дневника, где он рассказывает об уроках Ф.И. Липмана и Ф. Жилля. Видимо, к этой тематике Жуковский и Плетнев старались приспособить и выбор книг для чтения. 13 и 27 февраля, как сообщает Александр Николаевич, «П.[етр] Александрович] читал нам Иоанну д’Арку» [5. Л. 14, 19] (т.е., видимо, драму Жуковского / Шиллера «Иоанна д’Арк»), а в июле наследник престола самостоятельно прочитал во французском переводе роман В. Скотта «Талисман, или Ричард в Палестине» [5. Л. 54] о третьем крестовом походе. Если ученические материалы в «Муравейнике», как правило, связаны с учебным контекстом, то в собственных своих материалах Жуков-94 Книга в контексте культуры /Book in culture ский активно старается задействовать кружковый контекст и щедро рассыпает аллюзии на жизненные обстоятельства своих юных сотрудников и подопечных. В этом он идет вслед за М.Н. Муравьевым, следовавшим той же стратегии в «Обитателе предместия» (см. [1]). Можно сказать, что в «Муравейнике» вообще много муравьевского, включая само название этого журнала. Мы уже писали [1. С. 16], что оно могло иметь особый подтекст: М.Н. Муравьев, человек очень семейственный и гостеприимный, всю свою многочисленную родню, которую любил по воскресеньям собирать за обеденным столом, «ласково именовал “муравейником”» [11. С. 34]. Жуковский, близко общавшийся с Муравьевым и его двоюродным племянником К.Н. Батюшковым, наверняка знал это домашнее словечко и, используя его для названия журнала, не мог не вспомнить о своем выдающемся предшественнике на поприще придворной педагогики. Как мы показывали в первой статье, для «Обитателя предместия» характерна идиллическая доминанта. Она присутствует и в «Муравейнике». Второй номер «Муравейника» открывается очень похожим на прозу Муравьева текстом Жуковского - «Письмом к издателю» (см. о нем [12]). В нем изображено дворянское семейство, собирающееся переезжать на лето из Москвы в поместье. В центре внимания - дети, сверстники подопечных Жуковского. Возраст Григория и Ивана совпадает с возрастом Александра Николаевича на 1829 г. (время, когда писалось «Письмо», предназначавшееся первоначально для «Собирателя»), возраст Веры - с возрастом Марии Николаевны. Этот же прием придания детским персонажам черт своих учеников использовал в свое время и Муравьев. «Приятная семейственная картина» [6. С. 269] в тексте Жуковского, как и в текстах Муравьева, должна была быть изображена на идиллическом фоне сельского быта. Жанровая принадлежность «Письма» автором не определена, но, по сути, это идиллия. В нем почти нет действия, нет конфликта, но есть упоение уютом семьи и гармонией природы. Описание поместья и его окрестностей, занимающее примерно половину всего текста, сделано с ностальгической любовью. Некоторыми топографическими и архитектурными особенностями изображенное в «Письме» поместье напоминает Мишенское, в котором прошло детство Жуковского1. Магистральная тема идиллии - ненарушимость гармонии - часто заостряется в ней темой катастрофы, темой смерти. Показательно в этом 1 Так, например, при описании окрестностей поместья в «Письме» упоминается, что «из одного камня бьет ключ, который называется в селе гремячим; вода его собирается в водоем» [6. С. 271]. Именно так назывался любимый ключ Жуковского в Мишенском [14. С. 102]. 95 Долгушин Д.В. Учебные периодические издания в «придворной педагогике» смысле обращение Жуковского к балладе У. Вордсворта «Нас семеро», сразу два прозаических перевода которой (сделанных Александром Николаевичем и Марией Николаевной) он включил в «Муравейник». Для главной героини этой баллады, сельской девочки, смерти нет, она никак не может взять в толк, что ее умершие братик и сестричка чем-то отличаются от живых: все едины и живы в идиллическом мире. Идиллическое упразднение смерти характерно и для И. Гебеля, переложениями которого насыщен «Муравейник». В стихотворной повести Жуковского «Неожиданное свидание», написанной на основе одного из рассказов Гебеля для первого номера «Муравейника», невеста, на закате жизни увидевшая сохранившееся в штольне тело своего давно умершего жениха, хоронит его со словами уверенной надежды: «Что однажды земля отдала, то отдаст и в другой раз» [6. С. 297]. В «Разговоре деда с внуком» (под таким названием Мария Николаевна переложила в прозе стихотворение Гебеля / Жуковского «Die Verganglichkeit» / «Тленность») беспощадная поступь времени упраздняет лишь земное. Ей неподвластен небесный город, где после смерти оказываются все добрые люди. Оттуда, с неба, они смотрят на место, где была когда-то земля: «И может случиться, что, ходя по Млечному пути, ты взглянешь вниз и скажешь своему товарищу: “Посмотри, там земля была некогда. Я там жил, пахал, пас овец, там моих родителей проводил в могилу. Я там счастлив был, но здесь мне лучше”» [6. С. 267]. «Взгляд на землю с неба» - эта идиллическая оптика определила и название текста, открывающего первый номер «Муравейника». В этой статье, написанной Жуковским, очевидно, по мотивам первой главы «Идей к философии истории человечества» И.Г. Гердера и явно перекликающейся со статьей «Взгляд на мир и человека» из «Собирателя», изображен разговор двух ангелов, в котором обнаруживается, что у людей, у этих «мгновенных обитателей» земной пылинки, есть то, что недоступно «безмятежному величию» ангелов: тайна страдания и тайна смерти. Это блаженные, а не проклятые тайны, постижение их открывает «сладость надежды, спокойствие веры, веселие любви» [6. С. 250251]. Страдание и смерть лишаются трагичности, все мироздание предстает «необъятным океаном света, коего волны быстро летят и гармоническим громом своим славят Вседержителя» [6. С. 251]. Эта картина была настолько дорога Жуковскому, что он позже изобразил ее на фронтисписе VII тома 5-го издания своих сочинений, разместив вокруг нее, подобно клеймам на иконе, миниатюры, иллюстрирующие ключевые события его жизни - «карту судьбы своей» [15. C. 33]. В пространстве «Муравейника» тезис об идиллической природе мироздания нуждался и в более доступном для учеников Жуковского во-96 Книга в контексте культуры /Book in culture площении, и он нашел его в стихотворении «Остров», опубликованном в пятом номере журнала. В этом стихотворении «милый островок» оказывается не просто идиллически локусом, но местом соединения небесного и земного, на что Жуковский намекает, используя знаковые для своей поэтической философии образы звезды и гения. Гений в его лирике конца 1810 - начала 1820-х гг. - это вестник небесного на земле, мимопро-летающий и быстроисчезающий. На острове гении никуда не исчезают, они здесь живут, это их небесная среда обитания: «Там гении крылаты / Играют при луне, / Пьют листов ароматы / И плещутся в волне» (в печатном тексте, опубликованном в «Муравейнике», этой строфы не было, Жуковский добавил ее в беловом автографе 26 августа 1831 г. [6. С. 752]). Звезды в лирике Жуковского являются «прощальными», они остаются на темном небосклоне земли после исчезновения мимопроле-тевшего гения и подобны окнам, через которые небесный свет проникает в «темную область земную». В стихотворении «Остров» эти окна распахнуты настежь: «Там звезды ясной ночи / Сквозь темный свод древес / Глядят, как будто очи / Блестящие небес» [6. C. 318]. Но остров - это не только место метафизического соединения небесного и земного, это и реальный Детский остров в Александровском парке Царского Села, который Николай I подарил своим маленьким детям. Он стал «территорией детства», местом их игр и первых самостоятельных трудов. «Юные хозяева справляли здесь детские праздники, ловили рыбу, работали на грядках, учились готовить на настоящей кухне» [16. С. 204]. Александр Николаевич любил этот остров до самозабвения. В 1831 г., после того как семья 9 июля переехала в Царское Село, он, как свидетельствует его дневник, почти каждый день «играл на острову». Видимо, под радостным впечатлением от этих счастливых детских забав Жуковский и принялся дорабатывать и расширять свое стихотворение «Остров», уже опубликованное в «Муравейнике». Летом 1830 г. на острове заканчивались работы по строительству и отделке каменного павильона - Детского домика. К.К. Мердер предложил Александру Николаевичу придумать девиз для флага, который можно было там поднять. Великий князь согласился. К. К. Мердер рассказывает: «Он сел к своему столу. сказав мне: “хорошо, я вам мой девиз сейчас нарисую”. В самом деле, через несколько времени принес мне рисунок, на коем представил водою промытую скалу, муравья и якорь, написав вокруг: постоянство, деятельность, надежда» [17. С. 49]. Таким образом, название журнала «Муравейник» соотносилось и с Детским островом как идиллическим пространством детских игр и веселых трудов на лоне природы. Девиз и флаг напоминают, однако, об 97 Долгушин Д.В. Учебные периодические издания в «придворной педагогике» еще одной доминантной теме, которая, наряду с идиллической, присутствует в «Муравейнике», - это тема рыцарства. Ей посвящена значительная часть текстов, опубликованных Жуковским в этом журнале: «Цид. Извлечение из древних романсов испанских» (№ 1, 2), «Перчатка» (№ 3), «Замок на берегу моря» (№ 4), «Сражение со змеем» (№ 4), «Песнь Регнера Лодброга» (№ 5). Такое обилие рыцарских текстов лишь отчасти можно объяснить синхронизацией «Муравейника» с учебным планом всеобщей истории, о которой шла речь выше. Ограниченный объем статьи не позволяет подробно проанализировать эти тексты. Заметим лишь, что темой рыцарства была увлечена императрица Александра Федоровна, поклонница творчества Ф. де ла Мотт Фуке. 13 июля 1829 г. во время поездки в Берлин, в которой ее сопровождал и великий князь Александр Николаевич, в честь дня ее рождения в парке Сан-Суси был устроен грандиозный праздник Белой Розы, устроенный по мотивам «Волшебного кольца» Фуке. Праздник сопровождался костюмированной рыцарской каруселью, турниром и живыми картинами. Вечером был устроен средневековый бал, в завершении которого Александра Федоровна одаривала присутствующих белыми и серебряными розами. Домашним прозвищем Александры Федоровны было Бланшфлур (так зовут героинь «Волшебного кольца» и средневековых романов о Парцифале). Романтические увлечения жены были подхвачены Николаем I. Он подарил ей дачу Александрия неподалеку от Петергофа, главным сооружением которой стал дворец Коттедж, построенный в неоготическом стиле, в виде средневекового замка. Строительство его завершилось незадолго до начала издания «Муравейника», в 1829 г. Жуковский придумал для него герб - меч, пропущенный через венок белых роз, который изображался с тех пор на всех постройках Александрии и даже на сервизах, которыми в ней пользовались. Неподалеку от Коттеджа в 1829-1831 гг. была устроена Ферма с коровником и комнатами для пастухов. Таким образом, идиллическое и рыцарское пространство стали соседствовать друг с другом. В 1831 г. царская семья часто бывала в Александрии, в конце мая -июне жила то в ней, то в Петергофе. Тексты Жуковского органично вписывались в эту семейную «рыцарскую» атмосферу, складывавшуюся не без его участия, и, вероятно, не будет большой ошибкой сказать, что жизнестроительный идеал, намеками и аллюзиями на который он наполнил «Муравейник», мог бы быть назван «рыцарская идиллия». Таким образом, исследование журнала «Муравейник» показало, что он сочетал в себе и учебные, и кружковые черты. Как учебный он вос-98 Книга в контексте культуры /Book in culture принимался его юными участниками, как кружковый - продвигался Жуковским и Плетневым, пытавшимися сформировать из своих учеников подобие литературного кружка. В рамках этой кружковой стратегии Жуковский наполнял свои публикуемые в «Муравейнике» тексты мотивами и аллюзиями, выстраивающимися в две ведущие темы - идиллическую и рыцарскую.
Долгушин Д.В. Учебные периодические издания в «придворной педагогике» М.Н. Муравьева и В.А. Жуковского. Статья первая // Текст. Книга. Книгоиздание 2020. № 23. С. 5-22.
Долгушин Д.В. Учебные периодические издания в «придворной педагогике» М.Н. Муравьева и В.А. Жуковского. Статья вторая // Текст. Книга. Книгоиздание 2021. № 26. С. 88-103.
Долгушин Д.В. «Общество светлого мира, веселых трудов и умилительной искренности..»: Придворное педагогическое сообщество 1820-1830-х годов в мемуарах П.А. Плетнева // Представления о прошлом в памятниках письменности XVI-XX вв. / отв. ред. А.Х. Элерт. Новосибирск : Ин-т истории СО РАН, 2021. С. 129-174.
Годы учения Его Императорского Высочества наследника цесаревича Александра Николаевича, ныне благополучно царствующего государя императора. Т 1. СПб., 1880. 494 с.
ГАРФ. Ф. 678. Оп. 1. № 275 (Дневник великого князя Александра Николаевича, 1 января - 31 августа 1831 г.).
Жуковский В. А. Полное собрание сочинений и писем : в 20 т. / ред. коллегия: И.А. Айзикова, Э.М. Жилякова, В.С. Киселев, О.Б. Лебедева, Н.Е. Никонова, И.А. Поплавская, А.С. Янушкевич (гл. редактор). Т 11 (первый полутом): Проза 1810-1840-х годов / ред. А.С. Янушкевич. М. : Издательский Дом ЯСК, 2016. 1048 с.
Жуковский В. А. Полное собрание сочинений и писем : в 20 т. / ред. коллегия: И.А. Айзикова, Э.М. Жилякова, Ф.3. Канунова, О.Б. Лебедева, И.А Поплавская, Н.Б. Реморова, А.С. Янушкевич (гл. редактор). Т. 8: Проза 1797-1806 гг. / ред. И.А. Айзикова. М. : Языки славянских культур, 2011. 536 с.
Тодд III УМ. Литература и общество в эпоху Пушкина / пер. с англ. А.Ю. Миролюбовой. СПб. : Академический проект, 1996. 306 с.
ГАРФ. Ф. 678. Оп. 1. № 210 (Описание военной игры, изобретенной прусской военной артиллерии поручиком Рествицем. Берлин, 1824. Перевел с немецкого Его Императорского Высочества великого князя Михаила Павловича адъютант полковник Шарнгорт. СПб.: печатано в Военной типографии Главного штаба Его Императорского величества, 1831).
Ребеккини Д. Перевод как инструмент образования в педагогической деятельности В.А. Жуковского (о сборнике «Муравейник» 1831 года) // Русская литература. 2016. № 3. С. 20-27.
ГАРФ. Ф. 678. Оп. 1. № 188 (Учебные переводы великого князя Александра Николаевича, 1829-1831).
Кошелев В. А. Константин Батюшков. Странствия и страсти. М. : Современник, 1987. 351 с.
Янушкевич А.С. Путь В.А. Жуковского от русской идиллии к русской повести: деревенский топос // Вестник Томского государственного университета. Филология. 2013. № 1 (21). С. 105-124.
В.А. Жуковский в воспоминаниях современников / сост., подгот. текста, вступ. статья и коммент. О.Б. Лебедевой и А.С. Янушкевича. М. : Наука, Школа «Языки русской культуры», 1999. 726 с.
Вуич Л.И. «Карта судьбы моей..» // «Жизнь и Поэзия одно..». В.А. Жуковский: Изобразительные и документальные материалы из собраний Пушкинского Дома: Каталог / науч. ред. Т.И. Краснобородько, Е.О. Ларионова, вступ. ст. Л.Е. Мисайлиди, Л.И. Вуич. СПб. : Логос, 2013. 86 с.
Зимин И.В. Территория детства // A maximus ad minima. Малые формы в историческом ландшафте : сборник статей по материалам научно-практической конференции. СПб. : ГМЗ «Петергоф», 2017. С. 203-205.
Татищев С.С. Император Александр II. Его жизнь и царствование. Т. 1. СПб., 1903. 554 с.
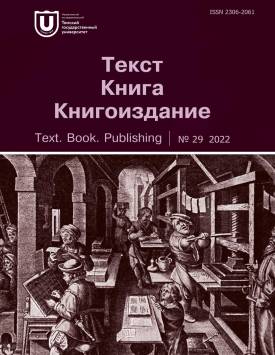

 Вы можете добавить статью
Вы можете добавить статью