Статья посвящена исследованию англоязычной переводческой рецепции повести А.П. Чехова «Степь». Представлен обзор переводов повести (Э. Кэй, К. Гарнет, Р. Хингли, Р. Уилкса, Р. Пивера и Л. Волохонской) в их связи с общими этапами восприятия прозы Чехова в Англии и США, а также в контексте традиций и подходов к переводу русской классики в англоязычной культуре. На основе сравнительно-сопоставительного анализа выявляется проблема передачи в переводах образа степи, в частности его пространственных характеристик. Авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов.
Anton Chekhov’s novella The Steppe in English translations.pdf История переводческой рецепции наследия Чехова в англоязычном мире насчитывает 130 лет (первым на английский язык был переведен рассказ «Дома» в 1891 г.). Как отметила М.А. Шерешевская, неустанное и неуклонное стремление по возможности максимально приблизить английские переводы Чехова к подлинникам является свидетельством любви к русскому писателю в странах английского языка [1. C. 398]. Можно утверждать, что и в XXI в. она находит новые подтверждения. Так, в 2014 г. Британский фонд Антона Чехова, возглавляемый чеховедом и переводчицей Розамундой Бартлетт, объявил о проекте «Перевод раннего Чехова» (Early Chekhov Translation Project), цель которого - силами пере-водчиков-добровольцев дать англоязычному читателю возможность познакомиться со многими ранее недоступными ему произведениями Антоши Чехонте. В первый том издания вошли более 60 текстов, которые впервые получили свое воплощение на английском языке. Учитывая, что «литературное взаимодействие имеет характер прежде всего переводов» [2. C. 139], актуальной задачей современного чехове-дения, ставящего в центр внимания вопросы восприятия наследия писателя в мировой культуре, является систематизация, анализ и оценка накопленного на данный момент внушительного корпуса англоязычных переводов его произведений. Ключевая роль переводов в рецепции творчества Чехова не только как конкретной формы ее осуществления, но как первого и необходимого ее условия очевидна. Она подтверждается мнением ряда критиков, литературоведов, переводчиков и издателей, чьими усилиями чеховское творчество стало широко известно в Англии и Америке. 7 Олицкая Д.А., Черткова В.В. Повесть А.П. Чехова «Степь» в англоязычных переводах Первый оценивший величину таланта Чехова писатель и журналист А. Беннет подчеркивал, что ранние английские переводы рассказов Чехова из-за своего низкого качества не позволяли критикам сформировать о писателе однозначного мнения [3. P. 88]. Свои сомнения в адекватности критических оценок, основанных на «приблизительных» и «грубых» переводах, «искажающих манеры, своеобразие, характер» русских писателей, в их числе Чехова, высказывала В. Вульф [1. C. 380]. По наблюдениям М.А. Шерешевской, выводы Дж. Голсуорси о «пагубном влиянии» Чехова на молодых английских новеллистов также были в значительной степени обусловлены ранними переводами, которые не раскрывали новаторских принципов поэтики писателя [1. C. 381]. Вместе с тем любые переводы выполняли свою главную функцию - знакомили широкого читателя с Чеховым. От выбора переводчика зависело, увидят ли читатели и критики в Чехове «художника бесполезно протекающей жизни» (Р.Э.К. Лонг), мастера тонкого психологического анализа (С.С. Котелянский и Дж.М. Марри) или «русского О’Генри» (И. Гольдберг и Г.Т. Шниткинд). С ростом популярности личности и творчества Чехова в англоязычном мире увеличивалось количество конкурирующих переводов его произведений, ситуация переводной множественности сформировала почву для размышлений о специфике художественного метода писателя с точки зрения возможностей его воплощения средствами английского языка [4]. В разнообразном перечне работ, посвященных вопросам восприятия наследия Чехова в англоязычном мире, на сегодняшний день можно выделить лишь две, в которых переводческая рецепция его отдельных произведений стала предметом специального интереса и получила комплексное освещение. В диссертации Т.Б. Аленькиной [5] рассматривается феномен адаптации чеховской «Чайки» в англоязычных переводах, в исследовании Е.В. Селезневой [6] целостно изучены переводы повести «Скучная история» на английский язык в их соотношении с литературно-критическим и литературоведческим восприятием. Данные исследования показывают продуктивность подхода, при котором сравнительно-сопоставительное изучение множественных переводов, присутствующих в принимающей культуре, дает представление о глубине постижения смыслов оригинала и их трансформациях в ином национальном и культурном контексте. В нашем исследовании мы обращаемся к рассмотрению истории англоязычной переводческой рецепции повести А.П. Чехова «Степь», основным объектом внимания в сравнительном анализе являются особенности репрезентации образа степи в переводах повести, выполненных 8 Проблемы текста: теоретические и прикладные аспекты / Problems of text: theory and practice Э.Л. Кэй (1915), К. Гарнет (1919), Р. Хингли (1980), Р. Уилксом (2001), Р. Пивером и Л. Волохонской (2004). Период первого знакомства англоязычной публики с повестью «Степь» пришелся на середину 1910-х гг. Именно к этому времени в Англии и США уже сформировался достаточно высокий интерес к творчеству Чехова. Ежегодно в свет выходило сразу несколько сборников рассказов (в переводе Р. Лонга, М. Фелл, С. Котелянского и др.), как правило, включавших и впервые переведенные, регулярно появлялись критические статьи и обзоры опубликованных переводов с их оценкой. В 1915 г. в Лондоне вышел сборник «The Steppe and Other Stories» [7], переводы для которого выполнила Эделин Листер Кэй. О личности переводчицы на данный момент ничего не известно. Кроме заглавной «Степи» сборник, опубликованный в 1916 г. также и в США, содержал восемь рассказов, написанных Чеховым в период с 1886 по 1899 г.: «В овраге» (1899), «Перекати-поле» (1887), «Ванька» (1886), «Кошмар» (1886), «Тоска» (1886), «Человек в футляре» (1898), «Крыжовник» (1898), «О любви» (1898). Структура сборника показывает скорее случайный принцип отбора и расположения рассказов как в тематическом, так и хронологическом отношении, что было характерно в целом для издательских и переводческих стратегий того времени. В небольшом предисловии переводчицы получили отражение представления о Чехове как писателе, дающем глубокую трактовку «русской натуры», но с мрачным взглядом на жизнь. Пантелея из чеховской «Степи» Кэй приводит в пример как типичного героя чеховских рассказов - мужика, принимающего любой удар судьбы «с достоинством стоиков» [8. P. V]. Переводы Кэй получили невысокую оценку критиков за буквализм и неумелые приемы передачи русских реалий [1. C. 375], это позволяет предположить, что она не занималась переводами профессионально. Тем не менее, по-видимому, именно этот сборник переводов сыграл важную роль в творческом диалоге К. Мэнсфилд - А.П. Чехов. Так, рассказ Мэнсфилд «Prelude», ознаменовавший ее переход к новой, «чеховской» манере, несет на себе явные следы воздействия «Степи» [9], с которой английская писательница, скорее всего, познакомилась благодаря переводу Кэй. О том, что Мэнсфилд считала «Степь» одним из главных произведений Чехова, позволяет судить ее следующее высказывание в одном из писем: «Я перечла “Степь”. Что тут можно сказать? Это просто одно из самых великих произведений мировой литературы - своего рода “Илиада” или “Одиссея”. Я, кажется, выучу это путешествие наизусть. Есть вещи, о которых говоришь - они бессмертны...» [9]. Отметим также, что рассматриваемый сборник пережил ещё одно издание в 1970 г. 9 Олицкая Д.А., Черткова В.В. Повесть А.П. Чехова «Степь» в англоязычных переводах [8], это позволяет считать перевод, выполненный Кэй, полноправной репрезентацией чеховской «Степи» в англоязычной культуре. Практически одновременно с переводами Кэй, в 1916 г. в лондонском и нью-йорском издательствах вышли в свет два первые тома собрания «The Tales of Tchekhov» («Рассказы Чехова») [10, 11] в переводах Констанс Гар-нет, к тому времени уже заслужившей прочную репутацию лучшей переводчицы русской прозы. Из представленных в тринадцатитомном собрании Гарнет двух сотен рассказов и повестей Чехова более половины были впервые переведены на английский язык. Хронология внутри томов по-прежнему не соблюдалась, однако в предисловии к изданию была заявлена тематическая классификация, согласно которой рассказы распределялись по томам: юмористические рассказы; рассказы о провинции и ее многообразных типах - помещиках, чиновниках, учителях и т.д.; рассказы о деревенской жизни; рассказы о людях странных, деклассированных; психологические этюды. Таким образом, классификация представляла англоязычному читателю Чехова как художника русской жизни, мастера в изображении разнообразных типов героя, а также тонкого исследователя внутреннего мира человека. Перевод «Степи» был включен Гарнет в седьмой том издания «The Bishop and Other Stories» (1919) [12] наряду с рассказами «Архиерей» (1902), «Святой ночью» (1886), «Кошмар» (1886), «Перекати-поле» (1887), «Убийство» (1895), что задавало определенный ракурс восприятия повести. На первый план выдвигалась фигура отца Христофора, включенная в собирательный образ русского духовенства. В 1920-х гг. большинство английских и американских критиков практически безоговорочно признали за Гарнет первенство в переводах Чехова. В качестве их главных достоинств назывались содержательная и стилистическая точность, благодаря которым англоязычный читатель, наконец, открыл для себя русского писателя. Об особом статусе классики, который получили гарнетовские переводы Чехова в англоязычной культуре, свидетельствует количество их переизданий. Можно говорить о том, что в 1920-1950-е гг. перевод Гарнет, многократно публиковавшийся в составе различных антологий и сборников, выполнял функцию основной репрезентации чеховской повести на английском языке не только для читателей, но и для исследователей творчества писателя. Третий перевод «Степи» на английский язык появился в 1980 г. и был выполнен профессором Оксфордского университета Рональдом Хингли, автором двух монографий о Чехове [13, 14], переводчиком и редактором «Оксфордского Чехова» («The Oxford Chekhov», 1964-1980 гг.) [15], одного из самых полных зарубежных собраний сочинений писателя. Данное издание отражало специфику нового этапа (1970-1980-е гг.) восприятия Чехова. 10 Проблемы текста: теоретические и прикладные аспекты / Problems of text: theory and practice Как отмечают Т.Н. Красавченко и С.Д. Серебряный, она заключалась не только в факте органичного приятия англоязычной культурой иностранного, «чужого» писателя как «своего», но и в присвоении приоритета «на подлинность понимания его наследия» [16]. Нам представляется, что именно такая позиция была характерна для Хингли как переводчика Чехова. Выражалась она преимущественно в двух моментах. Во-первых, проанализировав опыт своих предшественников, Хингли выдвинул и реализовал в качестве главного требования к переводам естественность звучания чеховских текстов на английском языке, которая подразумевала и использование его современного разговорного варианта. Такая установка указывает на натурализацию и модернизацию как стратегии присвоения культурой «чужого» текста через перевод. Во-вторых, академическое издание «Оксфордский Чехов» Хингли опиралось на глубокое изучение творчества и жизни писателя и представляло собой первый прецедент системного осмысления его восприятия англоязычной культурой. Самой ценной частью наследия Чехова Хингли считал его зрелую прозу, именно ей были отведены шесть томов «Оксфордского Чехова» из девяти, чеховские тексты впервые располагались в них с соблюдением хронологии. Перевод «Степи» открывал четвертый том, включавший рассказы и повести 1888-1889 гг. Тем самым в издании было впервые адекватно отражено место повести как рубежного произведения, разделяющего раннее и зрелое творчество писателя. Масштабность предпринятого издания и высокая оценка, данная ему английскими рецензентами, обусловили закрепление за переводами Хингли статуса канонических в англоязычной культуре, что ставит их в один ряд с переводами Гарнет. Последние два перевода чеховской повести, представляющие современный этап ее англоязычной рецепции, вышли в свет в 2000-х гг. и отразили общую тенденцию к обновлению переводов русской классики на английский язык. В 2001 г. новый перевод «Степи» выполнил Рональд Уилкс. Выпускник Кэмбриджа и Лондонского университета, Уилкс, благодаря сотрудничеству с издательством «Penguin Books», стал одним из наиболее продуктивных переводчиков русской классической литературы (Пушкин, Гоголь, Салтыков-Щедрин, Достоевский, Толстой, Чехов, Горький, Сологуб). Уже традиционно озаглавленный как «The Steppe and Other Stories» [17], сборник стал первым из трех1, переведен- 1 Два других сборника: Chekhov A. Ward No. 6 and Other Stories, 1892-1895 / translated with Notes by Ronald Wilks with an Introduction by J. Douglas Clayton. L. : Penguin Books, 2002. 368 p. [18]; The Lady with the Little Dog and Other Stories, 18961904: Translated with Notes by Ronald Wilks with an Introduction by Paul Debreczeny. L. : Penguin Books, 2002. 384 p. [19]. 11 Олицкая Д.А., Черткова В.В. Повесть А.П. Чехова «Степь» в англоязычных переводах ных Уилксом для «Penguin Books», и содержал вместе с открывавшей его «Степью» семь рассказов и повестей Чехова 1887-1891 гг. («Свирель» (1887), «Поцелуй» (1887), «Верочка» (1887), «Именины» (1888), «Скучная история» (1889), «Гусев» (1890), «Дуэль» (1891)), при этом хронология их появления в структуре сборника вновь не учитывалась. Наконец, самый современный перевод «Степи» принадлежит дуэту нью-йоркских переводчиков Р. Пиверу и Л. Волохонской, создавшим в начале 2000-х гг. новый корпус переводов русской классической литературы на английский язык (Пушкин, Гоголь, Толстой, Чехов, Булгаков). В его основу была положена «остраняющая» стратегия перевода (форе-низация), противопоставленная укоренившейся в англоязычной культуре стратегии «сглаживающего» перевода (доместикации), которую Л. Венути подверг критике за ее этноцентризм [20]. Метод Пивера и Волохонской, воплощенный в переводах рассказов и повестей Чехова, получил противоречивые оценки. В частности, англоязычные критики отмечают, что слишком прямолинейное следование оригиналу в целях форенизации лишает читателя возможности почувствовать чеховскую иронию [21]. Перевод «Степи», выполненный Пивером и Волохонской, дал заглавие сборнику, впервые опубликованному в 2004 г. и включавшему еще четыре самые крупные по объему повести Чехова: «Дуэль» (1891), «Рассказ неизвестного человека» (1893), «Три года» (1895) и «Моя жизнь» (1896). Эти повести были отобраны, по словам Пивера, написавшего предисловие к сборнику, как дающие наиболее полное представление о жанровом новаторстве писателя, так как в них «хронотоп полноценного романа был реализован “экономными” средствами короткого рассказа» [22. P. X]. «Степь», таким образом, представлена в сборнике как первое произведение Чехова, в котором отразились эти жанровые преобразования. Интересная попытка анализа четырех из пяти перечисленных переводов «Степи» на английский язык содержится в статье переводчика, преподавателя русского языка, русской культуры и перевода в Университете Флориды А. Бурака «Чеховская “Степь”: ”ещё“ или “до сих пор“? На каком английском говорит Чехов?» («“Still” or “Yet” in Chekhov’s “The Steppe”? What Kind of English does Chekhov Speak?») [23]. Автор исходит из установки, согласно которой переводная множественность создает наилучшие предпосылки для понимания оригинала в чужой культуре. По его мнению, каждый из рассматриваемых им переводов «Степи» (Э.Л. Кэй, К. Гарнет, Р. Хингли, А. Миллера, Р. Пивера и Л. Волохонской) обладает своими достоинствами и недостатками, это лишь один из «голосов», которым Чехов говорит с англоязычным чита-12 Проблемы текста: теоретические и прикладные аспекты / Problems of text: theory and practice телем, и все они достойны быть услышанными. Выделив в качестве основных переводческих стратегий нейтрализацию, доместикацию (или натурализацию), форенизацию, контаминацию и стилизацию, на отдельных примерах Бурак убедительно показывает, что во всех переводах чеховской повести можно наблюдать их различные комбинации. Например, при переводе фразы отца Христофора «Ну да! Дулю мне под нос, а не гроши» Кэй прибегает к нейтрализации, выпуская целое предложение; Гарнет, Хингли и Миллер используют английские разговорные идиомы (fiddlesticks - дудки, kicks - пинки), реализуя прием доместикации, а Пивер и Волохонская предпочитают форенизацию, оставляя в переводе «А fig under my nose» и поясняя читателю значение выражения в сноске. Кроме этого, автор статьи перечисляет ряд проблем, с которыми столкнулись переводчики повести: от передачи украинизмов в речи персонажей до воссоздания в переводах таких сложных концептов, как «зло» и «скука». Вместе с тем за пределами обозначенной Бураком переводческой проблематики остался главный образ чеховской повести. Повесть «Степь» была написана А.П. Чеховым в 1888 г. и, по общему мнению исследователей, стала поворотной для писателя и русской литературы [24, 25]. Повести посвящен ряд фундаментальных работ отечественных и зарубежных ученых, которые раскрывают новаторство созданного в ней образа степного пространства. Особенно в них подчеркивается глубина его внутреннего содержания. Отличаясь реалистической конкретностью, «энциклопедичностью», он одновременно несет в себе значительные идейно-художественные обобщения, в центре которых находится тема «природа и человек» [24]. По словам Н.Е. Разумовой [26], степь обретает в повести характеристики определяющего пространственного ориентира в творчестве А. П. Чехова, выступает как организующая метафора авторской картины мира. Исследователь отмечает, что в своей повести Чехов впервые достиг той масштабности содержания и той гармоничности его воплощения, которые будут характерны для его зрелого творчества. В дискуссионном ключе в работах чеховедов рассматривается вопрос о национальном измерении образа степи у Чехова, который приобретает особое значение в контексте англоязычных переводческих интерпретаций повести. На связь географического фактора с фактором ментальным указывали в своих работах В.С. Соловьев, К. Леонтьев, Н.А. Бердяев, Г.Д. Гачев и др. Часто цитируемым является высказывание Н.А. Бердяева о связи «пейзажа русской души» с «пейзажем русской земли». Следуя этой логике, Ю.Г. Пыхтина относит степной пейзаж к сквозным пространственным образам русской литературы, 13 Олицкая Д.А., Черткова В.В. Повесть А.П. Чехова «Степь» в англоязычных переводах имеющим национально-специфическую окраску. С одной стороны, он олицетворяет свободолюбие русского человека, удаль, бесшабашный размах и широту его души, а с другой - передает всепоглощающую и неутолимую его тоску, рожденную бесконечным величием степных просторов [27]. Рассматривая образ степи в чеховской повести, исследователи связывают его с национальной традицией как в проблемнотематическом, так и в жанрово-поэтическом аспекте, но в то же время указывают, что национальная проблематика дополняется в нем более глубокой бытийной. Основной пространственной характеристикой степи в повести Чехова является ее бесконечная протяженность - простор, который не имеет «внутренней направленности, выстроенности, осмысленной изменчивости» [26. C. 86]. Как отметил В.Б. Катаев [28. C. 42], авторский ключ к интерпретации степной темы Чехов дал в своем письме к Д. Григоровичу от 5 февраля 1888 г. в связи со своими мыслями о возможном продолжении повести. В нем мечтам о широкой, как степь, деятельности и широкому полету мысли Чехов противопоставляет необъятную равнину, суровый климат и заключает: «Русская жизнь бьет русского человека так, что мокрого места не остается, бьет на манер тысячепудового камня. В Западной Европе люди погибают оттого, что жить тесно и душно, у нас же оттого, что жить просторно... Простора так много, что маленькому человечку нет сил ориентироваться...» [29. C. 632]. Мотив простора, таким образом, реализует в повести два плана образа степи: с одной стороны, он связан с мыслями человека о широкой, настоящей жизни, с другой - простор подавляет «маленького человека», делает очевидной его несоразмерность масштабам степи. Рассмотрим, как данный словесный мотив передан в имеющихся переводах повести на английский язык. Необходимо отметить, что слово «простор» является исконно русским и относится к ключевым элементам русской национальной картины мира. В частности, исследователи подчеркивают глубокие семантические расхождения в значениях слов «простор» и «пространство» для носителя русского языка: «В слове простор обнаруживается ширина в большей степени, чем высота или глубина. Пространство трехмерно, простор имеет только горизонтальное измерение. Eсли пространство не предполагает никакого наблюдателя, то простор - это всегда зрительно воспринимаемое открытое пространство, чаще всего связанное с равнинным степным пейзажем или с чистым полем. Пространство может быть замкнутым, для простора самое важное - отсутствие границ» [30. С. 36-37]. Представляется, что эти различия не в последнюю 14 Проблемы текста: теоретические и прикладные аспекты / Problems of text: theory and practice очередь обусловливают отсутствие единого эквивалента данному слову в переводах «Степи». Впервые в повести мотив простора появляется в описании широкой степной дороги, по которой едет Егорушка. Этот пассаж задает тему несоответствия сказочных великанов реальным людям, населяющим степь: «Что-то необыкновенно широкое, размашистое и богатырское тянулось по степи вместо дороги; то была серая полоса, хорошо выезженная и покрытая пылью, как все дороги, но шириною в несколько десятков сажен. Своим простором она возбудила в Егорушке недоумение и навела его на сказочные мысли. Кто по ней ездит? Кому нужен такой простор?» [29. С. 48]. Перевод Э. Кэй Перевод К. Гарнет Перевод Р. Хингли Перевод Р. Уилкса Перевод Р. Пивера и Л. Волохонской Instead of the road, a kind of track very unusually wide, bold and imposing extended over the steppe. It was a grey strip much driven over and covered with dust like all roads, but several tens of yards in width. Its width aroused Egorooshka's curiosity and turned his thoughts to legendary tales. Who drives along such roads? For whom is such width necessary? [8. P. 50] Something extraordinarily broad, spread out and titanic, stretched over the steppe by way of a road. It was a grey streak well trodden down and covered with dust, like all roads. Its width puzzled Yegorushka and brought thoughts of fairy tales to his mind. Who travelled along that road? Who needed so much space? [12. P. 223] Straddling the prairie was something less a highway than a lavish, immensely broad, positively heroic spread of tract -a grey band, much traversed, dusty like all roads and several score yards in width. Its sheer scale baffled the boy, conjuring up a fairy-tale world. Who drove here? Who needed all this space? [15. V. IV. P. 45] Instead of a road something exceptionally wide with a majestic sweep of heroic proportions stretched over the steppe. It was a grey strip, much-used and covered with dust, like all roads, but it was many metres wide. The sheer scale of it bewildered Yegorush-ka and conjured up thoughts of the world of legend. Who travelled along it? Who needed all that space? [17. P. 40] Something extraordinarily broad, sweeping, and mighty stretched across the steppe instead of a road; it was a gray strip, well trodden and covered with dust, like all roads, but it was several dozen yards wide. Its vastness aroused perplexity in Egorushka and suggested folktale thoughts to him. Who drives on it? Who needs such vastness? [22. P. 45] Во втором фрагменте мотив простора появляется в контексте соотнесения образа степи с общей судьбой всех персонажей повести: «Крест у 15 Олицкая Д.А., Черткова В.В. Повесть А.П. Чехова «Степь» в англоязычных переводах дороги, темные тюки, простор и судьба людей, собравшихся у костра, -всё это само по себе было так чудесно и страшно, что фантастичность небылицы или сказки бледнела и сливалась с жизнью» [29. С. 73]. Перевод Э. Кэй Перевод К. Гарнет Перевод Р. Хингли Перевод Р. Уилкса Перевод Р. Пивера и Л. Волохонской The crosses by the road, the dark bales, the wide steppe, and the fates of the people gathered around the fire were in themselves so wonderful and fearful, that the fantastic unreal paled and mingled with the real [8. P. 84] The cross by the roadside, the dark bales of wool, the wide expanse of the plain, and the lot of the men gathered together by the camp fire -all this was of itself so marvellous and terrible that the fantastic colours of legend and fairy-tale were pale and blended with life [12. P. 263] The cross by the road, the dark bales, the vast expanse around them, the fate of those round the campfire - all this was so marvellous and frightening in itself that the fantastic element in fiction and folk-tale paled and became indistinguishable from reality [15. V. IV. P. 67] The wayside cross, the dark bales, the wide expanse of steppe and the destinies of those gathered around the camp fire -all this was in itself so marvellous and terrifying that all that was fantastic about legends and folk-tales paled and could not be distinguished from real life [17. P. 67] The cross by the roadside, the dark bales, the vastness, and the destiny of the people gathered around the campfire -all this was so wondrous and fearful in itself that the fantasticality of tall tales and stories paled and merged with life [22. P. 75] В совокупности переводчики повести предлагают пять вариантов перевода слова «простор»: width (ширина, широта, расстояние) - space (пространство) - sheer scale (абсолютный масштаб) - vastness (широта, обширность, необъятность) - wide/vast expanse (широкое открытое пространство). Обращает на себя внимание то, что только в одном переводе из пяти (Пивера и Волохонской) сохраняется авторский повтор, в остальных переводах семантически целостный мотив оригинала распадается на ряд составляющих, что приводит к ослаблению его значения в тексте повести. Эквиваленты «width», «vastness» и «wide/vast expanse» выражают характеристику простора как пространства с доминирующей горизонталью, в отличие от эквивалента «space», несущего, как было указано выше, принципиально иную пространственную семантику. Отдельно необходимо отметить вариант перевода, предложенный Хингли и Уилксом. В словосочетании «sheer scale» прилагательное «sheer» имеет как значение «настоящий, абсолютный», так и «отвесный, вертикаль-16 Проблемы текста: теоретические и прикладные аспекты / Problems of text: theory and practice ный», что делает данный эквивалент наиболее противоречащим семантике слова «простор». В целом во всех рассмотренных переводах «Степи», за исключением перевода Пивера и Волохонской, мотив простора передан со значительными потерями, что связано как с его объективной межкультурной «непереводимостью», так и с особенностями индивидуальной интерпретации переводчиками. В переводе Кэй в качестве сохранившегося семантического ядра данного мотива выступает широта (width - width -wide steppe), в переводе Гарнет, Хингли и Уилкса наблюдается наиболее широкий синонимический ряд (width - space - wide expanse; sheer scale -space - vast expanse; sheer scale - space - wide expanse), в который включаются понятия, очевидно, редуцирующие специфику словесного мотива оригинала (space - sheer scale). В переводе Пивера и Волохонской мотив простора представлен более целостно за счет сохранения повтора и сочетания в значении выбранного эквивалента «vastness» двух составляющих исходной семантики: горизонтальной протяженности и безграничности пространства. Более последовательно в рассмотренных англоязычных переводах «Степи» передан мотив дали, непосредственно соотнесенный с мотивом простора, тем не менее его семантика также претерпела значительные трансформации. Слово «даль» (согласно словарю [31], далекое пространство, видимое глазом), как и простор, постоянно «удерживает» в тексте повести пространственную горизонталь, устремленную в бесконечность, формирует тем самым образ степи как бескрайнего и непреодолимого пространства («Теснясь и выглядывая друг из-за друга, эти холмы сливаются в возвышенность, которая тянется вправо от дороги до самого горизонта и исчезает в лиловой дали»; «Увидел он то же самое, что видел и до полудня: равнину, холмы, небо, лиловую даль»; «холмы всё еще тонули в лиловой дали, и не было видно их конца» и т.д.). В переводах данный словесный мотив воссоздается посредством существительного (lilac, purple) «distance», которое имеет значение «расстояние, промежуток между кем-либо или чем-либо» [32]. В нем изначально заложено существенное расхождение с исходной лексической единицей. Во-первых, в данном эквиваленте менее выражен момент зрительного восприятия пространства степи человеком, ключевой с точки зрения реализации мотивов простора и дали в чеховской повести; во-вторых, в английском «distance» ослаблена семантика бесконечности, оно указывает скорее на определенную, ограниченную протяженность пространства. При этом если Гарнет, Уилкс, Пивер и Волохонская сохраняют целостность чеховского мотива на уровне повтора, используя 17 Олицкая Д.А., Черткова В.В. Повесть А.П. Чехова «Степь» в англоязычных переводах почти во всех случаях употребления слова «даль» один эквивалент («distance»), то в переводах Кэй и Хингли мотив не только распадается на несколько семантических составляющих, но и подвергается более глубоким изменениям. Так, Кэй переводит «равнина с туманной далью» как «the plain with its misty limits» (равнина с ее туманными пределами, границами), что соответствует направлению интерпретации образа степи, заданному эквивалентом «distance», но вступает в очевидное противоречие с его авторской трактовкой. Хингли в том же и ряде других случаев заменяет «даль» на «горизонт», несмотря на то, что в чеховской повести это слово соотносится с пространством неба и тем самым получает самостоятельное смысловое наполнение. В заключение необходимо отметить, что рассмотренные переводы чеховской «Степи» являются самостоятельными репрезентациями оригинала, в своей совокупности они отражают все основные этапы переводческой рецепции повести в англоязычной культуре XX-XXI вв., демонстрируя ее продуктивность. Результаты проведенного сравнительносопоставительного анализа позволяют выдвинуть в качестве основной проблему интерпретации и воссоздания в англоязычных переводах образа степи, с которым связаны главные философские смыслы повести. Об этом свидетельствуют существенные трансформации мотивов простора и дали, формирующих в оригинале пространственную доминанту образа. Исследование показало, что трансформации связаны как с объективными культурно-языковыми различиями, ограничивающими возможности полноценного перевода, так и с индивидуальными стратегиями переводчиков, по-разному оценивающих место и значение этих словесных мотивов в тексте оригинала.
Cambridge Dictionary. URL: 22.03.2021). https://dictionary.cambridge.org/ (дата обращения: 22.03.2022 г.)
Толковый словарь Ожегова. URL: https://slovarozhegova.ru/(дата обращения: 22.03.2021).
Зализняк А.А., Левонтина И.Б., Шмелев А.Д. Константы и переменные русской языковой картины мира. М. : Языки славянских культур, 2012. 696 с.
Чехов А.П. Полное собрание сочинений и писем : в 30 т. Сочинения : в 18 т. М. : Наука, 1974-1982. Т. 7. 1977. 735 c.
Катаев В.Б. Проза Чехова: проблемы интерпретации. М. : МГУ, 1979. 326 c.
Пыхтина Ю.Г. Функционально-семантическая типология пространственных образов и моделей в русской литературе XIX - начала XXI в. : автореф. дис.. д-ра филол. наук. М., 2014. 30 с.
Разумова Н.Е. Творчество А.П. Чехова в аспекте пространства. Томск : ТГУ, 2001. 521 с.
Сухих И.Н. Проблемы поэтики А.П. Чехова. Л. : Изд-во Ленингр. ун-та, 1987. 184 с.
Громов Л.П. Реализм А.П. Чехова второй половины 80-х годов. Ростов н/Д : Ростов. кн. изд-во, 1958. 218 c.
Burak A. «Still» or «Yet» in Chekhov’s «The Steppe»? What Kind of English does Chekhov Speak? // Ten steps along the «Steppe». Charles Schlacks, Jr. Publisher Idyllwild, CA, 2017. P. 153-181.
Chekhov A. The complete short novels / transl. by Richard Pevear and Larissa Volokhonsky. N.Y. : Vintage Classics, 2005. 548 p.
Venuti L. The Translator's Invisibility. L. ; N.Y. : Routledge, 1995. 353 p.
Morson G. The Pevearsion of Russian Literature. URL: https://www.commen-tarymagazine.com/articles/gary-morson/the-pevearsion-of-russian-literature/(дата обращения: 17.03.2021).
Chekhov A. The Lady with the Little Dog and Other Stories, 1896-1904 / translated with Notes by Ronald Wilks with an Introduction by Paul Debreczeny. L. : Penguin Books, 2002. 384 p.
Красавченко Т.Н., Серебряный С.Д. Чехов в зарубежном литературоведении // Вопросы литературы. 1985. № 2. С. 210-241.
Chekhov A. The Steppe and Other Stories, 1887-1891 / transl. with Notes by Ronald Wilks with an Introduction by Ronald Rayfield. L. : Penguin Books, 2001. 369 p.
Chekhov A. Ward No. 6 and Other Stories, 1892-1895 / transl. with Notes by Ronald Wilks with an Introduction by J. Douglas Clayton. L. : Penguin Books, 2002. 368 p.
Tchehov A. The Bishop and Other Stories (The tales of Tchehov. V. VII) / transl. from Russian by Constance Garnett. L. : Chatto & Windus, 1919. 314 p.
Hingley R. Chekhov. A Biographical and Critical Study. L., 1950. 278 p.
Hingley R. A New Life of Chekhov. N.Y. : Knopf, 1976. 352 p.
Oxford Chekhov / tr. and ed. by R. Hingley. L. ; N.Y. : Oxford University Press, 19641980. V. I-IX.
Шерешевская М.А. К. Мэнсфилд и Чехов // Ученые записки ЛГУ. № 234 (Серия филологических наук. Вып. 37). Л., 1957. С. 214-218.
Tchekhov A. The Darling and Other Stories (The tales of Tchehov. V. I) / transl. from Russian by Constance Garnett. L. ; N.Y., 1916.
Tchekhov A. The Duel and Other Stories (The tales of Tchekhov. V. II) / transl. from Russian by Constance Garnett. L. ; N.Y., 1916.
Tchekhov A. The Steppe and Other Stories / transl. by Adeline Lister Kaye. L., 1915. 296 p.
Chekov A.P. The Steppe and Other Stories / transl. by Adeline Lister Kaye. N.Y. : Books for Libraries Press, 1970. 296 p.
Селезнева Е.В. Повесть А.П. Чехова «Скучная история» в англоязычной рецепции : автореф. дис.. канд. филол. наук. Томск, 2018. 19 с.
Milner-Gulland R., Soboleva O. Translating and mistranslating Chekhov // Anton Chekhov: Bloom’s Modern Critical Views. N.Y. : Bloom's Literary Criticism, 2009. P. 109-122.
Аленькина Т.Б. Комедия А.П. Чехова «Чайка» в англоязычных странах: феномен адаптации : автореф. дис.. канд. филол. наук. М., 2006. 30 с.
Жирмунский В.М. Сравнительное литературоведение: Восток и Запад. Л. : Наука, 1979. 493 с.
Bennett A. Adventures in Russian Fiction // The Soul of Russia / ed. by W. Stephens. L. : Macmillan and Co., 1916. P. 84-88.
Шерешевская М.А. Переводы (проза и письма) // Чехов и мировая литература : в 3 кн. / ред.-сост. З.С. Паперный, Э.А. Полоцкая ; отв. ред. Л.М. Розенблюм. М. : Наука, 1997-2005. (Лит. наследство; Т. 100). Кн. 1. 1997. С. 369-405.
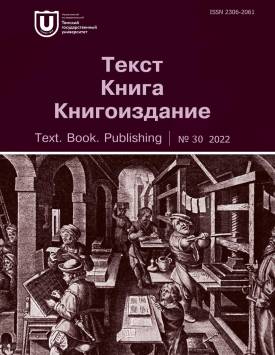

 Вы можете добавить статью
Вы можете добавить статью