Восприятие изобразительного текста: проблематизация, актуализация, новые методологические подходы
Обосновывается эффективность междисциплинарного подхода к изучению изобразительных текстов и их восприятия, формирующихся на протяжении длительного исторического периода под влиянием интегративных и дезинтегративных семиосоциопсихологических факторов. Поднимаемый вопрос проблематизируется и актуализируется с учетом современной цифровой и наступающей постцифровой реальности. Предлагается обзор новых методологических подходов к изобразительным текстам, осуществляемым с ними коммуникациям и порождаемым смыслам как продуктам визуального восприятия мира. Авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов.
Perception of pictorial text: Problematization, actualization, new methodological approaches.pdf Проблемы восприятия разного вида и формата текстов, формировавшихся на протяжении длительного исторического периода под влиянием интегративных и дезинтегративных семиосоциопсихологических факто- 38 Проблемы текста: теоретические и прикладные аспекты / Problems of text: theory and practice ров и стремительно трансформирующихся в цифровую и наступающую постцифровую эпоху, с ее противоречиями между глобальными коммуникациями и персонализацией и конфиденциальностью информации, находятся в исследовательском фокусе целого ряда гуманитарных дисциплин. Именно тексты и их восприятие являются сегодня актуальной исследовательской площадкой для решения фундаментальной научной проблемы современной коммуникации. В данной статье актуализируется и проблематизируется вопрос о восприятии изобразительного контента, который выходит в наши дни чуть ли не на первый план, определяя визуальный поворот1 в современной гуманитарной науке, формируя парадигму так называемых визуальных исследований. Понятие «визуальный поворот» не сводится ни к количественному увеличению изобразительного контента в современных коммуникативных практиках, ни к массовизации и упрощению когнитивной модели восприятия. По сути, речь идет о трансформации культурных кодов и их взаимодействиях в условиях новой мультимодальной цифровой реальности, порождающей гетерогенные тексты, что требует новых теоретико-методологических подходов в их осмыслении. Возрастание роли визуальных форм кодификации в современной культуре обусловлено не только доминантной ролью зрительного восприятия, которое «связывает все другие системы, являясь функциональным органом-преобразователем сигналов, идущих не только от видения предметов, но и от других систем психики» [1. С. 24], но также постепенным, исторически усиливавшимся влиянием визуальности на повседневную жизнь всего общества и функционирование разных социальных практик. Так, М. Маклюэн в своей книге «Галактика Гуттенберга. Сотворение человека печатной культуры» (1962), рассматривая эволюцию способов восприятия человеком информации, называет изобретение печатного станка «второй информационной революцией», определившей благодаря развитию и распространению печатных книг доминирование визуальной коммуникации. «Акцент на визуальность был совершенно невозможен до тех пор, пока изобретение печати не 1 Сегодня в науке используется одновременно несколько терминов для обозначения феномена визуальности в современной культуре: «визуальный поворот», «иконический поворот» (термин Г. Бёма), «пикториальный поворот» (термин У.Д.Т. Митчелла), они не являются в полной мере синонимичными: так, Г. Бем акцентирует в названии онтологический аспект визуального образа, Митчелл - феноменологию образа. Думается, что наиболее широким по своему значению является определение «визуальный поворот», коррелирующее с понятиями «визуальная культура», «визуальность», «визуальные исследования». 39 АйзиковаИ.А., Воробьёва Т.Л. Восприятие изобразительного текста усилило визуальный компонент восприятия написанной страницы до состояния полной однородности и воспроизводимости. Единообразие (однородность) и повторяемость (воспроизводимость), свойственные технологии книгопечатания, чуждые и даже враждебные рукописной культуре, с необходимостью предваряют формирование унифицированного изобразительного пространства и “перспективы”» [2. С. 205]. И хотя, по мнению философа и теоретика медиакультуры, ХХ в. с его технологическими открытиями вновь вернул восприятие на аудиальный канал, визуальность не уступила своих ведущих позиций, преобразовав печатный текст в разнообразные символы на экранах электронных устройств и кардинально поменяв свой характер в массовой культуре: от декодирования и интерпретации печатного слова к наглядно-образному восприятию видеоряда и «клиповому» восприятию. В условиях современной медиакультуры, сменившей установку на логократию (власть слова) направленностью на видеократию (власть видеообраза), трансформируется и значение изобразительного контента, который из области эстетического восприятия переходит в визуальную репрезентацию функциональных элементов индустриального мира (реклама товаров, маркетинг и т.п.) с их четким эмоциональным акцентом и выверенным информационно-стимулирующим посылом. Факторами, определившими усиление визуальности в современных условиях, являются не только изменения в социально-экономической структуре общества (урбанизация, цифровизация и др.), но и трансформация культурно-исторических форм социальной коммуникации, в которых возрастает роль визуальной составляющей как стимула воздействия на общество. Таким образом, вся совокупность визуально ориентированных воздействий постепенно формирует в современной культуре специфическую визуальную установку, способствующую осознанию места и роли визуальных систем в жизни каждого человека и социума. Такая общая тенденция перехода от концепта «мира как текста» к идее «мира как картины», отразившаяся во всех сферах жизнедеятельности общества, получила название «визуальный поворот». О закономерности появления тенденции к визуализации в развитых культурах в начале ХХ в. прозорливо писал русский философ, теолог П.А. Флоренский: «И в эпохи культур, достигших, казалось бы, наибольшего расцвета, сказывается некое тяготение к зрительным формам изображения понятий, при которых зрительные образы становятся способом выражения отвлеченных понятий простых и сложных и в которых конкретные изображения становятся знаком и символом идей» [3. C. 100]. 40 Проблемы текста: теоретические и прикладные аспекты / Problems of text: theory and practice С начала 1970-х гг. в англо-американской академической среде появляется новая область трансдисциплинарных исследований - «visual studies», сфокусированная на социальных эффектах визуального опыта и интегрирующая разные дисциплины: теорию образа, социологию искусства, социальную антропологию, философию и психологию восприятия, визуальную семиотику, психологию искусства (концепция «визуального мышления» Р. Арнхейма), эстетику и др. Начав с модернизации элитарных установок классического искусствознания и идеи историкокультурной обусловленности видения как психического процесса (концепт «period eye»), зарубежная визуалистика в поисках новой методологии заимствует теоретико-методологические приемы структурной лингвистики и литературоведения, расширяет проблемное поле исследования визуальной культуры. Значимым вкладом в изучение природы визуального образа стали в 1980-е гг. работы Р. Барта, С. Зонтаг, рассматривавших фотографию как проявление визуальности и социального познания. В 1990-е гг. появление нового онтологического запроса обусловило «пикториальный» поворот (термин У. Митчелла), связанный с осознанием того, что различные виды визуального опыта и визуальных практик не могут быть полностью объяснены по модели текстуальности, образы обладают своей собственной логикой формирования смысла, она альтернативна по отношению к лингвистической и реализуется в восприятии, поэтому рассмотрение визуальных образов - это исследование не категориально-мыслительного, а перцептивного опыта. Исходя из этого, отметим, что проводимые с точки зрения визуальности исследования требуют, прежде всего, междисциплинарности и выхода в прикладную область. Не умаляя важности изучения названных проблем, находящихся в поле зрения лингвистики и литературоведения, психологии и социологии, культурологии и антропологии, подчеркнем, что дисциплинарная изолированность в процессе получения новых знаний продуктивна лишь при изучении генезиса и характерных черт восприятия отдельных видов и форматов изобразительных текстов социальными, возрастными и другими группами лиц. Проблема заключается не только в том, что дальнейшее продвижение в изучении восприятия изобразительных текстов требует привлечения новых материалов и эмпирических данных, но и в необходимости разработки единых теоретико-методических оснований для изучения сложных семиосоциокультурных феноменов. Именно с этим мы связываем междисциплинарность, которая, кроме того, предполагает выбор единого объекта - в нашем случае это феномен восприятия изобразительного (а также смешанного, мультимодального) контента, чем и определяется актуальность и новизна данного исследования. 41 АйзиковаИ.А., Воробьёва Т.Л. Восприятие изобразительного текста Постановка проблемы обращает нас прежде всего к идущим со второй половины ХХ в. дискуссиям о визуальности и визуализации. Несмотря на распространение и широкое употребление в разных областях научного знания (психология, теория дизайна, педагогика, семиотика и др.) указанных терминов, их строго определенных, общепринятых дефиниций сегодня не существует. Как отмечает Е.В. Сальникова, «характерной чертой научных изысканий в области визуальной культуры, визуальной информации остаётся размытость понятия “визуальности”. Во множестве случаев, в том числе в визуальной социологии или визуальной антропологии, под визуальными подразумеваются все формы культурных явлений и произведений, воспринимаемые зрительно. При таком подходе визуальность оказывается присуща прежде всего - и фактически только - культурным явлениям» [4. C. 17]. Однако понятие визуальности не ограничивается рамками культуры, сегодня оно приобретает расширительный смысл: в его сферу активно включаются различные явления визуальной реальности в повседневной общественной практике. Размышляя о сущности визуальности, известный американский критик Хэл Фостер писал в программном предисловии к антологии «Видение и визуальность» (1988): «Несмотря на то что видение (зрение) трактует взгляд как физическое действие, а визуальность - как социальное явление, эти слова не противопоставлены как природа культуре: видение (зрение) одновременно является социальным и историческим феноменом, а визуальность требует работы тела и психики. Но при этом нельзя считать их идентичными. Различие в терминах свидетельствует о различиях внутри визуального: между устройством взгляда и его историческими техниками, между единицей видения и ее дискурсивными детерминантами» [5. Р. 4]. Таким образом, ученый подчеркивает социально-исторический характер визуальности как «скопи-ческого режима» (термин ввел Мартин Джей) - определенного порядка рассматривания мира, включенного в социальный контекст с его символами и паттернами. Отметим, что понятие визуальности, появившееся сравнительно недавно, используется учеными преимущественно по отношению к явлениям современной культуры, акцентируя, на наш взгляд, в своей словообразовательной модели особое свойство сегодняшних зримых культурных форм - осознание специфики и доминантной роли современного визуального культурного кода в процессе познания и конструирования действительности. Не меньше разночтений встречается и в толковании понятия визуализации - термина, используемого повсеместно в педагогике, теории массовых коммуникаций, психологии, истории, теории кино и др. Мно-42 Проблемы текста: теоретические и прикладные аспекты / Problems of text: theory and practice гообразие трактовок визуализации определяется, с одной стороны, сложностью, многоплановостью самого явления, с другой - разными исследовательскими подходами: гносеологическим, культурно-эстетическим, семиотическим, информационным, дизайнерским и др. В самом общем значении это - репрезентация увиденного посредством визуального восприятия. Так, основоположник гештальтпсихологии американский психолог Р. Арнхейм рассматривал систему визуального восприятия как процесс, непосредственно связанный с творчеством и мышлением, для него визуализация - это способ формирования новой реальности, нового видения и восприятия мира, творческий акт, осуществляемый посредством создания визуальных моделей [6]. В современном употреблении понятие визуализации используется чаще всего в конкретном прикладном смысле как способ представления/ перекодирования информации в виде наглядного, оптического изображения. Теоретические основы визуализации информации заложил профессор Сорбонского университета Жак Бертен в своем фундаментальном труде «Графическая семиология» (1967), введя концепцию образа как выразительной визуальной формы, распознаваемой за минимальное время, и обозначив уровни считывания информации. Для данного исследования представляется наиболее приемлемой позиция современной исследовательницы А.А. Жихаревой, предложившей комплексное определение понятия: «Под визуализацией следует понимать воплощение мысленных представлений, идей в виде изображения, придание зримой формы любому мыслимому объекту, процессу, явлению, как реально существующим, так и созданным в сознании, основанное на способности сознания видеть предметы в образах и активно влияющее на различные аспекты жизни социума» [7. С. 278]. Выбранная нами установка нового подхода к исследованию визуаль-ности - в аспекте особенностей восприятия изобразительного контента и возможностей управления им - имеет первостепенное значение. Во-первых, она позволяет выявить особенности современных коммуникаций, проявляющие себя через восприятие изобразительной информации. Во-вторых, она делает возможным научный анализ факторов, влияющих на информационно-коммуникативные процессы в области восприятия изобразительного контента эпохи «визуального поворота». Обращаясь к проблеме восприятия изобразительных текстов, следует отметить ее многовековую историю, так как самые ранние формы письма представляли, по сути, рассказы в картинках - пиктограммы. Однако изображения иначе используют иконические знаки, чем письменность: они не переводятся в слова, не извлекаются из тех жизненных ситуаций, 43 АйзиковаИ.А., Воробьёва Т.Л. Восприятие изобразительного текста в которых существуют представляемые ими предметы, а создают целостную зримую картину. Вербальный текст делится на дискретные единицы и требует серьезных когнитивных усилий, в отличие от него, в визуальном тексте значение порождается всей формой как неделимое целое. На осознании этого строилась теория визуального восприятия Р. Арнхейма, которая рассматривает восприятие изображения как целостность (гештальт - целостный образ определенной ситуации, который нельзя свести к сумме составляющих его компонентов). По мнению ученого-психолога, зрительное восприятие по своей структуре является чувственным аналогом интеллектуального познания, т. е. представляет собой акт визуального мышления. Реципиент воспринимает изобразительную информацию так же, как и вербальную, глазами, но на другом уровне - уровне ассоциаций, воображения, мышления образами. Развивая эти идеи, отечественный психолог В.П. Зинченко пишет: «Визуальное мышление возможно потому, что зрительные образы приобретают известную автономию и свободу по отношению к объектам восприятия и могут быть объектом зрительных манипуляций и преобразований» [8. C. 403]. Мысль о целостности воздействия зрительно воспринимаемого образа раскрывается и в трудах по семиотике тартуской школы. Ю.М. Лотман на примере киноискусства показал, что визуальный образ способен воздействовать на воспринимающее сознание непосредственно и целостно. Такое зрительно-образное восприятие характеризуется од-номоментностью, непосредственным приятием информации, например, по аналогии некоторых правил проекции изображения на плоский экран. Важнейшая особенность зрительного восприятия проявляется в том, что оно запечатлевает одновременно образы сразу нескольких объектов и позволяет менять фокусировку в поле зрения, чем стимулирует активность восприятия и создает за счет игры цвета и группировки визуальных форм стереоскопический образ реальности, таким образом творчески меняя характер и содержание коммуникации. Восприятие изобразительного контента характеризуется «субъективной симультан-ностью, позволяющей мгновенно “схватывать” отношения, существующие между различными элементами воспринимаемой ситуации. Зрительный образ необычайно ёмок, т.к. в нём практически одновременно отражается информация о цветовых, пространственных, динамических и фигуративных характеристиках предметов»» [8. С. 348]. При этом такое восприятие носит в первую очередь эмоционально-чувственный характер, что усиливает фактор его воздействия. В современном глобальном мире «визуальный бум» во многом предопределяется и такой особенностью восприятия изобразительного кон-44 Проблемы текста: теоретические и прикладные аспекты / Problems of text: theory and practice тента, как его транскультурность, т.е. возможность «прочтения» визуального кода представителями разных культурных, языковых и этнических групп. Если восприятие вербального текста соотносится с семантико-языковым уровнем личности, т.е. преломляется через языковую картину мира, то восприятие изображения напрямую обращено к концептуальному уровню языковой личности и не нуждается в соотнесении с разными языковыми формами, что и выражается в «повсеместности», общедоступности форм такой визуальной коммуникации. Безусловно, при всей универсальности, яркости и эмоциональной силе восприятия изобразительного текста в нем кроется и опасность кратковременности, беглости воздействия, изображения в знаковой икониче-ской памяти непрерывно изменяются, сохраняя лишь текущие образы. При этом нельзя не согласиться с мнением о том, что не все вербальное содержание может быть визуализировано без определённой потери смысла. Но, на наш взгляд, неправомерно оценивать восприятие икони-ческого сообщения как заведомо более бедное, поверхностное, по сравнению с восприятием вербального текста. Специфика восприятия изобразительного контента в ту или иную эпоху определяется, во-первых, исторически обусловленными визуально-культурными нормами, перцептивными моделями, которые складываются под воздействием семиосоциопсихологических факторов современности; во-вторых, топикой, арсеналом надвременных универсальных, константных структур восприятия, сформировавшихся в многовековой практике взаимодействия человека с искусством, с изобразительными знаковыми системами. Не умаляя значение второго фактора, выделим те особенности восприятия, которые сегодня определяют дезинтегративный характер коммуникаций с изобразительными текстами. Это связано в первую очередь с проблемой «клипового восприятия», оперирующего зрительными образами и позволяющего человеку успешно воспринимать контент фиксированного минимального объема, а не сложные семиотические структуры. Новая культура восприятия информации и окружающей действительности получила в зарубежных исследованиях название «культура R.E.M.» («Rapid Eye Movement» -культура быстрого вращения глаз). Она обеспечивает высокую скорость ориентировки в перегруженном информационном потоке, но при этом характеризуется фрагментарностью, бессистемностью, хаотичностью и отсутствием критической рефлексии в обработке информации. Именно поэтому современным визуальным текстам часто свойствен эффект зрелищного поверхностного культурного кода, не предполагающего глубокую когнитивную переработку, осознание изображенного, а апеллиру-45 АйзиковаИ.А., Воробьёва Т.Л. Восприятие изобразительного текста ющего к кратковременному эмоционально-чувственному воздействию на воспринимающее сознание. Осмысление особенностей восприятия изобразительных текстов и формирующих их факторов требует решения отдельной задачи, связанной с возможностями управления восприятием изобразительного контента и, соответственно, с актуальнейшей сегодня проблемой визуальной грамотности как базовой компетенции человека по анализу, интерпретации и созданию визуальных образов. Ее решение позволит перевести бессознательный поток визуально воспринимаемой информации в осмысленное русло, сформировать навыки распознавания и оценки визуальных кодов, сформировать оптику «умного видения», которая находится в неразрывной связи с историко-культурным контекстом, с социокультурными факторами, влияющими на настройку зрения. Французский философ Поль Вирилио считал, что возможности новых зрелищно-информационных технологий могут способствовать расширению мировоззренческого горизонта человека, но их нужно использовать эволюционно, созидательно, а не инволюционно, деструктивно [9. C. 43-44]. Выстроенная система ключевых признаков восприятия изоконтента позволяет классифицировать изобразительные тексты по способам использования в них собственно визуальных компонентов. Родовым понятием здесь является визуальный нарратив. Не претендуя на его полную характеристику, выделим, опираясь на работы исследователей, парадигму его определений, особенности его функционирования и восприятия. Чтобы продемонстрировать широту определения визуального контента, для начала дадим его толкование, принадлежащее практику, современному графическому дизайнеру, иллюстратору Антону Або: «Иллюстрация - это “текст”. “Текст”, который читает зритель». Иллюстратора, художника А. Або называет рассказчиком, который «рассказывает свои или чужие истории с помощью визуального языка» [10]. Американский искусствовед Л. Эпслунд в своей книге «Искусство видеть» отдельную главу называет «Художники-рассказчики», которую открывает ключевой мыслью «Художники рассказывают историю» [11. С. 87]. Н.В. Злыднева, представляя свою монографию «Визуальный нарратив: опыт мифопоэтического прочтения», в аннотации пишет: «В монографии рассматривается проблема повествования в изобразительном искусстве, анализируемом как поле скрытых мифологических значений, с привлечением широкого историко-культурного материала». И далее она продолжает: «В настоящей книге речь идет о... визуальном повествовании - о том, чем оно отлично от повествования литературного, а также о его собственном языке» [12. С. 4, 9]. 46 Проблемы текста: теоретические и прикладные аспекты / Problems of text: theory and practice Представляется чрезвычайно важным, что исследовательница предостерегает от искушения приложить заложенные еще В.Я. Проппом понятия и принципы структурного анализа вербального нарратива к визуальному. Она подчеркивает, что «природа изобразительного сообщения - иная по сравнению с сообщением вербальным. Икониче-ские знаки в визуальном тексте превалируют над символическими, пространственные коды - над временными», а полисемантизм, считает исследовательница, является основополагающей характеристикой изобразительного сообщения [12. С. 4]. По сути, продолжая мысль Н.В. Злыдневой, мы выходим на обозначенную выше проблему визуального мышления, в границах которого осуществляется восприятие визуального нарратива. Оригинальное определение визуального мышления дает Д. Роэм: это - «естественная способность человека видеть не только посредством глаз, но и мысленно» [13. С. 14]. Так формулируется важнейшая характеристика визуального мышления, зафиксированная в «Современном философском словаре», вышедшем под общей редакцией профессора В.Е. Кемерова и претерпевшем несколько изданий, - как умственного оперирования иконическими знаками и символами и способности «отражать любые категориальные отношения реальности посредством их воплощения в трансформированную чувственность - в форме зримого явления сущности» [14. С. 138]. Чтение изотекста, таким образом, трактуется как особое творческое вхождение в него, результатом чего является сотворение новых смыслов из соединения внутренних, часто латентных це-леполаганий и содержания объекта. Продуктивны в этом плане рассуждения Н. В. Злыдневой о заданности сюжета в изотексте психофизиологической природой зрения и «пространственной перцепцией окружающей реальности»: «...говорить о визуальном нарративе означает говорить прежде всего о соотношении/пере-сечении зрительных повествовательных стратегий («внутреннего зрителя»), выраженных преимущественно в различных точках зрения на единый предметный объект и группу предметов, как в их соотношении с физическим миром, так и виртуально. То есть речь идет о фокусе изобразительного означивания, который не сводится лишь к точке зрения автора-художника, а предполагает сложную равнодействующую всех агентов повествования - автора, зрителя и персонажей... результатом сложения которых становится целое изобразительного “текста”» [12. С. 15]. Исследовательница вводит даже понятие внутренней вербальности, «растворенной в мотивах, стиле, композиции» изотекста. Среди главных проблем имплицитного слова в 47 АйзиковаИ.А., Воробьёва Т.Л. Восприятие изобразительного текста изображении она называет «семиотические коды и смысловые “скрепы”» изображения» [12. С. 9]1. Здесь исследовательница, по сути, сближается с определением визуального нарратива, принадлежащего У. Айснеру, который стоял у истоков его изучения, квалифицируя его как «последовательное искусство» [16]. Под этим термином имелись в виду формы текста, которые используют изображения, развернутые в определенном порядке с целью графического повествования или передачи информации (комиксы, графические романы, манга, манхва и другие тексты, в которых история складывается из последовательности изображений и сопутствующего им текста). Позднее российский исследователь визуальных нарративов и литературный критик М.К. Скаф предложит термин «последовательные жанры» в отношении названных выше разновидностей визуального нарратива. С категорией последовательности, применяемой в отношении визуального нарратива, тесно связана его структура, о чем подробно и интересно пишет в своей выпускной квалификационной работе студентка Томского государственного университета Ю.А. Романова (раскадровка, открытая темпоральность и др.) [17]. Современные теории визуального нарратива как область визуальной семиотики активно включают в себя вопросы трансформации языка визуального нарратива в процессе его восприятия, который сводится к перекодировке. Мария Скаф, определяющая визуальный нарратив как «историю, где текст и изображение находятся в постоянном взаимодействии и бессмысленны друг без друга», видит главную особенность визуальных нарративов в умении рассказать историю сразу на двух языках» [18]. Рассуждая о визуальном нарративе, особенностях его восприятия и когнитивных способностях его читателя, исследовательница оперирует понятием визуальная литература, под которой понимается весь спектр художественных текстов, «построенных на комбинации двух уровней коммуникации: визуальной и вербальной, которые воздействуют на читателя-зрителя одновременно и, что самое важное, взаимосвязанно» [19]. 1 Мысль о том, что теория визуального нарратива вплотную смыкается с теорией нарратива литературного, не нова, она была высказана классиками отечественного и зарубежного литературоведения. В своей уже давно ставшей хрестоматийной в отечественной семиотике работе об иконе Б. А. Успенский рассматривает визуальный нарратив, выделяя внутреннего и внешнего зрителя; стратегия его исследования направлена на выявление внутренней границы в архаическом и каноническом искусстве [15]. Для описания позиции повествования в визуальном нарративе Б. Брайсен еще в 1996 г ввел понятие точки зрения автора, агента фабулы (персонажа) и субъекта зрения (focalizer, внутреннего зрителя) и т.д. 48 Проблемы текста: теоретические и прикладные аспекты / Problems of text: theory and practice Об этом же пишет и М.И. Седова, также относящая визуальный нарратив к мультимодальным текстам: «...изображение и текст, сосуществующие в одном и том же произведении, рассматриваются как форма взаимодействия, представляющая собой знаково-тематическое формирование поликодового толка» [20. С. 72]. Ю.М. Лотман в своих работах по семиотике культуры и искусства подробно останавливается на проблеме текстового кода и природе поликодовых текстов. Так, в статье «Динамическая модель семиотической системы» он пишет о том, что акт поликодовой коммуникации (в том числе, например, с использованием визуального языка) уподобляется «не простой передаче константного сообщения, а переводу, влекущему за собой преодоление некоторых - иногда весьма значительных - трудностей, определенные потери и одновременно обогащение “меня” текстами, несущими чужую точку зрения» [21. С. 54]. По мнению Лотмана, «история культуры обнаруживает постоянно действующую тенденцию к индивидуализации знаковых систем (чем сложнее, тем индивидуальнее). Сфера непересечения кодов в каждом “личностном” наборе постоянно усложняется и обогащается, что одновременно делает сообщение, идущее от каждого субъекта, и более социально ценным, и труднее понимаемым» [21. С. 55]. В статье «Текст в тексте» ученый рассуждает об основных функциях текста, выделяя две: адекватную передачу значений и порождение новых смыслов. «Первая функция, - пишет он, - выполняется наилучшим образом при наиболее полном совпадении кодов говорящего и слушающего и, следовательно, при максимальной однозначности текста» [21. С. 61]. Вторая функция текста лишает его пассивности средством «передачи некоторой константной информации между входом (отправитель) и выходом (получатель). Функция порождения новых смыслов составляет, по мнению Лотмана, «сущность работы текста как „мыслящего устрой-ства“»; по структуре такой текст внутренне неоднороден, представляя собой «систему разнородных семиотических пространств, в континууме которых циркулирует некоторое исходное сообщение. Он предстает перед нами не как манифестация какого-либо одного языка - для его образования требуются как минимум два языка. Возникающая при этом в тексте смысловая игра, скольжение между структурными упорядоченностями разного рода придает тексту большие смысловые возможности, чем те, которыми располагает любой язык, взятый в отдельности» [21. С. 64-65]. Таким образом, лотмановская формулировка текста в аспекте порождения им новых смыслов четко объясняет природу визуального нарратива и его восприятия, происходящего в «семиотическом про-49 АйзиковаИ.А., Воробьёва Т.Л. Восприятие изобразительного текста странстве, в котором взаимодействуют, интерферируют и иерархически самоорганизуются» разные языки. Н.А. Симбирцева, размышляя в русле концепции Лотмана, пишет о том, что «визуальное как практика культуры», претендующая на универсальность и всеохватность познания мира, дающая ощущение целостности бытия, полноты его восприятия, создает всего лишь «иллюзию доступности и легкости понимания мира, трансляции смыслов и ценностей культуры» [22. С. 163]. Она же указывает на то, что «в силу множества культурных миров (в субъектном плане) существует и множество сценариев прочтения и интерпретации визуального. Вместо целостности прочтения возникает проблема разночтений, а порой и конфликт интерпретаций одного и того же визуального текста культуры», под которым ученый понимает «зримую (воспринимаемую глазом) структурно-функциональную модель, где ценности и нормы определенной культуры носят кодовый характер и представлены в виде знаков, символов и образов, взаимосвязанных между собой различными контекстуальными связями» [22. С. 163]. Описывая механизмы восприятия визуального контента, его интерпретации, исследовательница, опираясь на труды нейрофизиолога Ф. Варела, который обосновал, что длительность потока восприятия состоит из моментов, лишенных длительности, исследователя психологии творчества Дж. Бергера, антрополога В.А. Подороги, психолога и теоретика изобразительного искусства и кино Р. Арнхейма, вводит понятие «внутренний кинематограф», когда «кадр как элемент действительности запечатлевается в нашем сознании, и мы относимся к нему как к объективной данности, которой можно верить. Но, с другой стороны, процесс построения и цепочка кадров приобретают личностное измерение - в этом и заключается субъективизм восприятия объективной реальности, явленной в визуальных образах письменный текст мы читаем тоже глазами, но “картинки” возникают на другом уровне - уровне ассоциаций, воображения и мышления образами1. 1 Об этом же пишет и профессор Европейского гуманитарного университета А. Усманова, которая подчеркивает, что «визуальная реальность (включая автоматизмы визуального восприятия в повседневной жизни) предстала как культурный конструкт, подлежащий вследствие этого чтению и интерпретации в той же мере, в какой этим процедурам поддается литературный текст». Ученый отмечает, что чтение вербального и визуального образного текстов имеет «общие принципы - распознавание, атрибуция, осмысление и со-творчество читателя/зрителя с объектом чте-ния/видения, но различаются механизмы и способы трансляции информации» [23]. 50 Проблемы текста: теоретические и прикладные аспекты / Problems of text: theory and practice «Видение, - заключает Симбирцева, - представляет собой самый элементарный способ освоения мира и действительности. Но каким образом устанавливается связь между объектом и субъектом видения?» [22. С. 163-164] - ответ на этот вопрос, по ее мнению, выходит за пределы нейрофизиологии и психологии, уходя, кроме прочего, в сферу коллективной памяти. В современных исследованиях визуального нарратива, кроме уже названных, распространен подход, исходящий из традиций лингвистики текста. По мнению Н.В. Злыдневой, в его основе лежит рассуждение о том, «что есть и чего нет в языке, по сравнению с изображением. Так, например, в изображении (не только художественном) можно различить семантику и синтактику, однако нельзя обнаружить грамматики» [12. С. 18], т.е. правил. М.И. Седова рассматривает визуальный нарратив с позиции психолингвистики, лингвопрагматики, а также в русле диктемной теории текста. По ее мнению, «любое изображение несет в себе идею, но идея эта визуальная, а не вербальная. Кроме того, человек не запоминает изображения в виде словесных описаний, а визуальное мышление осуществляется не посредством манипулирования словами. Изображение и текст образуют новую вербально-визуальную форму, которая бывает шире и интереснее, чем ее визуальная и вербальная составляющие, взятые по отдельности» [20. С. 72]. Как видим, с каким бы подходом исследователи не обращались к изотексту, все они отмечают его поликодовую природу, большинство из них выходят на проблему его восприятия и на постановку вопроса о том, как научить современных читателей визуальному языку. Конкретизируя проблему, М. Скафф пишет: «Как рассказать историю картинками и обойтись без текста в принципе. Как одним словом изменить наше понимание того, что мы видим в изображении. Как сделать буквы картиной, а иллюстрацию - рассказом» [18]. Названные знания и умения, считает М. Скафф, необходимы в разных областях, от образования до маркетинга. При этом она полагает, что, хотя «визуальные нарративы окружают нас постоянно: реклама, пресса, почти любой веб-сайт (и это помимо собственно литературы)», что «чем дальше, тем реже мы встречаем текст без картинок», и «чем дальше, тем актуальнее умение не просто иллюстрировать текст изображением, но встраивать одно в другое... практика показывает, что вот этот навык - понимать, что можно рассказать картинкой, а что стоит доверить словам, как сохранить между ними баланс - не самый распространенный. У нас пока что нет привычки читать визуальный текст: считывать знаки сразу в двух семиотических системах, с одной стороны, и знаки, которые возникают на стыке этих систем, - с другой» [18]. 51 АйзиковаИ.А., Воробьёва Т.Л. Восприятие изобразительного текста Ответ на поставленную проблему, касающуюся управления визуальной грамотностью, разделил исследователей и практиков на несколько групп. Свое мнение на этот счет есть у упоминавшегося выше иллюстратора А. Або: «Хотя зритель не всегда может правильно интерпретировать историю автора, в этом нет ничего плохого. Свободная трактовка может привести к новым открытиям» [10]. Л. Эсплунд, ставя своей целью дать современному зрителю-читателю инструменты прочтения визуального текста, пишет: «Многие говорят, что не знают, как смотреть на произведение искусства: они переживают из-за того, что недостаточно образованны, не увидят чего-то важного или сконцентрируются не на том... И наоборот, некоторые не замедлят подчеркнуть: они-де сами знают, что им нравится, что нет. им не нужны эксперты или арт-критики, указывающие, на что и как смотреть». Вместе с тем, считает Эсплунд, «абсолютно необходимо понимать, что искусство - явление вдохновляющее. И к нему
Скачать электронную версию публикации
Загружен, раз: 63
Ключевые слова
новые смыслы, коммуникации, постцифровая реальность, семиосоциопсихологи-ческие факторы, восприятие, изобразительный контентАвторы
| ФИО | Организация | Дополнительно | |
| Айзикова Ирина Александровна | Томский государственный университет | доктор филологических наук, заведующая кафедрой общего литературоведения, издательского дела и редактирования | wand2004@mail.ru |
| Воробьева Татьяна Леонидовна | Томский государственный университет | кандидат филологических наук, доцент кафедры общего литературоведения, издательского дела и редактирования | tatnick@mail.ru |
Ссылки
Вудфорд С. Как смотреть картины. М., 2018. 175 с.
Барб-Галль Ф. Как говорить с детьми об искусстве. СПб., 2020. Т. 2. 183 с.
Усманова А. «Визуальный поворот» и гендерная история. URL: http://sbiblio.com/biblio/archive/usmanova_visualniy/ (дата обращения: 15.07.2022).
Седова М.И. Изображение и текст // Вестник Череповецкого государственного университета. 2013. № 1, т. 2. С. 72-74.
Лотман Ю.М. Статьи по семиотике культуры и искусства. СПб., 2002. 544 с.
Симбирцева Н.А. Специфика прочтения визуального текста // Грамота. Исторические, философские, политические и юридические науки, культурология и искусствоведение. Вопросы теории и практики. 2013. № 10, ч. 1. С. 163-165.
Скаф М.К. Визуальная литература. Речевые фигуры и тропы // Детские чтения. 2014. № 2 (6). URL: https://cyberleninka.ru/article/n/vizualnaya-literatura-rechevye-figury-i-tropy (дата обращения: 10.07.2022).
Мария Скаф - о визуальных нарративах и о том, как с ними работать (hse.ru). URL: https://design.hse.ru/news/720 (дата обращения: 10.07.2022).
Романова Ю.А. Визуальный нарратив в современном книгоиздании (на примере корейского комикса и графического романа): выпускная бакалаврская работа по направлению подготовки. Томск, 2022.
Успенский Б.А. Семиотика иконы // Семиотика искусства. М., 1995. С. 221-294.
Айснер У Комикс и последовательное искусство. М. : Манн, Иванов и Фербер, 2022. 192 с.
Современный философский словарь / под ред. В.Е. Кемерова. 2-е изд., испр. и доп. Лондон ; Франкфурт-на-Майне ; Париж ; Люксембург ; Москва ; Минск : Панпринт, 1998. 1064 с.
Роэм Д. Визуальное мышление. М., 2013. 285 с.
Эсплунд Л. Искусство видеть. М., 2021.231 с.
Злыднева Н.В. Визуальный нарратив: опыт мифопоэтического прочтения. М., 2013. 360 с.
Wilson L. Cyberwar God and Television. An interview with Virilio // Digital Delirium. Montreal : New Word Perspectives, 2001. P. 43-44.
Або А. Роль нарратива в иллюстрации. URL: https://skvot.io/ru/blog/zachem-illyustratoru-pridumyvat-istorii (дата обращения: 15.07.2022).
Зинченко В.П. Восприятие и визуальная культура. М. : ЦГИ, 2018. 504 с.
Жихарева А.А. Концепции визуализации: становление, развитие и формы проявления // Научные проблемы гуманитарных исследований. 2011. № 7. С. 273-281.
Арнхейм Р. Искусство и визуальное восприятие. М. : Прогресс, 1974. 392 с.
Foster Hal. Vision and Visuality. Discussion in Contemporary Culture. Number 2 / ed. by Hal Foster. Seattle : Bay Press, 1988.
Сальникова Е.В. Феномен визуальности и эволюция визуальной культуры : автореф. дис.. д-ра культурологии. М., 2012. 56 с.
Флоренский П.А. Symbolarium (Словарь символов). Вып. 1: Точка // Памятники культуры. Новые открытия. Л. : Наука, 1984.
Ананьев Б.Г. Сенсорно-перцептивная организация человека // Познавательные процесс: ощущения, восприятие. М., 1982.
Маклюэн М. Галактика Гуттенберга: становление человека печатающего. М. : Академический проект : Фонд «Мир», 2005. 443 с.
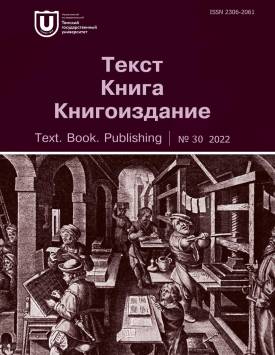
Восприятие изобразительного текста: проблематизация, актуализация, новые методологические подходы | Текст. Книга. Книгоиздание. 2022. № 30. DOI: 10.17223/23062061/30/3
Скачать полнотекстовую версию
Загружен, раз: 120

 Вы можете добавить статью
Вы можете добавить статью