«Дыр бул щыл / убѣ ш щур...» А. Кручёных: скрытая логика вариаций
Анализируется генезис стихотворения Алексея Кручёных «Дыр бул щыл» и логика эволюции авторских версий до конца 1920-х гг., а также восприятие и трансформации этой футуристической миниатюры в русской культуре. Отмечается значение учета специфики литографического способа печати при первом издании заумного стихотворения («Помада», 1912/1913) для реконструкции и интерпретации творческих импульсов поэта-футуриста в момент экстатического экспромта. Объясняется причина того, что именно «Дыр бул щыл» стало манифестом заумной поэзии, несмотря на наличие более ранних текстов подобного рода. Автор заявляет об отсутствии конфликта интересов.
“Dyr bul shchyl / ube sh shchur” by Alexei Kruchenykh: The logic of variations.pdf Стихотворение А. Кручёных «Дыр бул щыл» заслуженно вошло в рейтинг «Десять “самых-самых” русских поэтических строк» [1], хотя было далеко не первым заумным текстом в русской словесности. Так, строфы «Весур, весур валахтантарарах-тарандаруфу» в плясовой песне «Там на горах наехали Бухары» из сборника Кирши Данилова впервые были опубликованы в 1818 г. [2. С. 457-458]; еще раньше своеобразная прото-«заумь» появилась у восточных славян в заговорах [3-6], детских и эротических стихах [7. C. 62-63; 8; 9]. Хронологически ближе к моменту создания стихотворения Кручёных - звукопись Андрея Белого в «Кубке метелей. 4-й симфонии» (1907): «Уммау-ммуууу-моау-мау-ааун-яяйхр» и др., и «Бобэоби пелись губы, / Вээоми пелись взоры...» Хлебникова (1908-1909), - сообщения о возникновении учения пятидесятников о «крещении Святым Духом» в Индии, США и его распространении в Германии (с 1907 г.), Скандинавии, Прибалтике и России (с 1910-1911 гг.), а также исследования о глоссолалиях сектантов-экстатиков, тарабарском языке на радениях хлыстов [10; 11; 12. С. 127-130; 13. С. 81-82]. 72 Книга в контексте культуры /Book in culture О «Дыр бул щыл» писали К. Малевич, В. Брюсов, П. Флоренский, В. Ходасевич, З. Гиппиус, К. Чуковский, И. Эренбург, Р. Якобсон и многие другие. Его неоднократно перекладывали на музыку: от оперы «Победа над Солнцем» М. Матюшина и К. Малевича 1913 г. на либретто А. Кручёных и В. Хлебникова до «Dyr Bul Scyl»1 Томаса Бринкманна и Свена Фэта, «Dyr bul shchyl» Кристофера Адлера и Кейтлин Кинг [1519], хора «Дыр бул щил» Александра Петрова [20] и джаз-композиции «Dyr Bul Shchyl» 2019 г. Семёна Набатова [21]. Стихотворению Кручёных посвящены фундаментальные труды [2224] и статьи по отдельным аспектам прочтения текста ([25, 26] и др.). При этом отмечается значительный разброс оценок и мнений. Одни утверждают, что это «бессмертное творение» (Николай Богомолов), «формула русской поэзии» (Станислав Красовицкий), «черный квадрат поэтической речи» (Сергей Майнагашев), новый шаг в осмыслении многовековой традиции звукосимволизма, «звуковой жест», непосредственный предшественник дадаизма и протосюрреализм. Другие саркастически замечают, что «”Дыр бул...” - литературный “Черный квадрат”», крайний жест русского футуризма [27], «первый крик и лебединая песня футуризма» (Ходасевич), «мучительный мусор, который доживает ныне свой век в упорной бессмыслице Кручёных» [28. C. 34], утверждая, что «бездарный кривляка Кручёных дальше своего дыр-бул-шыл не пошел, весьма ловко, прикрывая свою бесталанность гениальным набором звуков» [29. С. 24]. Третьи не без основания рассматривают заумь «неизвестнейшего из знаменитейших» (Геннадий Айги) в русле общеевропейских поисков «всемирного/универсального языка» [30. С. 223]. Четвертые усматривают эротическую трансценденцию [22]. Пятые находят здесь отзвуки религиозной глоссолалии, «ангельских языков», «звездного языка» или даже влияние кабалистики, славянской литореи, иудейской тайнописи и оккультизма [31-35; 36. Р. 316-317; 37. C. 274-275]. Строгий текстологический анализ фиксирует расплывчатость канона текста Кручёных, которая спровоцировала отмеченную исследователями особенность: «.почти все, цитирующие Дыр бул щыл, цитируют с ошибками» [38. C. 13, прим. 7]. В списке такого рода искажений «Дыр Бул щол» (Д.Д. Бурлюк), «Дыр бул щур» (А.Г. Горнфельд), «Дыр бул щель! / У бей шур! Манч! 1 Вероятный источник замысла этих музыкальных произведений 2000-х гг. - запись на виниловом диске «Aleksej Krucenych. Dyr Bul Scyl» [14] в исполнении профессора Гейдельбергского университета Анатолия Алитана (Anatol Alitan), известного русиста, одного из соучредителей МАПРЯЛ. 73 Коренькова Т.В. «Дыр бул щыл / убѣ ш щур...» А. Кручёных Манч / Джи брео зо» (Э.К. Дрезен), «Р, л, поэз» (В.А. Пяст), «Дыр, бул, щил / Уберщур» (акад. В.Е. Захаров) и т.п., а также пародийные «дыр бул щыл зю цю э спрум» (К.И. Чуковский), «Уже всего “Онегина” забыл, Но не забыл волшебных “Дыр... Бул... Щыл...”» (Викт. Коллегор-ский), русинглишское «эхолалическое звукоподражание. Dear бул шыт!.. Йес, оф horse!» (Демьян Фаншель), «to be sure - с английского это будьте уверены. Но как обратил мое внимание Александр Кузьменков -это сильно напоминает уберщур Кручёных» (Вл. Монахов) и русскохакасское «Дыр бул щыл / тадарлап / Чыл пол тыр!» (Сибдей Том). Поливариативность как заметную особенность стихотворения Кручёных отмечали многие исследователи и критики, например: «Эту “футуристическую” строчку знают, кажется, даже те, кто не знает больше ничего из “этого”. При том даже весьма сведущие люди часто цитируют ее неправильно. Наиболее распространенные варианты - “дыл бул щир”, “дыр бул щил” и “дыр бул щир” (в последнем случае это напоминает некий пародийный вариант украинского языка, как его представляют себе “москали”)» [1]. Исследователи обращали внимание на явные разночтения вариантов стихотворения как 1913 г. (исходный Быр бул щыл уже в первый год преобразился в дыръ булъ щылъ), так и позднейших авторских вариаций (см. обзор: [38. C. 13, прим. 7]). Вместе с тем для решения ключевой текстологической задачи выявления «творческой воли автора» не была проанализирована хронологически составленная цепочка трансформаций прижизненных версий. Между тем в этой последовательности обнаруживается своя логика. Версии 1913 г. «Помада» [39. С. 12] Январь-февраль «Трое» [40. С. 30] Август «Слово как таковое» [41. С. 9] Сентябрь-октябрь Dыр бул щыл убѣ ш щур скум вы со бу р л эз дыръ булъ щылъ Дыр бул щыл убѣщур скум вы со бу р л эз Версии 1923-1927 гг. Апокалипсис в русской литературе, 1923 [42. С. 34] Фонетика театра, 1923 и 1925 [43. С. 38] Автобиография дичайшего (6/X-27 г.) [44. С. 59] дыр бул щыл Дыр - бул - щыл1 Дыр-бул-щыл 1 В воспроизводимых версиях сохраняется различение дефисов и тире, а также строчных и заглавных букв в первоисточниках. 74 Книга в контексте культуры /Book in culture Версии 1923-1927 гг. Апокалипсис в русской литературе, 1923 [42. С. 34] Фонетика театра, 1923 и 1925 [43. С. 38] Автобиография дичайшего (6/X-27 г.) [44. С. 59] убещур скум вы со бу р л эз («Помада») (автоцитата с ошиб-кой(?)) Убещур Скум вы - со - бу р - л - эз Цитирования 1919-1925 гг. Кручёных грандіозарь, 1919 [45. С. 11] От символизма до «Октября»: Литературные манифесты, 1924 [46. С. 106) Фонетика театра, 1923 и 1925 [43. С. 33] Дыр-бул-щыл дыр, бул, щыл, убещур скум вы со бу р л эз («Слово как таковое») Дыр-бул - щыл!.. (Из книги И. Терентьева «Кручёных грандиозарь») Вероятность издательских небрежностей опровергает замечание Кручёных о типографской ошибке в статье «Апокалипсис в русской литературе» (см.: «Опечатка» на с. 45 в сборнике «Жив Кручёных!»). Оно свидетельствует, что футурист внимательно редакторским взглядом просматривал собственные издания и ссылки на свои произведения. При этом А. Кручёных проигнорировал случаи неточного цитирования «Дыр бул...» в сборнике «Литературные манифесты...» (запятые в 1-й строке) и в статье С. Третьякова: Дыр бул щыл / Убещур / Скум! / Вы со бу / Р л эз [47. С. 3]. Позже заумник в «Автобиографии дичайшего» (1927) написал все три слова первой строчке своего стихотвоорения через дефисы: «Тогда же выскочил “Дыр-бул-щыл” (в “Помаде”), который, говорят, гораздо известнее меня самого» [44. С. 59]. Более того, идея члена группы «41°» И.Г. Терентьева писать дыр-бул-щыл с использованием дефисов: «Дыр-бул-щыл / Глы-глы-воггулы / Чагогдубія / го-оснѣг-кайд» [45. С. 11] -была принята заумником в 1920-х гг. А в 1922 г. через дефисы автор написал последнюю стоку стихотворения с использованием тире: «р -л - эз. - угроза, резкость + икс. Может быть, от корней слов все-таки не уйдешь, но тогда придется считать корнем каждую букву» [48. С. 35]. 75 Коренькова Т.В. «Дыр бул щыл / убѣ ш щур...» А. Кручёных Характерно, что во всех вариантах 1913 г.: Быр / Дыр бул щыл и дыръ булъ щылъ - автор четко давал понять читателю, что первая строка стихотворения состоит из трех различных слов. Разница касалась только 1) демонстративного отказа (дважды) от использования Ъ в конце слов, что отражало моду начала XX в. на отказ от «лишней буквы» русского алфавита, и 2) написания первого слова: с заглавной буквы или нет (форма Дыр могла возникнуть как показатель личного имени или как знак начала строки). Ее же воспроизвел сборник «Литературные манифесты» в 1924 г., заменив выпавшие Ъ запятыми: «дыр, бул, щыл,»1. Вторая строка уже во второй версии (и навсегда) редуцировалась: от трех слов убѣ ш щур ^ до одного убѣщур. После орфографической реформы 1918 г. буква «ять» навсегда выпала из стихотворения, а в первой строке постепенно, от издания к изданию, утвердилась однословная форма дыр-бул-щыл и ее музыкализиро-ванная (видимо, распевная) версия: Дыр - бул - щыл (аналогично оформляются слоги слов в хоровых партитурах). Таким образом, анализ демонстрирует стремление Кручёных постепенно отойти от изначального варианта первых двух строк. Автор сознательно разрушал синтаксис и тема-рематическую структуру строки с целью не столько «освободить букву от мысли», сколько затушевать прообраз, подсознательный импульс своего экстатического экспромта, просвечивающий сквозь неологизмы. Первоимпульс импровизации проявляется уже при внимательном изучении первого слога-слова (рис. 1). Важная особенность этого издания - литографический способ печа-ти2. Единственное слово, где есть заглавная буква, - это Быр. Характерная черта оттиска второй буквы слова - у нее отсутствует нижняя петля. Буква «и» превратилась в «ы» благодаря поставленной позже на перемычке точке: и (во всех других случаях на с. 12-13 ы имеют четкую нижнюю петлю). Иначе говоря, буква и/и была написана так, будто рисующий литографским карандашом Кручёных колебался между «ы» и «и», т.е. между Бир и Быр. 1 О случаях систематической замены в русском языке XVI-XVIII вв. конечных «еров» разделительными знаками «ертица» (ерок, паерок), напоминающих на письме запятые, см.: [49. С. 21; 50. С. 5, 12]. В начале XIX в. традицию отказов от «еров» продолжил поэт Д.И. Языков - упразднить буквы «ять» и «ер» - и заслужил прозвище Безъерный. 2 О специфике работы Кручёных и других футуристов над литографическими изданиями 1912-1914 гг. см. статьи Дж. Янечека [51. Р. 71-87] и Дж. Эша [52]. 76 Книга в контексте культуры /Book in culture Рис. 1. Написание букв Ы и И на с. 12 сборника «Помада» (1913) Отсутствие конечных «еров» в Dup бул может быть объяснено двояко. Во-первых, Орфографическая подкомиссия при Императорской Академии наук предлагала отменить это правило орфографии еще в 1904 г. Например, в поэме «Игра в аду» (1912) «еры» в сделанной Кручёных литографии встречаются нерегулярно, на страницах с 7-й по 14-ю исчезают полностью, а в «Мирсконца» (1912) в крученовских текстах полностью отсутствуют. Во-вторых, конечные нечитаемые «еры» принципиально были исключены в орфографических системах украинского языка П.А. Кулиша и М.П. Драгоманова - кулішівке/кулишовке и драго-манівке/драгомановке, которые в начале XX в. окончательно вытеснили из употребления прежнюю систему «ярыжку», названную как раз по 1 правилу использования в ней «еров» . Слоги, записанные, по словам С.С. Малевича [54. C. 190], в состоянии «религиозного экстаза» (хлысты описывали экстатическое речетворение глаголом «блажить» [55. С. XVII]) футуристом, уроженцем дву- 1 Также на решение Кручёных отказаться от «еров» мог оказать влияние интерес футуристов к экспрессивным возможностям динамичного «телеграфного сти-ля/языка» (Telegram style, cablese) (см. [53. C. 110-111]). В России начала XX в. в русской версии 5-битного телеграфного кода Бодо (1874-1888) и Д. Мюррея (1901) буквы «ъ» и «ё» заменялись соответственно на «ь» и «е», что только ускоряло процесс передачи сообщений и не мешало пониманию текстов телеграмм. 77 Коренькова Т.В. «Дыр бул щыл / убѣ ш щур...» А. Кручёных язычной - русско-украинской - Херсонщины, изначально образовывали фразу «Дир бул...», которая отсылает к истории киевского князя IX в. Дира, соправителя князя Аскольда. Сведений о жизни киевского князя Дира сохранилось немного. Главные моменты: 1) поход Аскольда и Дира в Полоцк (Никоновская летопись, под 865 г.; начало киевско-новгородского противостояния на Руси); 2) после неудачного похода на Константинополь киевские князья Аскольд и Дир приняли крещение (так называемое Аскольдово/Фотиево Крещение Руси и учреждение епархии в 860-866 или 874 г.) и 3) позже, в 882 г., Дир вместе с Аскольдом были обманным способом убиты новгородским князем Олегом Вещим. Споры о происхождении имен Аскольд и Дир ведутся с XVIII в. до наших дней [56, 57]. Этимологию антропонима «Дир» большинство исследователей возводят к корням со значениями «драть», «дыра» [58. С. 23, 40; 59. С. 91] или к славяно-скандинавскому «зверь» (ср.: укр. звіробій = діробій / рус. зверобой, ст.-норвеж. dyr, djor, дат. dyr - дикое животное, зверь, особенно о лосях и оленях). Бессознательный интерес Кручёных к этой исторической фигуре мог быть вызван целым комплексом обстоятельств 1909-1912 г., помимо богоборческого мотива, связанного с убийством язычником Олегом двух первых христианских правителей Руси: Аскольда (согласно киевским преданиям, в крещении был наречен Николаем) и Дира (в крещении - Ильи). Дир - первый из правителей Древней Руси, который имел славянское имя и при этом был упомянут в иноязычных письменных источниках. О Дире как потомке Кия говорят польские историки XV-XVI вв. (Ян Длугош / Jan Dlugosz и Матей Стрыйковский / Maciej Stryjkowski). О нем, как о старшем из восточнославянских князей, писал в книге «Золотые копи и россыпи самоцветов» Абу-ль-Хасан аль-Масуди (Abu al-Hasan al-Mas'udi «Muruj adh-dhahab»): «Первый из царей славянских -ад-Дир1. Он имеет обширные города и многие обитаемые страны; мусульманские купцы прибывают в столицу его государства с разного рода товарами» [60. С. 117]. На рубеже 1900-1910-х гг. дискуссии киевских историков-краеведов о возможном месте захоронения первых князей-христиан активизировались с началом раскопок Археологической комиссии (1908-1914 гг.). Причем если с Аскольдом все было понятно: в 1809 г. ротонда-церковь св. Николая была возведена на месте легендарной «Аскольдовой могилы», где, согласно киевскому преданию, княгиня-христианка Ольга по- 1 Арабское ад- перед именем правителя - определенный артикль. 78 Книга в контексте культуры /Book in culture строила деревянный храм в память об убитом ее родственником-язычником прежнем князе-христианине, - то с именем Дира было много неясностей, что рождало домыслы и фантазии. В киевском городском фольклоре с Диром-Ильей связаны три топоса: 1) церковь св. Ильи (Ильинская церковь на Подоле), строительство первого деревянного варианта которой приписывается Аскольду и Диру; 2) разрушенная в 1240 г. церковь св. Ирины, которая была воздвигнута на месте языческого кладбища, где якобы (согласно «Повести временных лет») в 882 г. был похоронен Дир; 3) Архангело-Михайловский Зверинецкий пещерный монастырь, возникновение которого легенды относят к временам первых христиан в Киеве, т.е. задолго до основания св. Антонием Печерского монастыря. Интерес к истории этих святынь вырос в связи с реконструкцией Ильинской церкви (1909 г.), открытием после обвала потаенных ходов Зверинецких пещер (1910-1911 гг.) и началом там археологических раскопок (1912 г.), а также городскими легендами и проведенным иеромонахом Серапионом в 1911-1912 гг. церковным расследованием «зверинецкого дела» [61; 62. С. 15-20, 25-31]. Замечание очевидца рождения «Дыр бул...» Д. Бурлюка: «Кручёных, сам того не зная, создал первое стихотворение на принципе инициализации словес.» - и приведенные факты историко-культурного контекста дают основание предположить, что первая строка стихотворения была «сгенерирована» как своего рода ответ Кручёных на известные из летописей слова Олега Вещего в момент убийства Аскольда и Дира: «Вы н^стл кназа, ни роду кнАжл, но лзъ есмь роду кнАжл» (здесь и далее в цитатах выделено мной. - Т.К.) (Вы не князья и не из княжеского рода, но я из княжеского рода). Тысячу лет спустя футурист возражает князю-новгородцу на местном, «малороссийском наречии», по-украински: «Дир бул щир» (рус. Дир был настоящий [князь]). При этом в спонтанном творческом акте графически возникла смесь из двух систем украинского правописания: кулишовки (без «еров») и более привычной ярыжки (написание «и» вместо «і» в слове Dup). Косвенно в пользу этой гипотезы говорит то, что при слуховой рецепции слово щыл многие носители русского языка до сих воспринимают именно как «щир»: жил да был / дыр бул щыл / а и жил / не по лжи / він був щир / нищ и сир (М.В. Безродный [63. С. 101]); Национальный дыр бул щир (М.Ю. Соколов [64]); Дыр бул щир убещур (Г.В. Фиртич [65]); Во мне ревёт кручёный дыр бул щир (Ф.А. Хаустов [66]1). 1 Здесь и далее при цитировании блогов и интернет-форумов орфография и пунктуация первоисточников сохраняются. 79 Коренькова Т.В. «Дыр бул щыл / убѣ ш щур...» А. Кручёных Однако в ситуации общения двух русско-украинских поэтов-билингвов, уроженцев суржикоязычных Слобожанщины (Бурлюк) и Херсонщины (Кручёных), напрашивающийся вариант щыръ / щир (написания в ярыжке и кулишовке соответственно) означал бы просто фразу на украинском языке, а не на искомом «космическом». Чтобы не допустить такого восприятия своего стихотворения, Кручёных сразу приступил к трансформации рождающегося текста. Во-первых, Бир «обрусел» и возникла форма Быр. Во-вторых, «щир» принял форму і «щыл» , которая сразу остранила текст - нарушила правила русской и украинской орфографии и разрушила смысл фразы в целом. Замены «и» и «е» на «ы» в спонтанной, разговорной речи были и остаются типичным фонетическим явлением в южнорусских говорах Причерноморья [67. С. 32; 68. С. 58]. Фиксируются они у носителей русского языка и в случаях эмоциональной напряженности, например: «У нас есть трагический бытовой тон на Ы» [69. С. 47]. И то и другое присутствовало в случае с импровизацией Кручёных. Кроме того, формально ошибочное написание ЩЫ также нельзя считать чем-то уникальным. Оно часто встречается при некорректной русскоязычной имитации украинского языка. Так, на билингвальных интернет-форумах Украины 2000-2010-х гг. встречаются написания (орфография сохранена): «А деж цэ ты, сынку, так навчывся розмовляты на щырий украинський мови?», «Женщина нянчила испанского малого от рождения и говорила конечно на щЫрИй [мове]», «решают вопрос “...лычэ чы не лычэ”, т.е. с дизайном и в шоб було в щырий вышивании». Все эти речевые (фонетические и графические) явления в первой строке стихотворения родились как своего рода естественная, не очень замысловатая языковая игра в ситуации творческого общения поэтов-билингвов. Ритмический рисунок первых двух строк изначально держался на речитативном повторении трех ударных слогов и акцентированной игре сонорными в конце слов диР - буЛ -щыР ' x ' - щуР 1 Не исключено, что в контексте киевско-новгородских ассоциаций форма «щил» могла родиться в сознании импровизатора в связи с новгородской «Повестью о из-бытии изо ада посадника Щила» (впервые была опубликована Н.И. Костомаровым в 1860 г.). Мотивы этой северорусской легенды перекликаются с поэмой В. Хлебникова и Кручёных «Игра в аду», изданной в 1912 г. 80 Книга в контексте культуры /Book in culture Вторая строка импровизации Кручёных также содержит «инициализации словес». Но здесь они связаны с эпизодом коварного нападения Олега Вещего на настоящего (щирого) киевского князя Дира: убѣ(-й, -жище, -ждение) и общеславянский (пра)щур. При этом стоящее перед «щур» непервообразное междометие «ш» (требует тишины [70. С. 732], хранить тайну) созвучно окончаниям аористов 3-го лица множественного числа, задающим четкий ритмический рисунок в описании убийства киевских князей новгородцами в «Повести временных лет»: «.. .и выска-каша вси прочии из лодья... и вынесоша Игоря. ... И убиша Асколъда и Дира. и несоша на гору, и погребоша» [71. С. 14]. Во второй версии стихотворения во второй строке произошла редукция трех слов до одного: корень «щур» поглотил междометие «ш» и превратился в квази-суффикс «-щур». Возникший неологизм потянул большой шлейф ассоциаций, уже не связанных с княжескими усобицами и борьбой Киева и Новгорода за власть над Русью. «Убѣщур» рифмуется только со словами прищур и щур («финский попугай», лат. Pinicola enucleator, чья трель звучит для русского уха как «пьюю-лии») и вызывает у русскоязычных слушателей устойчивые ассоциации с фантастическим пресмыкающимся: «ящер убеждения, хищное мыслечудовище» (М.Н. Эпштейн), «Ну, а дыр бул щыл означает на небе неосознанного: Жил был пращур / Имя пращура - ящер / Убещур скум / пращур кум / пращур ящер хитрый прищур Кручёных» (К.А. Кедров), «убещур ел щи из плющей и борщи из хвощей» (М.В. Безродный), «Сын, Убещура берегись, Его клыктей... Убещур гремучий» (Д. Манин; перевод стихотворения Л. Кэррола «Jabberwocky»). Также этот неологизм оказывается фонетически созвучен известному рефрену хлыстовских радений: «Хлыщу, хлыщу, / Христа ищу» (в XIX в. Херсонская губерния, где родился Кручёных, была одним из центров распространения хлыстовства). Характерно, что большинство цитирований стихотворения заканчиваются на второй строке. Кроме того, именно она от версии к версии оказалась наиболее устойчивым элементом текста. Статичный, лишенный в версии «Слова как такового» намека на глагол «убещур» окончательно разрушил синтаксическую структуру фразы и любой намек на протосюжет (с тайной убийства Дира?). В третьей - пятой строках фонетика доминирует абсолютно. Так, слово «скум» ритмически оправдано цепочкой квази-рифм: щур-скум-бу, и так же безглагольно, бессюжетно, как и предшествующий ему «убе-щур». Оно вызывает большое количество звуковых ассоциаций: 81 Коренькова Т.В. «Дыр бул щыл / убѣ ш щур...» А. Кручёных рус. скумбрия, с кумом, алейкум, шум, дум, глум и т.д., укр. з ким и особенно чеш. s kym (ср.: skym / скум). Причем появление чешских аллюзий в раннем творчестве Кручёных может быть объяснено тем, что, по данным переписи 1897 г., чехов и словаков в Херсонской и Таврической губерниях проживало более 3 300 и в Киевской губернии более 2 000. Более того, судя по аудиозаписи «А. Кручёных читает из “Победы над Солнцем”» [72], в авторском произношении Р и Л 5-й строки близки словацким долгим 1 и г и родственны чешским слогообразующим сонорным звукам, которые футурист мог услышать в живой устной речи колонистов. Последние две строки в разных редакциях варьировалась незначительно. В них, кроме каламбурных «б(ур)леск» ^ бу р л эз с оглушением звука [з] в конце слова, присутствуют аллитерационные намеки на фамилию первого слушателя: Бурлюк - и, вероятно (с учетом редукции безударного [а]), в «со-бу / р» - на фамилию «Сабуров» (композитор, художник и издатель футуристов М.В. Матюшин был внебрачным сыном графа Сабурова). Вместе с тем звучание отдельно стоящих слогообразующих сонант, напоминающих по звучанию долгие плавные R и L санскрита, соответствовало настрою поэта как на поиск «всемирного, вневременного (пра)языка», так и на предельную музыкализацию и де-семантизацию стихотворения. Эту амбивалентную тенденцию поэзии Кручёных, а также Хлебникова и Ильязда (И.М. Зданевича) отметили их современники - теоретики и историки поэзии авангарда Р. Хаусман и В. Горелый1. С одной стороны, подчеркивалась фольклорно-историческая подоплека заумной образности: «Поэзия “зауми”, которой занимались Хлебников, Кручёных и Ильязд, основана на включающей в себя многие фольклорные элементы некой популярно-сюрреалистической форме, которая у поэта преобразована творческой “футуристической” волей (понимаемой в смысле обновления) и которая и не имеет родства с дада-истскими фонетическими произведениями» [73. C. 191], а с другой -объединившись в 1913 г. в «Лаборатории языка», они стремились «устранить всякое семантическое и семиотическое наполнение» [73. C. 193] и тем, по сути, создать фонетический, музыкальный или оптофонетический стих. Проведенный анализ генезиса и эволюции текста «Дыр бул.» Алексея Кручёных продемонстрировал, что автор экспромта в декабре 1 Встречаются другие транслитерации имени жившего с 1922 г. в эмиграции в Бельгии и Франции популяризатора и переводчика русской литературы Вениамина Горелого (Benjamin Goriely): Бенжамен/Беньямин Горьели [73. C. 191-192]. 82 Книга в контексте культуры /Book in culture 1912 г. стремился имитировать глоссолалии русских сектантов-экстатиков. Отмеченная Д. Бурлюком особенность текста - построение зауми на «принципе инициализации словес» - обнаруживает свой аналог в объяснениях московским хлыстом XVIII в. «говоренных им иностранных речей»: «здрувулъ дремиле - не дремли, человек; уздроволне - будь здоров, человек исходным пунктом для Шишкова служило в данном случае созвучие: какой-либо слог в глоссе напоминал ему по созвучию русское слово» [11. С. 214-215]. Вместе с тем изучение генезиса текста под углом «инициализации словес» выявляет завуалированный образный слой, от которого от версии к версии автор старался избавиться. Кручёных начал затушевывать уже в первой версии историческую аллюзию, которая спонтанно возникла на тонкой грани русской и украинской орфографии «Дир / Дыр бул». Все последующие трансформации стихотворения шли в том же русле: максимальная акцентуация фонетической и позже музыкальной формы слов за счет стирания любого намека на синтаксис, тема-рематическую структуру, сюжет и морфологические характеристики. Историко-культурным фоном для обращения творческой мысли А. Кручёных к таинственной истории Дира Киевского в те дни стали археологические открытия 1908-1912 гг., связанные со следами христианских общин IX-X вв. в «купели крещения Руси», публикации о «кня-зьях-первомучениках» Аскольде-Николае и Дире-Илье, противоречащие официозной москвоцентрической концепции русской истории (см. например: [74]), а также полуюбилей - 1030-летие захвата Киева Олегом Новгородским в дни завершения подготовки общеимперских торжеств в честь 300-летия Дома Романовых (в дни издания «Помады» завершалась подготовка к помпезным официальные церемониям, которые стартовали 21 февраля 1913 г.). Фрондерские настроения футуристов по отношению к официозу подспудно отразились в парадигме обыгрываемых в творчестве Кручёных тех лет политических и эстетических тем: «мы» «они» Киев Новгород - С.-Петербург (Дир, Аскольд) (Олег, Рюрик) - (Романовы) секты официальная церковь, Синод апокрифы библейский канон народ власть 83 Коренькова Т.В. «Дыр бул щыл / убѣ ш щур...» А. Кручёных «мы» «они» футуризм символизм, мейнстрим, классическая литература альтернатива норма свобода порабощение, гнет диссонанс гармония слом, сдвиг, взрыв развитие, эволюция Что превратило «Дыр бул...» в «one of ...earliest and most notorious examples of transrational verse»1 [75. P. 80] в поэтический манифест всего русского авангарда? Почему в тени мерцающего «убѣщур» оказались более ранние шедевры Велимира Хлебникова, стихотворение-перфоманс «Поэма конца» первопроходца «нуль форм» Василиска Гнедова (1913), визуальные «железобетонные поэмы» Василия Каменского или другие аналогичные явления поэзии 1900-1910-х гг.? «Что ценного в Кручёных? По своей неуступчивости он отстает от Хлебникова или Рембо, заходивших гораздо дальше» [76. С. 1]. Можно предположить, что причиной этого стала концептуализация как новая составляющая литературного процесса. Если в Античности и в XIX в. исследования литературы велись преимущественно в рамках философии, риторики, эстетики, истории, «наук о духе» и лингвистики, то к рубежу XIX-XX вв. возникли термины Literaturwissenschaft (1897) и литературоведение, которые определили ее как отдельную область филологии со своим предметом, методами и категориальным аппаратом. То или иное литературное произведение все больше оценивалось не само по себе, а в его соотнесенности с теоретически описанной литературной тенденцией (см., например статью 1900 г. «Словесность» в Энциклопедическом словаре [77]). Ориентированные на такое восприятие литературных фактов манифесты, теоретические исследования получили едва ли не определяющее значение. Благодаря концептуализации контекст и комментарии приобрели самодовлеющее значение при восприятии произведения. Так, в случае с экспромтом Кручёных главную роль сыграли манифесты «Слово как таковое» (1913), «Фонетика театра» (1923) и др. [41-48], а также действительно прорывные в идейном отношении, талантливые работы ОПОЯЗа и «формальной школы» [78-80]: для них текст футуриста был, прежде всего, иллюстрацией высказанных литературоведами теоретических постулатов. Именно в таком аспекте стихотворение и воспринималось публикой. «Дыр бул щыл» без эпатажной фразы: «кстати, в этом пяти- 1 Перевод: «В один из. ранних и наиболее известных примеров заумной поэзии». 84 Книга в контексте культуры /Book in culture стишии больше русского национального, чем во всей поэзии Пушкина», -вряд ли стал бы более популярным, чем два остальных стихотворения сборника «Помада». (Кто их помнит, а тем более цитирует сегодня?) В схожей ситуации возник феномен «Черного квадрата», который был создан в рамках «заумного реализма» как элемент декорации оперы «Победа над Солнцем» М.В. Матюшина на стихи А.Е. Кручёных (1913). Но впервые как самоценное художественное произведение картина Малевича было оценено публикой только на выставке «0,10» в декабре 1915 г. уже после выхода трактата «От кубизма и футуризма к супрематизму». Характерная деталь новой культурной ситуации середины 1910-х гг.: свои художественно-теоретические манифесты в печатном виде на той выставке распространяли и другие ее участники - В.Е. Татлин, И.А. Пуни, Кс.Л. Богуславская, И.В. Клюн, М.И. Меньков. При этом лишь в качестве забавных курьезов, но никак не явлений искусства, рассматривались известные Малевичу и многим его зрителям монохромные «черные квадраты» прежних веков: картина Альфонса Алле (Alphonse Allais. Combat de negres dans un tunnel, 1882), первая иллюстрация Гюстава Доре «Истоки истории России теряются во мраке древности»1 в его серии карикатур 1854 г. «История святой Руси», а также двусторонняя черная страница в конце главы XII романа Л. Стерна «Жизнь и мнения Тристрама Шенди, джентльмена» (1759)2.
Ключевые слова
фонетическая поэзия,
Аскольд и Дир,
заумь,
Дыр бул щыл,
текстология,
Алексей КручёныхАвторы
| Коренькова Татьяна Викторовна | Российский университет дружбы народов; Католический университет в Ружомберке | кандидат филологических наук, доцент кафедры русской и зарубежной литературы; доцент кафедры иностранных языков | tvkorenkova@mail.ru |
Всего: 1
Ссылки
Gustave Dore. Histoire pittoresque, dramatique et caricaturale de la Sainte Russie: d'apres les chroniqueurs et historiens Nestor, Nikan, Sylvestre, Karamsin, Segur, etc. Paris, J. Bry aine, 1854, 207 p. URL: https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k1044804x.texteImage (дата обращения: 9.09.2019).
Циглер Р. Поэтика А.Е. Кручёных поры «41°»: Уровень звука // L’avanguardia a Tiflis / studi, ricerche, cronache, testimonianze, documenti a cura di L. Magarotto, M. Marzaduri, G. Pagani Cesa. Venezia, 1982. Р. 231-258. URL: http://hylaea.ru/uploads/files/page_6010_1402653173.pdf (дата обращения: 9.09.2019).
Roman Jakobson, Linda R. Waugh. Glossolalia // Roman Jakobson, Linda R. Waugh. The Sound Shape of Language. 3rd ed. / pref. Walter de Gruyter. N.Y. ; Berlin : Mouton de Gruyter, 2002. P. 214-218.
Шкловский В.Б. О поэзии и заумном языке // Поэтика. Сборники по теории поэтического языка. Пг. : 17-я Государственная типография, 1919. С. 13-26.
Горнфельд А.Г. Словесность // Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона : в 86 т. (82 т. и 4 доп.). СПб., 1890-1907. Т. XXX (59). Симъ-Слюзка. СПб. : Тип. АО «Издательское дело»; Брокгаузъ-Ефронъ, 1900. С. 397-403.
Harte T. Fast Forward: The Aesthetics and Ideology of Speed in Russian Avant-Garde Culture, 1910-1930. 1st ed. Madison : University of Wisconsin Press, 2009. 318 p.
Пастернак Б.Л. Кручёных // Пастернак Б., Третьяков С., Бурлюк Д., Толстая Т., Рафалович С. Жив Кручёных! : сб. ст. М. : Изд-во Всерос. союза поэтов, 1925. С. 1-2.
Хаусман Р. К истории фонетической поэзии / пер. с фр. М. Лепилова // По мнению дадасофа. Статьи об искусстве 1918-1970 / сост., хроника и коммент. К. Дудакова-Кашуро. М. : Гилея, 2018. С. 190-195.
Аскольд // Энциклопедический словарь / под ред. проф. И.Е. Андреевского. Т. 2: Араго-Аутка. СПб. : Ф.А. Брокгауз, И.А. Ефрон, 1890. С. 296-297.
Кручёных читает из «Победы над Солнцем». Аудиозапись. URL: https://www.youtube.com/watch?v=W-4HGKrciyE (дата обращения: 9.09.2019).
Повесть временных лет / подг. текста, пер., ст. и коммент. Д.С. Лихачева ; под ред. В.П. Адриановой-Перетц; [Доп. М.Б. Свердлова]. (Литературные памятники). 2-е изд., испр. и доп. СПб. : Наука, 1996. 667 с.
Русская грамматика : в 2 т. / редкол.: Н.Ю. Шведова (гл. ред.) и др. М. : Наука, 1980. Т. 1: Фонетика. Фонология. Ударение. Интонация. Словообразование. Морфология. 783 с.
Якубинский Л.П. О звуках поэтического языка. Скопление одинаковых плавных в практическом и поэтическом языках // Сборники по теории поэтического языка. Вып. 1. Пг. : 18-я Гос. Типография. Лештуков, 13, 1919. С. 37-57.
Бакунцев А.В. Феномен одесского «языка» // Вестник Центра международного образования Московского государственного университета. Филология. Культурология. Педагогика. Методика. 2011. № 3. С. 54-60.
Зеленецкий К.П. О русском языке в Новороссийском крае. Одесса : Тип. Францова и Нитче, 1855. 34 с.
Хаустов Ф.А. Будетлянам и чинарям. [Блог на портале Стихи.ру]. URL: www.stihi.ru/2015/07/14/7650 (дата обращения: 9.09.2019).
Фиртич Г.В. Дыр Был Щир Убещур. «Футу-Рус» («Амплитуды»), композиция для шести на стихи Маяковского В., Гуро Е., Бурлюка Д., Кручёных А. // Georgy Firtich. Futurus. Essential Works. Избранные произведения. CD. М. : Национальное музыкальное издательство, 2007.
Безродный М.В. Конец Цитаты. СПб. : Изд-во Ивана Лимбаха, 1996. 160 с.
Соколов М.Ю. Национальный дыр бул щир // Эксперт. 2010. № 18. С. 112.
Ульяновский В.А. Киевские Зверинецкие пещеры и скит: история в лицах. Киев : Антиквар, 2018. 412 с.
Серапион (иеромонах). Новооткрывающиеся древние пещеры в Киеве, на Зверинце / сост. иером. Серапион. Киев : Типография 1-й Киевской артели печатного дела, 1914. 16 с. (1-е изд. Одесса, 1913)
Древняя Русь в свете зарубежных источников : хрестоматия / под ред. Т.Н. Джаксон, И.Г. Коноваловой, А.В. Подосинова. Т. III: Восточные источники. М. : Русский фонд содействия образованию и науке, 2009. 264 с.
Коренькова Т.В., Кореньков А.В. Литература Древней Руси как необходимый фон в курсе истории русской литературы // Русский язык в Центре Европы (Словакия, Братислава). 2017. № 17. С. 77-97.
Ломоносов М.В. [Замечания на диссертацию Г.Ф. Миллера «Происхождение имени и народа российского»] // ПСС. Т. VI: Труды по русской истории, общественно-экономическим вопросам и географии. 1747-1765. М. ; Л. : Изд-во АН СССР, 1952. C. 17-80.
Федченко О.Д. Рюрик и его команда (Этимология антропонимов) // Вопросы исторической науки : материалы V Междунар. науч. конф. Казань : Бук, 2017. С. 40-45.
Петрухин В.Я. Аскольд и Дир // Древняя Русь в средневековом мире : энциклопедия. М. : Ладомир, 2014. С. 44-45.
Рождественский Т.С. Объяснительный словарь // Песни русских сектантов мистиков : сб., сост. Т.С. Рождественский и М.И. Успенский. СПб. : Типография П.П. Сойкина, 1912. LV, 871 с., 23 л. ил. (Записки императорского Русского географического общества по Отделению этнографии / Издание под редакцией Т.С. Рождественского и М.И. Успенского; Т. 35). С. XI-LV.
Малевич К.С. Письма к М.В. Матюшину / публ. Е.Ф. Ковтуна // Ежегодник Рукописного отдела Пушкинского дома на 1974 год. Л. : Ленингр. отд. изд-ва «Наука», 1976. С. 190-193.
Тернова Т.А. Телеграф как универсалия в литературе русского авангарда (Футуристический вектор развития) // Известия Волгоградского государственного педагогического университета. 2011. № 2 (56). С. 10-112.
Ash J. Primitivism in Russian Futurist Book Design 1910-14. 2002. URL: https://www.moma.org/interactives/exhibitions/2002/russian/5_pdfs/ash.pdf (дата обращения: 9.09.2019).
Груцо А.П. Старославянский язык: практический курс. Минск : ТетраСистемс, 2005. 336 с.
Janecek G. The Look of Russian LiteratureAvant-Garde Visual Experiments, 1900-1930. Princeton, N.J. : Princeton University Press, 1984. URL: https://monoskop.org/images/8/8b/Janecek_Gerald_The_Look_of_Russian_Literature_Avant-Garde_Visual_Experi-ments_1900-1930_1984.pdf (дата обращения: 9.09.2019).
Кореньков А.В. Войны букв и мифы графем, или къ історіі современной реформы русской ортографіі // Русский язык в Центре Европы (Словакия, Банска Быстрица). 2002. № 5. С. 16-33.
Кручёных А.Е. Сдвигология русского стиха. Трахтат обижальный (трактат обижальный и поучальный). Книга 121-я. М. : Типография ЦИТ, 1922. 48 с.
Третьяков С. Бука русской литературы (Алексей Кручёных) // Пастернак Б., Третьяков С., Бурлюк Д., Толстая Т., Рафалович С. Жив Кручёных! : сб. ст. М. : Изд-во Всерос. союза поэтов, 1925. С. 3-17.
Терентьев И.А. Кручёных грандюзарь. Тифлис : [б/изд.], 1919. 16 с.
От символизма до «Октября»: [сборник] / сост. Н.Л. Бродский и Н.П. Сидоров. М. : Новая Москва, 1924. 303 с. (Литературные манифесты. I. Россия)
Кручёных А.Е. Автобиография дичайшего // 15 лет русского футуризма. 19121927. М. : Всероссийский союз поэтов, 1928. С. 57-61.
Кручёных А.Е. Апокалипсис в русской литературе. Книга 122-я. М. : Типография ЦИТ, 1923. 48 с.
Кручёных А.Е. Откуда и как пошли заумники // Фонетика театра. М. : Типография ЦИТ, 1923. С. 38-42.
Кручёных А.Е., Хлебников В. Слово как таковое. [М.] : Типо-литография т/д «Я. Данкин и Я. Хомутов», [1913]. 15 с. (Рис. К. Малевича и О. Розановой).
Кручёных А. Е. Новые пути слова (язык будущего смерть символизму) // Хлебников В., Кручёных А., Гуро Е. Трое / обложка и рисунки посвящ. памяти Е. Гуро художником К.С. Малевичем. СПб. : Журавль, 1913. С. 22-37.
Кручёных А.Е. Помада. М. : Издание Г.Л. Кузьмина и С.Д. Долинского; Литография Мухарского, 1913. 16 с.
Левинтон Г.А. Заметки о зауми // Статьи о поэзии русского авангарда. Helsinki : Unigrafia, 2017. (Slavica Helsingiensia 51). С. 11-40.
Соколова О.В. Концепции «вселенского» и «универсального» языка в русском и американском авангарде // Критика и семиотика. 2015. № 22. С. 268-283.
Lanne Jean-Claude. Некоторые замечания по поводу понятий «зауми» и заумного языка у Хлебникова // Toronto Slavic Quarterly. Winter 2014. № 47. P. 303-322.
Фаликов Б.З. Величина качества. Оккультизм, религии Востока и искусство XX века. М. : Новое литературное обозрение, 2017. 254 с. (Интеллектуальная история).
Кацис Л. «Иудейская тайнопись» и шифры русского авангарда // Лехаим. 2006. № 7 (171). Июль. (Таммуз 5766). URL: https://lechaim.ru/ARHIV/171/katsis.htm#_ftn1 (дата обращения: 9.09.2019).
Аптекман М. Фантастическая каббала и ее роль в истории русского оккультизма: великое тайное учение или успешное шарлатанство? // Континент. 2001. № 107. URL: http://magazines.russ.ru/continent/2001/107/apt.html (дата обращения: 30.04.2019).
Силард Л. Карты между игрой и гаданьем: «Зангези» Хлебникова и Большие Арканы Таро // Мир Велимира Хлебникова: Статьи. Исследования (1911-1998). М. : Языки русской культуры, 2000. С. 294-302.
Арватов Б.И. Речетворчество: (По поводу «заумной поэзии») // Леф. 1923. № 2. С. 79-91.
Дрезен Э.-В.К. За всеобщим языком: Три века исканий. М.; Л.: Го. изд-во, Главнаука НКП РСФСР, 1928. 272 с.
Львов-Рогачевский В.Л. Имажинизм и его образоносцы: Есенин, Кусиков, Мариенгоф, Шершеневич. Ревель : Орднас, 1921. 68 с.
Винокур Г.О. Хлебников // Филологические исследования: Лингвистика и поэтика. М. : Наука, 1990. С. 31-36.
Березин Вл. 130 лет назад родился самый отъявленный «левак» русской литературы, автор либретто «Победы над солнцем» и знаменитого «дыр бул щыл» - Алексей Кручёных // Год литературы. 21.02.2016. URL: https://godliteratury.ru/projects/zapakh-literatury (дата обращения: 9.09.2019).
Карамазов И. Дыр бул щыл навсегда (2.V.2014). URL: http://karamazoff.ru/dyir-bul-shhyil-navsegda (дата обращения: 9.09.2019).
Богомолов Н.А. «Дыр бул щыл» в контексте эпохи // Новое литературное обозрение. 2005. № 72. C. 172-192.
Журба А.М., Разинкова М.К. Стихотворение Алексея Кручёных «Дыр-бул-щыл..» и теория параболы // Поэзия русского и украинского авангарда: история, эстетика, традиции (1910-1990 гг.) : тез. всесоюз. науч. конф. Херсон, 1990. С. 75-77.
Janecek G. ZAUM’: The Transrational Poetry of Russian Futurism. San Diego : San Diego State University Press, 1996. Р. 49-70.
Петров А. Дыр бул щил (ст. А. Кручёных). 2018. URL: https://www.youtube.com/watch?v=_AgdvIUTBQU (дата обращения: 9.09.2019).
Набатов С. Dyr Bul Shchyl // Simon Nabatov. Readings - Gileya Revisited. CD Album. Newton Abbot (UK) : Leo Records, 2019.
Янечек Дж. Стихотворный триптих А. Кручёных Дыр бул щыл // Проблемы вечных ценностей в русской культуре и литературе ХХ века. Грозный : Чечено-Ингушский гос. ун-т, 1991. С. 35-43. URL: http://ka2.ru/nauka/janecek_2.html (дата обращения: 9.09.2019).
Vath S. Dyr Bul Scyl // Sven Vath. In: The Mix - The Sound Of The Eleventh Season (2010). Frankfurt : Cocoon Recordings, 2010.
Brinkmann T. Soul Center - Dyr Bul Scyl // Brinkmann, Thomas. Retrospektiv. Digital Album. L. : Third Ear Recordings, 2017.
Adler C. The Tennessee Valley Media Collective. Dyr Bul Shchyl. Performed by Ike Van De Vate. Videography by Sydney Marshall Gilliam. URL: http://www.tennesseevalley-mediacollective.com/music.html (дата обращения: 9.09.2019).
Adler Christopher, King Katelyn. Zaum Box, for solo speaking percussionist. 2015-16. University of San Diego Music Program Zaum. URL: http://christopheradler.com/zaumbox.html (дата обращения: 9.09.2019).
Aleksej Krucenych. Dyr Bul Scyl // Phonetische Poesie (12-inch vinyl record). Munchen : Luchterhand Verlag, 1971.
Adler Christopher. Lecture/Performance - Transplanted Roots 2015. Transrational language and invented musical worlds in Zaum Box. URL: https://www.youtube.com/watch?v=0753vGcGiUc (дата обращения: 9.09.2019).
Корсаков С.С. Курс психиатрии. М. : Типо-литография В. Рихтер, 1901. 1113 с. + XXXVII (приложение).
Бондарь С.Д. Секты хлыстов, шалопутов, духовных христиан, Старый и Новый Израиль и субботников и иудействующих. Краткий очерк. Пг. : Тип. В.Д. Смирнова, 1916. 96 с.
Коновалов Д.Г. Религиозный экстаз в русском мистическом сектантстве: 1. Картина сектантского экстаза // Богословский вестник. 1908. Т. 1, № 10. С. 188-217.
Ищенко Т.А. Вятские народные игры как фольклорные события // Культура и образование: от теории к практике. 2014. Т. 1. С. 65-70.
Нечаев В.В. Дела следственные о раскольниках комиссий в XVIII веке // Описание документов и бумаг, хранящихся в Московском архиве Министерства юстиции. М., 1889. Кн. 6. Отд. II. C. 77-199.
Федорова В.П. Особый тип припева в необрядовых лирических песнях // Русский фольклор. (Поэтика русского фольклора). Л. : Наука, 1981. Вып. XXI. С. 38-46.
Дубель К.А. Ритмические эксперименты с народным стихом в поэтической практике В. Хлебникова и А. Кручёных // Новый филологический вестник. 2015. № 4 (35). С. 57-69.
Панюков А.В. Заумь в заговорной традиции коми: в поисках истоков // Sator 17. Фольклористика коми : исследования и материалы. Тарту : EKM Teaduskirjastus ; Научное издательство ЭЛМ, 2016. С. 67-98.
Коротаева Е.В. Заумь в авангардной эстетике и фольклоре // Русская речь. 2015. № 1. С. 39-47.
Панюков А. В. К вопросу о самоорганизации зауми (на материале коми считалок) // Вестник Челябинского государственного университета. 2010. № 34 (215). Филология. Искусствоведение. Вып. 49. С. 93-98.
Левкиевская Е.Е. Заумь как разновидность ритуальной речи славян // Славянские древности. Этнолингвистический словарь / под ред. Н.И. Толстого. М. : Международные отношения, 1999. Т. 2. С. 279-282.
Крылов К. А. Десять «самых-самых» русских поэтических строк // Всеобщий синопсис, или Система мнений. Daily archives: 22 April 2003. URL: https://krylov.cc/blog/2003/04/22 (дата обращения: 9.09.2019).
Путилов Б.Н. [Комментарии к «Там на горе наехали Бухары»] // Древние Российские стихотворения, собранные Киршею Даниловым. (Литературные памятники). 2-е изд., доп. М. : Наука, 1977. С. 457-458.
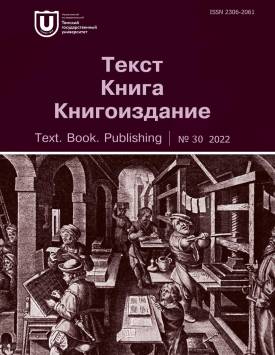

 Вы можете добавить статью
Вы можете добавить статью