Книжная иллюстрация рассматривается как равный по значимости вербальному тексту компонент детской книги. Иллюстрации петербургского художника А. Ломаева к книге «Снежная королева» (2021) предлагают вариант актуализации классического текста за счет осовременивания иллюстраций. Семиотический анализ визуальных элементов позволяет сделать вывод об особом нарративе, разворачивающемся с помощью визуального ряда, дополняющем развитие классической сказки и смещающем акцент читательской рецепции с «вечного» сюжета к проблемам Европы ХХ в. Автор заявляет об отсутствии конфликта интересов.
“The Snow Queen” with illustrations by Anton Lomaev: The possibilities of a creolized text.pdf Введение В XXI в. получило развитие исследование книжной иллюстрации не столько в качестве одной из важных составляющих книги как целого, сколько в качестве основы книги; сформировалось отношение к невер- 114 Вопросы книгоиздания / Book publishing бальным знакам текста как к главному, первичному языку, обращённому к читателю. Внимание визуальной семиотики к книжной иллюстрации в целом и к детским книгам в частности обусловлено общим «кризисом классической рациональности» [1. С. 40], осознанием того, что «глобальный мир, мир постсовременности, ориентируется на визуальный способ представления информации» [1. С. 40]. Речь идёт о преодолении логоцентричности. Подтверждение этой тенденции в детской литературе можно найти, обратив внимание на интермедиальность современной детской книги (включение в текст QR-кодов для прослушивания музыки или получения дополнительных сведений; использование «электронных помощников»: героев или авторского голоса; актуализация явления «книга художника», широкая популярность picture books или silent books - книг без слов, и т.д.). С одной стороны, возможности иллюстрации, освобождённой от обязательной функции сопровождать сюжет и синонимически подтверждать его, значительны. Они дают импульс культурному, эмоциональному развитию реципиента, в первую очередь ребенка. Речь идет не только о формировании художественного вкуса или мотивации к чтению. Читатель движется от конкретного образа к абстрактному. «Чтобы прийти к “пониманию” буквы, ребенок для начала должен открыть для себя, как работает знак в принципе. В частности - изображение как знак» [2]. Визуальная природа образа позволяет художнику придать тексту определённые пространственновременные координаты. По словам одного из членов жюри Болонской книжной ярмарки, художника Анны Кастаньоли, иллюстрация «привносит в текст актуальность, “здесь и теперь”» [3]. С ней солидарен французский иллюстратор Эдмон Бодуэн: «Одни и те же вещи, написанные и нарисованные, воспринимаются по-разному. В визуальном решении всегда больше насилия даже над образом человека» [4]. Именно визуальная определенность воплощает индивидуальный взгляд художника, и одна и та же история, проиллюстрированная разными людьми, может стать для читателя новым вариантом единого литературного инварианта. Не случайно среди авторов читательских блогов можно встретить коллекционеров книг одного і автора с разными иллюстрациями . С другой стороны, чтение иллюстраций - это навык, требующий специальной подготовки. Чем более свободна иллюстрация от «обслуживания» 1 По теме статьи см.: Лучшие Снежные королевы (обзор 10 книг) // Мама зануда. Блог о методиках развития, книгах для малышей, питании, безвредной косметике, средствах для стирки и многом другом. URL: https://mamazanuda.ru/snejnye-korolevy/ (дата обращения: 02.08.2022). 115 Губайдуллина А.Н. «Снежная королева» с иллюстрациями А. Ломаева (М. Аромштам) вербального текста, тем больше самостоятельного смысла она имеет и тем более метафоричной и сложной для интерпретации может быть. Соглашаясь с представленной выше точкой зрения, что зрительный образ «императивнее письма» [5. С. 267], Р. Барт настаивает на «многомерности» визуальной формы. Чем схематичнее рисунок, тем проще он поддается интерпретации [5. С. 266]. Чем большей художественностью он обладает, тем более глубинным может быть его значение и тем сильнее он обращен к «адресности», т.е. связан с опытом, ассоциативными возможностями и «глубинной ситуацией» [5. С. 277] читающего субъекта. Сложность визуального образа (разновидности мифа, по Барту) в том, что он вынужден существовать в опасной двойственности, предлагаемой языком, который «.. .лишь подводит его, либо уничтожая понятие в попытке его скрыть, либо демаскируя его в попытке высказать» [5. С. 289]. Получается, что задачей читателя иллюстраций является преодоление слишком простого, буквального, прочтения картинки, но в то же время - вычленение из всего богатства общекультурного и персонального опыта адекватных смыслов, подтверждаемых системой визуальных образов. Креолизованный текст в детской литературе В данной статье мы пытаемся интерпретировать иллюстрации одной конкретной книги как историю, развивающуюся самостоятельно, независимо от основного повествования, точнее, находящуюся с вербальным текстом в отношениях комплиментарности и взаимного влияния. Выбранная книга - «Снежная королева» Г.Х. Андерсена - неоднократно становилась объектом художественного эксперимента и творческой задачей для разных художников. В качестве наиболее известных примеров оформления сказки перечислим иллюстрации Ники Гольц, Александра Могилевского, Виктора Пивоварова, Angela Barrett, Christian Birmingham1. Мы выбрали книгу, оформленную Антоном Ломаевым [6. С. 4], не только потому, что это современное издание, но и потому, что в книге проявлен осознанный художественный принцип, чётко обозначена позиция иллюстратора. Антон Ломаев - российский художник, член Союза художников России, иллюстрировавший многие классические и современные произведения мировой литературы как для детей, так и для взрослых2. Награждён российскими и международными премиями в области искусства 1 Подробнее об иллюстраторах «Снежной королевы» см.: «Ледяная красота Снежной королевы: 40 волшебных образов, созданных известными иллюстраторами» [7]. 2 Персональный сайт художника: http://www.lomaevart.com/ 116 Вопросы книгоиздания / Book publishing книги и иллюстрации, в числе которых премия «Золотое яблоко» (BIB Golden Apple) международного конкурса иллюстраций книг для детей и юношества в Братиславе (2019 г.), Почётный диплом Международного совета по детской книге IBBY (International Board on Books for Young People) (2018 г.), Prix l'esprit de l'engagement (Приз за дух вовлечённости, Best creator of children's, ESFS (European Science Fiction Society), 2015 г.), премия Всероссийского конгресса фантастов «Странник» (2001 г.). Антон Ломаев - лауреат Всероссийского конкурса книжной иллюстрации «Образ книги» (2013, 2014, 2018, 2019 г.) и Международного конкурса государств - участников СНГ «Искусство книги» (2020 г.). При анализе его «Снежной королевы» мы в первую очередь прибегаем к методам визуальной семиотики, но также используем элементы нарративного анализа, прочитывая сюжет, последовательно разворачивающийся благодаря иллюстративному ряду. Итак, тип детской книги, к которой мы обращаемся, представляет собой пример не гомогенного, а синкретического текста, в котором иллюстрация не менее значима, чем вербальный компонент художественного произведения. «Снежную королеву» 2021 г. можно отнести к тем текстовым структурам, которые обозначаются метафорическим термином «креолизованные тексты», принадлежащим Ю.А. Сорокину и Е.Ф. Тарасову (1990): это - «тексты, фактура которых состоит из двух негомогенных частей (вербальной языковой (речевой) и невербальной (принадлежащей к другим знаковым системам, нежели естественный язык)» [8. С. 180]. Первоначально понятие использовалось в работах, посвящённых рекламным, публицистическим текстам, однако сейчас о креолизо-ванных текстах говорят и в связи с художественными произведениями. «Креолизованный текст предстает сложным текстовым образованием, в котором вербальные и невербальные элементы образуют одно визуальное, структурное, смысловое и функциональное целое, нацеленное на комплексное воздействие на адресата» [9. С. 185]. Помимо указанного выше понятия для обозначения феномена вербального и невербального синкретизма в современной лингвистике используются и другие термины. В предложенной Г. В. Ейгером и В. Л. Юхтом типологии текстов была выделена оппозиция монокодовых и поликодовых текстов. «К поликодовым текстам в широком семиотическом смысле должны быть отнесены и случаи сочетания естественного языкового кода с кодом какой-либо иной семиотической системы (изображение, музыка и т.п.)» [10. С. 107]. М. Б. Ворошилова, проводя подробный терминологический анализ, упоминает наиболее популярные варианты определений: «... независимо 117 Губайдуллина А.Н. «Снежная королева» с иллюстрациями А. Ломаева друг от друга для обозначения синтеза вербальной и изобразительнографической знаковых систем используется, по сути, идентичный термин: “изовербальный комплекс”... или “изоверб”. Также исследователи для обозначения описываемого явления используют термины: семиотически осложненные тексты... видеовербальные тексты... Для всей совокупности семиотически осложненных текстов, т.е. текстов, основу которых составляют знаки двух или более семиотических систем, ряд исследователей (...Ю.А. Бельчиков и А.П. Сковородников) предлагают использовать термин “контаминированные тексты” (от лат. сойашіпайо - смешение)» [9. С. 185]. Останавливаясь всё же на понятии «креолизация», актуализирующем идею смешения двух языков, мы в дальнейшем будем использовать это понятие очень ограниченно, проговорив его лишь как фундаментальный принцип, который, на наш взгляд важен для издателей и художника. Далее мы движемся дедуктивно, от общего художественного оформления -к конкретным знакам визуального текста и их значению. Семантика визуальных образов в книге «Снежная королева» Антон Ломаев иллюстрирует сказку «Снежная королева» в семи историях, переведённую Анной Ганзен. Ведущий художественный принцип, которому он следует, - осовременивание действительности в иллюстрации. Этот принцип востребован разными жанрами искусства: не только в литературе, но в театре и кинематографе режиссёры помещают известных персонажей в новые «декорации». Достаточно вспомнить фильм «Romeo+Juliet» База Лурмана (1996), кинодраму «Борис Годунов» Владимира Мирзоева (2011) или спектакль «Hamlet: Cumberbatch» Линдси Тернер (2015). Об одном из литературных проектов, призванных актуализировать классические тексты, можно прочитать здесь [11. С. 239]. Подробное хронологическое исследование осовременивания классики в театральной культуре проводит Е.В. Сальникова. Несмотря на то что её работа посвящена не литературе, но сценическим постановкам, для нас могут быть интересны некоторые выводы. Замечая, что «задолго до нынешнего периода зрелищное искусство выбрало путь свободных трансформаций времени-пространства, сообразуясь со своей художественной логикой» [12], автор выявляет разные причины, способствующие осовремениванию искусства в ту или иную эпоху. Первенство принадлежит Ренессансу. «Подобная эстетика не означала сознательного желания осовременить и приблизить к публике героев исторических сюжетов. Историческое прошлое воспринималось как 118 Вопросы книгоиздания / Book publishing часть “всегдашнего”, как часть большого временного потока, в русле которого пребывала еще эстетика религиозных зрелищ Средних веков. Для человека Средних веков важнее опора на неизменное. Существеннее то, что он является родственником Адама, а не то, что во времена Адама одежда имела другой покрой, да и сами ткани были другими. Всегдашними виделись актуальные для постановщиков и зрителей формы одежды, вещей, повседневного обихода. Театр пока не считает нужным и не умеет обсуждать современность посредством соотнесения ее с другими эпохами. Актуальнее оппозиция вре-мя/вечность. В зрелищах ритуально воспроизводится вечно значимое, связанное с циклическим пониманием времени» [12]. Если для театра Ренессанса появление артефактов современности на сцене являлось следствием пренебрежения мелкими частностями в угоду вечным конфликтам, то в ХХ в. искусство символизма и модерна использует приметы актуального времени вполне сознательно. «Появляется желание театра не вживать себя сегодняшних в исторический или квазиисторический антураж и костюм, но перевоплощать и переодевать исторические сюжеты в современные формы, будь то одежда, бытовые детали, стиль поведения, аспекты предлагаемых обстоятельств. Иными словами, когда понимание истории стало более определенным, документальным и реалистическим когда оно утвердилось как академическая традиция, наступила очередь образов современности работать на размыкание буквальных прозаических, конечных смыслов в сторону многосложных обобщений» [12]. То есть, реализуя несхожие мотивы режиссёров разных эпох, осовременивание в целом помогало одному и тому же: представить положение нового человека в вечном конфликте. Опосредованно оно способствовало эффективности зрительской (читательской) рецепции. Ломаев конкретизирует условный хронотоп сказки Андерсена, перенося действие в Европу ХХ в. Главным цветом в книге является синий. Он имеет сложную семантику. С одной стороны, в сказке про Снежную королеву это цвет самой королевы: снега, холода, ледяных осколков, безжизненности, и поэтому влияние синего возрастает в тех частях книги, где более проявлен мортальный сюжет. В частности, в синих тонах выполнен мир злого тролля (начало первой главы) и мир Снежной королевы. В мире Снежной королевы холод - это не только физическое явление, но ещё и мир абстрактной рациональности. Когда Снежная королева увозит Кая в больших санях (а на иллюстрации - в роскошном автомобиле, где фигура Снежной королевы на капоте, устремлённая вперёд, 119 Губайдуллина А.Н. «Снежная королева» с иллюстрациями А. Ломаева зрительно напоминает «Дух экстаза» - символическую статуэтку богини Ники, устанавливаемую на капоте машин марки Rolls-Royce), мальчику сначала страшно: «Кай весь дрожал, хотел прочесть “Отче наш”, но в уме у него вертелась одна таблица умножения» [6. С. 22]. Но далее Кай привыкает к этой обезличенной логической абстракции: «Он совсем не боялся её и рассказал ей, что знает все четыре действия арифметики, да ещё с дробями, знает, сколько в каждой стране квадратных миль и жителей, а она только улыбалась в ответ. И тогда ему показалось, что он и в самом деле знает мало, и он устремил свой взор в бесконечное воздушное пространство» [6. С. 23]. Так проявляется первый конфликт, который у Андерсена, глубоко религиозного автора, является конфликтом между духом и разумом. А. Ломаев предаёт этому конфликту дополнительный ракурс: это смена мышления ХХ в. - от патриархального, органично соединяющего духовные и интеллектуальные ценности ко времени практичной рациональности, лишенной духовного начала. Мир тролля в иллюстрациях двойствен, как и сам его образ. Человек, лица которого читатель не видит, обладающий тенью дьявола с рогами и хвостом, управляет миром воинствующих бюргеров, среди которых узнаются аристократы, короли, военачальники. При этом иллюстрация с троллями включает в себя много предметов транспорта (от велосипеда до поезда) и милитарных символов (фигура солдатика, военная форма, пушки, барабан, самолёты, противотанковые ежи, военный крейсер). Сам А. Ломаев пишет: «... эпоха лошадей сменилась эпохой автомобилей, самолётов и космических ракет» [6. С. 82]. Транспорт и приметы войны - это лейтмотивы, которые организуют иллюстративный ряд книги, добавляя сказочному сюжету большую документальность, реалистичность, напряжённость. При этом интересно, что если в мире троллей сами фигурки злых «учеников тролля» и военных предметов выглядят миниатюрными, игрушечными, то по ходу книги они обретают значительность и в мире Снежной королевы представляют уже серьёзную угрозу, а после того, как Герда вернула Кая, военные предметы снова становятся игрушками в одомашненном пространстве детской игры. Так создаётся кольцевая композиция иллюстративного нарратива, продуманного Ломаевым. Кольцевая рамка поддерживается ещё и второстепенными персонажами иллюстраций. В начале книги - это жители условного европейского города в едином пространстве улицы - книжного разворота. А. Ломаев нигде не акцентирует, что действие сказки происходит именно в Дании, и в послесловии он говорит о Европе ХХ в. как о едином топосе с общими политическими, социальными, экономическими процессами. 120 Вопросы книгоиздания / Book publishing А в конце книги персонажи собраны для общего «семейного портрета». Читатель видит их глазами фотографа, находящегося за кадром. Обратим внимание на траурную рамку портрета, которая намекает на ушедшие времена, на закончившийся ХХ в. Общий портрет обеспечивает несколько функций: придает книге композиционную завершенность; создаёт дополнительных персонажей, которых читатель воспринимает как персонифицированных жителей этого города (страны). И таким образом сюжет выходит за пределы истории об одной конкретной паре, о девочке и мальчике, и универсализируется в соответствии с предисловием Андерсена к сказке. Синий цвет маркирует не только стеклянный и ледяной мир. В некоторых случаях синие фигуры усиливают напряженность и трагичность определенного эпизода текста. Так, обратимся к моменту, где Герда идет ночью по замку принцессы: «- А мне кажется, кто-то идёт за нами! - сказала Герда, и в ту же минуту мимо неё с лёгким шумом промчались какие-то тени: лошади с развевающимися гривами и тонкими ногами, охотники, дамы и кавалеры верхами. - Это сны! - сказала ручная ворона. - Они являются сюда, чтобы мысли высоких особ унеслись на охоту» [6. С. 46]. Художник добавляет к портретам средневековых рыцарей на конях с собаками, которые проносятся над головой Герды, военные самолёты с крестами на крыльях. И сны жителей замка ассоциируются уже не только с охотой, но и с войной, т.е. с «охотой» на людей. Тема войны постоянно присутствует в иллюстрациях. Не случайно, когда Герда попадает к «женщине, умевшей колдовать», мы видим на столе нераспечатанный треугольник военного письма, придавленный старым ключом, - символ солдата условной войны, забытого Гердой, оставшегося где-то вдалеке. На этой же иллюстрации Ломаев размещает блюдо с вишнями, зрительно контрастирующее с бледной, холодной цветовой гаммой изображения в целом. Вишня как символ может быть интерпретирована по-разному. Нам кажется, что в данном случае уместно предложить интерпретацию, примененную К.А. Нагиной к повестям Л.Н. Толстого. Отмечая двойственность образа вишни, которая в христианской традиции символизировала небесную сферу и непорочность, но одновременно в иконографии нередко заменяла яблоко как плод Древа Познания [13. С. 25], К. Нагина говорит, что «сакрально-поэтическая семантика вишни как плода любви усиливается метафорикой сада как недоступного, запретного локуса, запертого на ключ» [13. С. 24]. Подобным образом по отношению к Герде в затерянном саду это и метафора любовного влечения, и одновременно знак того, что девочка оказалась затерянной, замкнутой в саду безвременья. 121 Губайдуллина А.Н. «Снежная королева» с иллюстрациями А. Ломаева Яркие цветовые акценты, подобные блюду с вишнями, нечасто появляются в книге. В целом гамма остаётся выдержанной в холодных синих тонах, если мир враждебен и чужд героям, и в теплых, сдержанных тонах сепии, если изображается пространство дома. Выраженным синим цветом А. Ломаев окрашивает элементы одежды: шейную косынку Кая, нарукавную повязку, ремешки военных головных уборов. Синий галстук Кая (в сочетании с барабаном в руках) связывается с его принадлежностью к организованному молодежному движению, в частности к скаутской группе (синий - один из цветов скаутских галстуков). По словам Антона Ломаева, «ХХ век обрушил на человека целый ряд новых идей и смыслов, многие из которых, к примеру, коммунизм или фашизм, пытались коренным образом перестроить не только повседневную жизнь, но и само мировоззрение человека. Они покушались на религиозные традиции, многие века бывшие стержнем человеческого бытия» [6. С. 82]. Интересно, что скаутский галстук и синий барабан появляются у Кая на той странице с текстом, где ему попадает осколок в глаз. И эти атрибуты принадлежности к группе (галстук и нарукавная повязка) будут у него до тех пор, пока Герда его не расколдует. А вторая очень важная «находка» художника заключается в том, что по ходу книги галстук «переходит» последовательно от старшего к младшему: в королевстве тролля синий галстук носит мужчина-военный, на иллюстрации городской улицы в галстуке - молодой парень, газетчик, затем сам Кай, а в конце, на патриархальном групповом портрете, где Кай уже освободился от синего цвета, в стороне от общей группы веселых людей читатель видит маленького мальчика с барабаном - «последователя» Кая. Такой иллюстративный сюжетный ход, на наш взгляд, помогает выразить две идеи: идеологический поток охватил людей разных возрастов; и, с другой стороны, первая половина ХХ в. была напряжённой, связанной с постоянными войнами, революциями, сменой концепций, и разным поколениям пришлось (и приходится, поскольку в этой преемственности заметна универсальность) пережить давление этого века. Кульминационной (в плане сказочного и иллюстративного сюжета и в эмоциональном плане наиболее трагичной) представляется седьмая глава, эпизод спасения Кая в чертогах Снежной королевы. В сказке вступают в спор холод и тепло, мышление (Снежная королева сидит на ледяном озере, которое она называет «зеркалом разума», а Кай решает интеллектуальные головоломки) и чувствование (Герда молится, входя в чертог, а потом оживляет Кая слезами и песней), смерть и жизнь. 122 Вопросы книгоиздания / Book publishing Для Ломаева чертог Снежной королевы - это интенсивно синее, ледяное пространство, апофеоз синего. Оно наполнено атрибутами войны (дирижабль, сбитый самолёт, громкоговорители) и явно ассоциируется с фашизмом, в частности, из-за эмблемы, на которой вместо симметричной свастики абстрактный симметричный символ, состоящий из осколков льда, и из-за мотоцикла с коляской, известного читателям по фильмам и фотографиям Второй мировой войны. Но не менее важно то, что чертог королевы в иллюстрации, помимо знаков, ассоциирующихся у читателя с фашизмом, включает в себя атрибуты рухнувших великих империй: египетские пирамиды, античный амфитеатр и римские акведуки, здания, напоминающие сталинский ампир, монументы и т. д. Интенция художника указывает на то, что никакая социальная власть не вечна (в сказке читаем: «Холодное пустынное великолепие чертогов Снежной королевы было забыто ими, как тяжёлый сон» [6. С. 76]). Для Андерсена вечной является только власть бога. Не случайно трон Снежной королевы на финальной иллюстрации, в доме бабушки, обращается в трон Богоматери в центре картины, фигура девы Марии размещена слева, а дирижабль напоминает рыбу - символ Христа. А. Ломаев противопоставляет холоду безличной власти теплые тона дома: образ семьи, маленького города, привычного, обжитого пространства. На финальном групповом портрете персонажи собраны под апельсиновым деревом - одним из самых плодовитых деревьев и древним символом плодородия. Апельсин ассоциируется с великолепием и любовью, а также является символом брака. Образ апельсина связывается с солнцем, теплом. Рассыпанные апельсины «побеждают» холод Снежной королевы своим теплом и отождествляются с крепкими семейными узами, с ценностью семьи. Таким образом, если делать выводы и возвратиться к возможностям креолизованного текста, нужно сказать, что иллюстрация и вербальный текст не просто дублируют идеи друг друга. Иллюстрация и текст сказки могут вступать в разные отношения: взаимодополнения, расширения (Ломаев универсализирует конфликт сказки), переноса (мы транспонируем фабулу сказки в другое время, проводя своеобразный эксперимент, как с текстом будут сосуществовать новые атрибуты), даже противопоставления (если для Андерсена спасительной являлась тема религии, то в иллюстрациях Ломаева всё-таки на первый план выходит идея гуманизма и связи людей в малом сообществе).
Нагина К. А. Пространственные универсалии и характерологические коллизии в творчестве Л.Н. Толстого : автореф. дис.. д-ра филол. наук. Воронеж, 2013. 40 с.
Сальникова Е.В. Феномен «осовременивания» классики: к истории современных тенденций // Художественная культура. Art & Cultury Studies. 2016. № 1 (17). URL: http://artculturestudies.sias.ru/2016-1-17/yazyki/4939.html (дата обращения: 13.08.2022).
Губайдуллина А.Н. Итальянский проект «Save the story» в контексте двухадресной (взрослый + ребёнок) литературы // Русский язык и культура в зеркале перевода. 2018. № 1. С. 239-248.
Ейгер Г.В., Юхт В.Л. К построению типологии текстов // Лингвистика текста : материалы науч. конф. при МГПИИЯ им. М. Тореза. М., 1974. Ч. 1. С. 103-109.
Ворошилова М.Б. Креолизованный текст: аспекты изучения // Политическая лингвистика. 2006. № 20. С. 181-189.
Сорокин Ю.А., Тарасов Е.Ф. Креолизованные тексты и их коммуникативная функция // Оптимизация речевого воздействия. М., 1990. С. 180-186.
Ледяная красота Снежной королевы: 40 волшебных образов, созданных известными иллюстраторами. URL: https://www.livemaster.ru/topic/2160285-ledyanaya-krasota-snezhnoj-korolevy-40-volshebnyh-obrazov-sozdannyh-izvestnymi-illyustratorami (дата обращения: 03.08.2022).
Андерсен Х.К. Снежная королева. СПб. : Лорета, 2021. 88 с.
Барт Р. Мифологии / пер. с фр., вступ. ст. и коммент. С. Зенкина. М. : Академический проект, 2008. 351 с.
Бодуэн Э. «В любом творчестве все время нужно себя ощущать, как будто ты стоишь на краю пропасти» // Папмамбук. Интернет-журнал. 10 апреля 2018. URL: https://www.papmambook.ru/articles/3134/(дата обращения: 01.08.2022).
Кастаньоли А. «Надо рассказывать детям истории!» // Папмамбук. Интернетжурнал. 18 ноября 2019. URL: https://www.papmambook.ru/articles/3959/(дата обращения: 01.08.2022).
Аромштам М. Зачем нужны весёлые картинки? // Папмамбук. Интернет-журнал. 14 апреля 2020. URL: https://www.papmambook.ru/articles/466/(дата обращения: 01.08.2022).
Зенкова А.Ю. Визуальная метафора в социально-политическом дискурсе: методологический аспект // Многообразие политического дискурса. Екатеринбург, 2004. С. 39-54
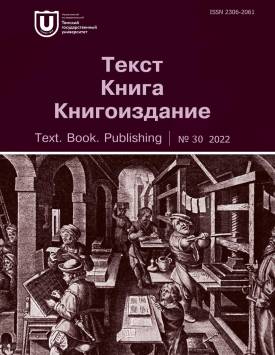

 Вы можете добавить статью
Вы можете добавить статью