Полномочие получения объяснений при проверке сообщения о преступлении закреплено в ч. 1 ст. 144 УПК РФ словосочетанием «следователь. вправе получать объяснения». Процедура опроса уголовно-процессуальным законом не предусмотрена, в результате чего судебная практика не всегда признает полученные объяснения доказательствами по уголовному делу. В теории уголовного процесса проблема придания объяснениям доказательственного значения также до сих пор не разрешена. Анализ научных взглядов и следственно-судебной практики приводит к выводу о возможности в ряде случаев признавать объяснения доказательствами по уголовному делу, однако для этого уголовно-процессуальный закон должен предусмотреть правила, процедуру и форму получения объяснений. В противном случае полученные объяснения могут иметь лишь ориентирующее значение.
The Form of Action for Obtaining Explanations.pdf В настоящее время уголовно-процессуальный закон предусматривает значительный перечень следственных и иных процессуальных действий, совершаемых в стадии возбуждения уголовного дела (далее именуемых «проверочные действия»), но не во всех случаях закрепляет порядок их производства, вследствие чего судебная практика не всегда признает полученные сведения надлежащими доказательствами по уголовному делу. Так, при рассмотрении уголовного дела по обвинению Г. в совершении преступления, предусмотренного п. «з» ч. 2 ст. 111 УК РФ, суд отказался рассматривать в качестве доказательств обвинения объяснения подсудимого Г. и протокол осмотра этих объяснений, о чем прямо указал в приговоре. Апелляционная инстанция с позицией нижестоящего суда согласилась1. Приведенный пример свидетельствует о безусловной правоте В.С. Балакшина, указавшего, что в законе должен быть «прописан четкий, основанный на здравом смысле механизм вовлечения объяснений в сферу уголовного судопроизводства, проверки, оценки их относимости, допустимости и достоверности, как и любого другого доказательства» [1, с. 126]. Полномочие получения объяснений закреплено в ч. 1 ст. 144 УПК РФ кратким словосочетанием - при проверке сообщения о преступлении следователь вправе получать объяснения. Процесс получения объяснений, или применяемый в практике более удачный термин «опрос», представляет собой проверочное действие, заключающееся в интервьюировании опрашиваемого лица с целью получения сведений, касающихся предмета проверки сообщения о преступлении. Опрос аналогичен по своей сущности такому следственному действию, как допрос, а объяснения - показаниям. Как справедливо отметил В.Ю. Стельмах, «различия между ними имеют скорее формально-юридический характер и обусловлены особенностями нормативной регламентации, а не содержанием» [2, с. 148]. Опрос является самым распространенным проверочным действием. Изучение материалов проверок сообщений о преступлениях и уголовных дел, а также 1 Уголовное дело № 1-105/2016 // Архив Няганского городского суда ХМАО-Югры. собственная следственная практика позволяют сделать вывод, что опрос проводится в ходе каждой проверки сообщения о преступлении, по результатам которой принимается решение об отказе в возбуждении уголовного дела. В материалах уголовных дел объяснения отсутствуют в редких случаях, когда признаки преступления очевидны, данные об этих признаках получены из иных источников, а проверка сообщения о преступлении, результатом которой становится возбуждение уголовного дела, фактически не производится. Так, при обнаружении 11.11.2008 г. трупов двух женщин и пятилетнего ребенка с множественными колото-резаными ранениями туловища уголовное дело по п. «а», «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ возбуждено без получения каких-либо объяснений13. Не потребовалось получать объяснения и после взрыва 28.02.2016 г. в шахте «Северная» (г. Воркута, Республика Коми), унесшего жизни 5 горноспасателей и 1 шахтера. Уголовное дело по ч. 3 ст. 216 УК РФ было возбуждено незамедлительно после обнаружения и поднятия на поверхность фрагментов тел погибших14 без производства каких-либо проверочных действий. Как правило, объяснения необходимо получить у заявителей, пострадавших, если они не являются заявителями, очевидцев, лиц, в отношении которых проводится проверка. Объяснения можно получать и у иных лиц, например, обладающих специальными познаниями. Объяснения, полученные с согласия опрашиваемого лица и в соответствии с процессуальным порядком, облеченные в установленную процессуальную форму, не только служат данными, указывающими на признаки преступления, но также могут являться доказательствами по уголовному делу, что следует из ч. 1.2 ст. 144 УПК РФ. Вместе с тем в доктрине сложились полярные точки зрения на доказательственную силу объяснений. Одни ученые ее отрицают [3, с. 41], другие допускают. При этом среди авторов, признающих объяснения доказательством, нет единого мнения, к какому виду доказательств их следует относить. Например, О.А. Чабукиа-ни полагает возможным причислить объяснения к такому виду доказательств, как показания (путем уточнения данного термина в уголовно-процессуальном законе как «сведений, сообщенных не только на допросе, но и объяснении») [4, с. 78]. Е.Б. Гришина считает объяснения самостоятельным видом доказательств, что необходимо прописать в ст. 74 УПК РФ [5, с. 36-38]. В.М. Быков отнес объяснения к иным документам [6, с. 54-55]. Судебная практика идет по последнему пути и причисляет объяснения к иным документам15. Изучив указанные точки зрения, можно заключить следующее. Реализация первой концепции невозможна ввиду того, что показания даются подозреваемым, обвиняемым, потерпевшим и свидетелем, т.е. отсутствующими в стадии возбуждения уголовного дела участниками уголовного судопроизводства. Внедрение в УПК РФ объяснений как самостоятельного вида доказательств также невозможно, поскольку в этом случае утрачивается разницами между объяснениями и показаниями. Отнесение объяснений к иным документам представляется процессуально обоснованным решением анализируемой проблемы. При этом стоит обратить внимание, что некоторые процессуалисты критикуют данную позицию, ссылаясь на то, что иные документы должны быть изготовлены вне рамок уголовного процесса лицом, не осуществляющим уголовное судопроизводство [7, с. 333]. Такие доводы представляются несостоятельными, поскольку не основаны на нормах уголовно-процессуального законодательства. Так, из ст. 84 УПК РФ следует, что иные документы допускаются в качестве доказательств, если изложенные в них сведения имеют значение для уголовного дела; иные документы должны быть получены, истребованы или представлены в порядке, установленном ст. 86 УПК РФ. А названный порядок предусматривает собирание доказательств следователем путем производства следственных и иных процессуальных действий. Из этого следует, что объяснения, полученные следователем путем производства процессуального действия в стадии возбуждения уголовного дела, содержат в себе все признаки иного документа, установленные законом. Вместе с тем нельзя обойти вниманием и доктриналь-ные условия, соблюдение которых позволит отнести объяснения к доказательствам. Такие условия целесообразно закрепить в уголовно-процессуальном законе. Во-первых, необходима подробная регламентация процедуры опроса и закрепления его результатов. Придание опросу необходимой процессуальной формы абсолютно необходимо для получения допустимых доказательств. Во-вторых, нужно поддержать мнение процессуалистов, указывающих на использование объяснений в качестве доказательств не в сплошном порядке, а в определенных случаях - когда после возбуждения уголовного дела в силу ряда объективных причин отсутствует возможность допросить ранее опрошенное лицо в соответствующем процессуальном статусе [8, с. 30]. Установление данного условия необходимо во избежание массовой подмены показаний доказательствами другого рода - объяснениями. Перечень случаев, когда объяснения могут быть допущены в качестве доказательств по уголовному делу при отсутствии показаний опрошенных лиц, представляется целесообразным позаимствовать из ст.ст. 208 и 281 УПК РФ, а именно: смерть опрошенного лица или его временное тяжелое заболевание, удостоверенное медицинским заключением, препятствующее его участию в уголовном судопроизводстве (данный случай требует оговорки - если в период предварительного расследования или рассмотрения дела судом лицо выздоровело, оно должно быть допрошено следователем или судом соответственно); отказ опрошенного лица, являющегося иностранным гражданином, явиться по вызову следователя на допрос; место нахождения опрошенного лица в результате принятых мер не установлено; место нахождения опрошенного лица известно, однако реальная возможность его участия в уголовном деле отсутствует. Данный перечень необходимо дополнить особым правилом, в соответствии с которым объяснения лица могут быть признаны доказательством в случае последующего допроса этого лица в соответствующем статусе, если в объяснениях и показаниях имеются существенные противоречия. Последнее правило обусловлено ситуациями, когда имеются основания полагать, что существенное изменение допрошенным лицом ранее сообщенных сведений вызвано воздействием со стороны иных лиц (например, преступление совершается одним членом семьи против другого, а впоследствии потерпевший мирится с обвиняемым и желает воспрепятствовать предварительному расследованию, чтобы член его семьи не понес ответственность; в случаях подкупа или запугивания потерпевшего или свидетеля и т.д.). Необходимость использования объяснений в названных случаях обосновывается также в диссертационном исследовании А.В. Белоусова [9, с. 69-71]. Как известно, первоначальные объяснения, получаемые незамедлительно после поступления сообщения о преступлении, более правдоподобны, поскольку лицо, их дающее, как правило, имеет меньше возможностей для обдумывания оправдывающей себя или другого лица версии, еще не подвержено воздействию иных лиц, склоняющих его к искажению сообщаемых сведений. Так, 19.12.2015 г. С-в в ходе конфликта со своей супругой С-вой совершил поджог хранившегося в их жилом помещении спирта. В результате пожара С-ва получила телесные повреждения в виде ожогов, также огнем было повреждено имущество соседей. В ходе опроса с применением видеосъемки С-ва пояснила, что С-в умышленно совершил поджог на почве ревности, высказывая при этом угрозу убийством. Органом предварительного следствия действия С-ва были квалифицированы по ч. 1 ст. 119, ч. 2 ст. 167 УК РФ. В дальнейшем, при допросе в качестве потерпевшей, С-ва показала, что угроз убийством С-в ей не высказывал, а спирт воспламенился в результате его неосторожных действий, те же показания были даны С-вой в суде. Суд не принял первоначальных объяснений в качестве допустимого доказательства, в результате чего государственный обвинитель отказался от обвинения по ч. 1 ст. 119 УК РФ, действия С-ва были признаны судом неосторожными и переквалифицированы по ст. 168 УК РФ16. Таким образом, при наличии существенных противоречий в объяснениях и показаниях одного и того же лица возможность исследования объяснений в качестве доказательств по уголовному делу и их оценки в совокупности с другими доказательствами имеет важное значение для рассмотрения уголовного дела по существу. В процессуальной литературе встречается точка зрения, согласно которой следователю надлежит в каждом случае выносить постановление о приобщении объяснения к уголовному делу в качестве «иного документа» [10, с. 217]. С такой позицией трудно согласиться, поскольку, во-первых, уголовно-процессуальное законодательство не предусматривает вынесения подобного решения, во-вторых, просто нецелесообразно тратить время на вынесение не предусмотренных УПК РФ решений и загромождать уголовное дело излишними документами. Представляется, что достаточно сослаться на объяснение как иной документ в обвинительном заключении. Процессуальное регулирование анализируемого проверочного действия ограничивается словосочетанием «вправе получать объяснения», а также общей для всех проверочных действий нормой ч. 1.1 ст. 144 УПК РФ, в соответствии с которой лицам, участвующим в производстве процессуальных действий при проверке сообщения о преступлении, разъясняются их права и обязанности и обеспечивается возможность осуществления этих прав. Вместе с тем такое важное полномочие, посредством реализации которого могут собираться доказательства по уголовному делу, требует подробного процессуального закрепления. Поскольку опрос по существу аналогичен допросу, то и порядок его производства должен быть аналогичен порядку производства допроса. При этом меры государственного принуждения не должны применяться, что объясняется спецификой стадии возбуждения уголовного дела. В связи с изложенным не представляется возможным согласиться с мнением некоторых процессуалистов, предлагающих на законодательном уровне закрепить процессуальный порядок вызова для дачи объяснения и правовые гарантии явки граждан [11, с. 155]. По той же причине видится некорректной норма п. 4 ч. 1 ст. 7 Федерального закона от 28.12.2010 г. № 403 «О Следственном комитете Российской Федера-ции»17, согласно которой сотрудник Следственного комитета вправе вызывать должностных и иных лиц для объяснений. Аналогичная норма содержится и в п. 3 ч. 1 ст. 13 Федерального закона от 07.02.2011 № 3-ФЗ «О полиции»18. В уголовно-процессуальном законе целесообразно предусмотреть следующие правила. Опрос по общему правилу проводится с согласия опрашиваемого лица по месту производства проверки сообщения о преступлении либо по месту нахождения опрашиваемого лица. В практической деятельности граждане вызываются для опроса повестками, что противоречит добровольному характеру участия граждан в проверочных действиях. Более приемлемым было бы направление уведомления с предложением прибыть в конкретное время и место для опроса. Регулировать длительность опроса не представляется необходимым, поскольку это проверочное действие может производиться, пока опрашиваемое лицо выражает свое согласие давать объяснения. Исключением являются опросы несовершеннолетних, длительность производства которых в зависимости от возраста опрашиваемых должна соответствовать правилам ст. 191 УПК РФ, регулирующей особенности производства следственных действий с участием несовершеннолетних. Перед началом опроса следователь обязан разъяснить опрашиваемому лицу его права. Опрос проводится по правилам, установленным ст. 189 УПК РФ. Также законодательному закреплению подлежит обязанность следователя в соответствующих случаях обеспечить участие в опросе переводчика, законного представителя недееспособного или несовершеннолетнего, педагога, психолога, на что неоднократно обращалось внимание в науке [12, с. 29]. Справедливости ради необходимо отметить, что, несмотря на отсутствие законодательной регламентации участия названных лиц в проверочных действиях, в практической деятельности при возникновении необходимости следователи привлекают переводчиков, ибо в противном случае проведение опроса лица, не владеющего русским языком, просто невозможно. Также на практике участие при опросе несовершеннолетнего его законного представителя является устоявшимся правилом, которое нарушается лишь в редких случаях. Вместе с тем широкое практическое распространение названных обязанностей следователя не влияет на необходимость их закрепления в законе. Право следователя не допустить к участию в опросе несовершеннолетнего его законного представителя и (или) представителя, если это противоречит интересам несовершеннолетнего, направлено на обеспечение прав и законных интересов опрашиваемого несовершеннолетнего и должно быть прописано в уголовно-процессуальном законе. В настоящее время ход и результаты опроса отражаются в документах, именуемых «объяснение», «протокол объяснения», «протокол получения объяснения», «протокол опроса». В ходе изучения материалов проверок и уголовных дел было установлено не менее полутора десятков форм указанных документов. Данная правовая реалия должна быть изжита. Учитывая универсальную для уголовного судопроизводства форму протокола, последнее наименование представляется более удачным. Протокол опроса необходимо составлять по правилам ст. 190 УПК РФ. Также необходимо отметить имеющие место в практической деятельности случаи получения объяснений, оформляемых в форме справок или рапортов. Такие случаи имеют место при опросе «по телефону», когда личная встреча следователя и опрашиваемого лица невозможна вследствие нахождения последнего, например, в труднодоступной местности или отдаленном населенном пункте, когда опрашиваемое лицо дает пояснения, но не желает подписывать протокол опроса и т.д. В этих случаях следователь оформляет рапорт или справку, где отражает содержание беседы с опрашиваемым лицом, а также причины невозможности составления протокола опроса. Полученные таким образом объяснения не могут являться доказательствами, поскольку не облечены в процессуальную форму, однако могут служить данными, указывающими на наличие либо отсутствие признаков преступления. Для таких случаев справедлив тезис Е.А. Доля о том, что сведения, полученные при проверке сообщения о преступлении, предназначены для решения вопроса о наличии либо отсутствии признаков преступления, а не для установления обстоятельств, подлежащих доказыванию по уголовному делу [13, с. 43-46]. Таким образом, соглашаясь с Р.С. Белкиным, разделившим информацию на доказательственную и ориентирующую [14, с. 237], необходимо констатировать, что в результате закрепления в уголовно-процессуальном законе правил, процедуры и формы опроса и их соблюдения полученные объяснения приобретают доказательственное значение, в противном случае -лишь ориентирующее.
Балакшин В.С. Объяснение как доказательство в уголовном и административном судопроизводстве // Российский юридиче ский журнал. 2012. № 5. С. 124-126.
Стельмах В.Ю. Объяснения в уголовном судопроизводстве: правовая природа, процессуальный порядок получения, доказа тельственное значение // Вестник Удмуртского университета. 2016. Т. 26, вып. 5. С. 148-157.
Каретников А. С., Коретников С.А. Следственные действия как способы проверки сообщения о преступлении // Законность. 2014. № 7. С. 37-42.
Чабукиани О.А. Получение объяснения в ходе первоначальной проверки сообщений о преступлении // Вестник Санкт- Петербургского университета МВД России. 2013. № 3. С. 75-81.
Гришина Е.Б. Роль объяснений в системе доказательств на стадии возбуждения уголовного дела // Наука и практика. 2015. № 2. С. 36-38.
Быков В.М. Проблемы стадии возбуждения уголовного дела // Журнал российского права. 2006. № 7. С. 52-66.
Лазарева В.А. Доказывание в уголовном процессе : учеб.-практ. пособие. М. : Высшее образование, 2009. 344 с.
Кудрявцева Т.Г., Кожухарик Д.Н. О допустимости в уголовном процессе объяснений в качестве доказательств // Российский следователь. 2014. № 5. С. 28-30.
Белоусов А.В. Проблема фиксации доказательств в досудебных стадиях уголовного процесса России : дис.. канд. юрид. наук. М., 2001. 200 с.
Соколовская Н.С., Чаднова И.В. К вопросу об использовании в доказывании по уголовному делу объяснений граждан // Вестник Томского государственного университета. 2017. № 417. С. 214-218.
Стаценко В.Г. Объяснение как способ проверки сообщения о преступлении // Матрица научного сознания. 2017. № 11. С. 154-156.
Белоусов А.В. Процессуальное закрепление доказательств при расследовании преступлений. М. : Юрлитинформ, 2001. 173 с.
Доля Е.А. Особенности доказывания при производстве дознания в сокращенной форме // Российский судья. 2013. № 6. С. 43-46.
Белкин Р.С. Криминалистика: проблемы сегодняшнего дня. Злободневные вопросы российской криминалистики. М. : Ин-фра-М : НОРМА, 2001. 240 с.
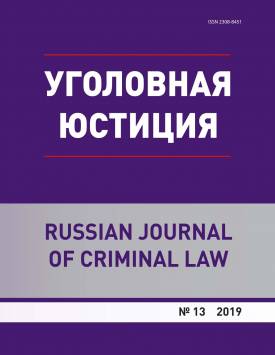

 Вы можете добавить статью
Вы можете добавить статью