Рассматривается проблема определения представителями уголовно-исполнительного права субъектного состава уголовно-исполнительных правоотношений. На основе полученной информации сделан вывод о том, кто будет являться субъектом рассматриваемых правовых связей. Представлены конкретные предложения, направленные на совершенствование правового регулирования участия субъектов права в уголовно-исполнительных правоотношениях.
Subjects of Penal Legal Relations: Theoretical Issues of Determining Their Composition and Legal Problems of Consolidati.pdf Проблемы правоотношений привлекают внимание как ученых, изучающих общую теорию права, так и представителей самостоятельных отраслей права, в том числе уголовно-исполнительного. Наибольшее количество вопросов возникает при определении понятия правоотношений, изучении объекта правовых связей и их содержания, исследовании юридических фактов и т. д. Кроме того, для уголовно-исполнительной науки актуальным является ответ на вопрос о том, кого следует относить к субъектам уголовно-исполнительных правоотношений. Анализ специальной юридической литературы позволил выделить различные позиции, касающиеся субъектного состава правовых связей, возникающих, изменяющихся или прекращающихся в связи с исполнением и отбыванием уголовных наказаний и иных мер уголовно-правового характера (далее - меры). Так, ряд авторов [1, с. 214-220; 2, с. 163] не относят к субъектам уголовно-исполнительных правоотношений, например, родственников осужденного или общественность, так как они, имея определенные полномочия по исправлению осужденных, не являются субъектом материальных уголовно-исполнительных правоотношений, а считаются только субъектом процедурных отношений по обеспечению организации исполнения наказания и применения мер уголовно-исполнительного воздействия, направленного на организационно-правовые стороны деятельности учреждений и органов, исполняющих наказание. Мнение В.Е. Южанина [3, с. 303-304] схоже с вышеуказанной позицией. Однако ученый полагает, что к участникам уголовно-исполнительных правоотношений также относятся субъекты, обладающие властными исполнительно-распорядительными полномочиями по отношению к осужденным (например, начальник территориального органа ФСИН России). Немалое количество представителей уголовно-исполнительного права полагают, что в отдельных случаях субъектами рассматриваемых правоотношений могут являться все участники, выступающие «носителями прав и обязанностей» [4, с. 5; 5, с. 288]. Нельзя обойти стороной существенно отличающееся от «классических» позиций» спорное мнение В.М. Оробеца и Н.И. Полищука [6, с. 100], которые считают, что субъектами рассматриваемых правовых связей будут являться лица, уполномоченные применять правовые нормы, регулирующие «.исполнение уголовного наказания или меры процессуального принуждения (курсив мой. - Н.Е.)». Исходя из сказанного следует, что участниками уголовно-исполнительных правоотношений будут являться как администрация учреждений и органов, исполняющих наказания, так и, например, орган дознания, дознаватель, следователь, которые имеют право принять меру процессуального принуждения в виде задержания подозреваемого (см., напр., ч. 1 ст. 91 УПК РФ). При этом было бы неправильным не обозначить, что в дальнейшем в некоторых своих работах Н. И. Полищук склоняется к доктринальной точке зрения, касающейся субъектного состава уголовно-исполнительных правоотношений [7, с. 294]. Интересен взгляд О.В. Борисовой [8, с. 5-6], которая отмечает, что будет «методологически неверным» называть учреждения и органы, исполняющие уголовные наказания, субъектами уголовно-исполнительных правоотношений. В процессе аргументации своей точки зрения автор приходит к выводу, что субъекты уголовных и уголовно-исполнительных правоотношений должны совпадать. А поскольку субъектами уголовных отношений являются государство и преступник, то в качестве субъектов интересующих нас связей должны выступать осужденный и государство, которое реализует свою волю через соответствующую группу учреждений и органов. О. В. Борисова, так же как ряд других ученых-юристов, считает, что к субъектам уголовно-исполнительных правоотношений следует отнести всех лиц, участвующих в рассматриваемых правовых связях. Представленный выше краткий анализ специальной юридической литературы показал, что вопрос о том, кого следует относить к субъектам уголовно-исполнительных правоотношений, остается до конца не решенным. Склоняемся к мнению, что субъектами уголовно-исполнительных правоотношений будут являться все участники, деяние которых порождает, изменяет или прекращает уголовно-исполнительные правоотношения (отметим, что понятия «субъект правоотношения» и «участник правоотношения» здесь и далее по тексту исследования будут использованы как синонимы). Продолжая рассматривать интересующий нас вопрос, выделим три группы субъектов уголовно-исполнительных правоотношений. К первой группе относятся субъекты, исполняющие уголовные наказания. Перечень учреждений и органов, исполняющих уголовные наказания (меры), закреплен в ст. 16 УИК РФ. Исходя из содержания статьи, можно выделить два вида данных участников уголовно-исполнительных правоотношений: учреждения уголовно-исполнительной системы (далее - УИС) и учреждения и органы, не входящие в УИС. 1. Учреждения УИС: уголовно-исполнительные инспекции (далее - УИИ), учреждения, исполняющие наказания (как срочные, так и бессрочные) в виде лишения свободы (ИК, воспитательные колонии, тюрьмы, лечебные исправительные учреждения, СИЗО) и смертной казни. Акцентируем внимание на некоторых правовых проблемах, касающихся закрепления в ст. 16 УИК РФ рассматриваемой группы субъектов уголовно-исполни-0тельных правоотношений. Так, исходя из смысла ч. 14 ст. 16 УИК РФ, УИИ является учреждением, входящим в УИС в связи с исполнением наказаний в виде обязательных работ, исправительных работ и ограничения свободы. В указанной норме законодатель не упоминает о том, что УИИ будет являться учреждением УИС в случае исполнения наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью либо в результате осуществления контроля за поведением всеми категориями осужденных, к которым применена иная мера уголовно-правового характера. Полагаем, что данный вопрос потеряет свою актуальность в результате изменения рассматриваемой отсылочной нормы (ч. 14 ст. 16 УИК РФ) и включения в ее содержание указанного наказания и иных мер уголовно-правового характера. Кроме того, в ст. 16 УИК РФ не зафиксировано, что УИИ является учреждением, контролирующим осужденных, наказание которых отсрочено в соответствии со ст. 82 («Отсрочка отбывания наказания») и ст. 82.1 («Отсрочка отбывания наказания больным наркоманией») УК РФ. Данная ситуация становится еще более нелогичной на фоне постоянного увеличения численности указанной категории лиц. Например, в 2015 г. количество осужденных, которым наказание было отсрочено в соответствии со ст. 82 УК РФ, составило 6 486 чел., в 2016 г. - 6 666 чел., а в 2017 г. - 6 970 чел. Отдельно следует обратить внимание на то, что в ст. 16 УИК РФ не определен субъект, участвующий в уголовно-исполнительных правоотношениях, функционирующих в сфере реализации наказания в виде смертной казни. В ч. 11 ст. 16 УИК РФ лишь сказано, что «.наказание в виде смертной казни исполняется учреждениями уголовно-исполнительной системы (курсив мой. - Н.Е.)». Отсюда следует, что de _ jure любое из вышеперечисленных учреждений УИС, в том числе УИИ или ВК, может являться субъектом исследуемых правоотношений. Полагаем, что в ч. 11 ст. 16 УИК РФ должен быть указан участник соответствующих правоотношений. Считаем возможным обязанность по исполнению наказания в виде смертной казни делегировать тюрьмам. 2. Учреждения и органы, не входящие в УИС. К ним относятся судебные приставы-исполнители, суд, командование воинских частей, гауптфахты и дисциплинарные воинские части. Коротко уделим внимание каждому субъекту. Суд как субъект уголовно-исполнительных правоотношений является органом судебной власти. Следует согласиться с К. А. Орловой [9] в том, что в нормативном плане судебная власть представлена совокупностью органов, т.е. судов, образующих судебную систему. Именно этим термином оперирует законодатель, например, в ст. 10, п. «г» ст. 71 Конституции РФ; ст.ст. 1, 18, 19, 23 Федерального конституционного закона от 31.12.1996 г. № 1-ФКЗ «О судебной системе Российской Федерации», ст. 19 Федерального конституционного закона от 17.12.1997 г. № 2-ФКЗ «О Правительстве Российской Федерации» и др. В соответствии с ч. 3. ст. 16 УИК РФ суд является субъектом, исполняющим уголовное наказание в виде лишения специального, воинского или почетного звания, классного чина и государственных наград. В научной литературе не первый год муссируется идея о нецелесообразности закрепления суда в качестве органа, исполняющего соответствующее наказание. Обойдя стороной дискуссию по этому поводу, склонимся к позиции В.Н. Орлова [10, с. 324], который считает возможным в ч. 3 ст. 16 УИК РФ закрепить положение о том, что наказание в виде лишения специального, воинского или почетного звания, классного чина и государственных наград должно исполняться судебным приставом-исполнителем по месту жительства (работы) осужденного. Но, по нашему мнению, предложение В.Н. Орлова имеет смысл лишь в случае назначения такого наказания в качестве основного. Однако если наказание в виде исполнения лишения специального, воинского или по четного звания, классного чина и государственных наград было назначено в качестве дополнительного к лишению свободы, то субъектом исполнения должно выступать исправительное учреждение, а не судебные приставы-исполнители. Судебные приставы-исполнители исполняют уголовное наказание в виде штрафа. Вопреки мнению [Там же, с. 336], превалирующему в специальной юридической литературе, указанный субъект рассматриваемых правоотношений не относится ни к учреждениям, ни к органам. Во-первых, исходя из содержания ст. 5 Федерального закона от 02.10.2007 г. № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве» и смысла Указа Президента РФ от 09.03.2004 г. № 314 «О системе и структуре федеральных органов исполнительной власти» органом являются не судебные приставы-исполнители, а Федеральная служба судебных приставов. В соответствии с ч. 2 ст. 3 Федерального закона от 21.07.1997 г. № 118-ФЗ «О судебных приставах» судебный пристав-исполнитель является «...должностным лицом, состоящим на государственной службе (курсив мой. - Н.Е.)». Во-вторых, судебным приставам-исполнителям не свойственны признаки, присущие органам государства, такие как наличие своей структуры, внутреннего устройства, наличие в органе иерархической подчиненности, собственной материальной базы, т.е. финансирования из бюджета [11] и т.д. Таким образом, субъектом, исполняющим уголовное наказание в виде штрафа, будет являться должностное лицо в лице судебного пристава-исполнителя. Командование воинской части является еще одним участником уголовно-исполнительных правоотношений. В данном контексте отметим, что анализ уголовно-правовых, уголовно-исполнительных норм права и предписаний Министерства обороны Российской Федерации не представляет возможным ответить на вопрос: командование воинской части - это орган или учреждение, исполняющее наказание в виде ограничения по воинской службе? Полагаем, что отвечать на поставленный вопрос нет необходимости, так как de facto наказание в виде ограничения по воинской службе исполняет не командование, а командир воинской части, являющийся должностным лицом, на которое возложена обязанность руководства частью. Так, анализ главы 18 УИК РФ и раздела II Приказа Министра обороны РФ от 20.10.2016 г. № 680 «Об утверждении Правил отбывания уголовных наказаний осужденными военнослужащими» (далее - Приказ № 680) показал, что в них не упоминается командование воинской части как субъект, исполняющий наказание. По сути, законодатель делегирует соответствующие полномочия исключительно командиру воинской части, который, например: - издает приказ, в котором объявляется, на каком основании и в течение какого срока осужденный военнослужащий не представляется к повышению в должности и присвоению воинского звания, какой срок ему не засчитывается в срок выслуги лет для присвоения очередного воинского звания (ч. 1 ст. 143 УИК РФ, п. 7 Приказа № 680); - извещает суд, вынесший приговор, о поступлении приговора (ч. 2 ст. 143 УИК РФ, п. 7 Приказа № 680); - решает вопрос о перемещении осужденного на другую должность в пределах воинской части (п. 8 Приказа № 680) и т.д. Рассматривая указанный вопрос, отметим ч. 13 ст. 16 УИК РФ, которая регламентирует, что за «.условно осужденными военнослужащими контроль осуществляется командованием воинских частей». Однако в п. 66 раздела V Приказа № 680 («Осуществление контроля за условно осужденными военнослужащими») функция по контролю за поведением условно осужденных военнослужащих фактически возложена на командира воинской части. Приведенная выше информация дает возможность сделать следующие выводы: 1) в связи с тем, что исполнение уголовных наказаний в виде штрафа и ограничения по воинской службе, а также контроль за поведением условно осужденных военнослужащих осуществляют должностные лица, ст. 16 УИК РФ должна называться следующим образом: «Учреждения, органы и должностные лица, исполняющие наказания (курсив мой. - Н. Е. )»; 2) в ч. 12 ст. 16 УИК РФ в качестве субъекта, исполняющего уголовное наказание в виде ограничения по воинской службе, должен быть указан командир воинской части, а не командование. Кроме того, в ч. 13 ст. 16 УИК РФ функцию по контролю за поведением условно осужденных военнослужащих следует передать командиру воинской части. Далее отметим, что, исходя из содержания ч. 12 УИК РФ, п. 197 Указа Президента РФ от 25.03.2015 г. № 161 «Об утверждении Устава военной полиции Вооруженных Сил Российской Федерации и внесении изменений в некоторые акты Президента Российской Федерации» и иных нормативных правовых актов Министерства обороны Российской Федерации в отношении военнослужащих, уголовные наказания исполняются военной полицией Вооруженных Сил Российской Федерации, а именно гауптвахтами и дисциплинарными воинскими частями. Принимая во внимание анализ специальной литературы [12, с. 183-190], а также то, что в юридических документах военная полиция представлена как совокупность органов (ч. 4 ст. 25.1 Федерального закона от 31.05.1996 г. № 61-ФЗ «Об обороне», ч. 8 Устава военной полиции ВС РФ и др.), считаем, что гауптвахты и дисциплинарные воинские части можно отнести к органам, исполняющим уголовные наказания. Осужденные являются второй группой субъектов уголовно-исполнительных правоотношений. Понятие «осужденный» содержится в ч. 2 ст. 47 УПК РФ, где сказано, что «обвиняемый, в отношении которого вынесен обвинительный приговор, именуется осужденным». Данное законодателем понятие является спорным, так как уголовно-исполнительные правоотношения возникают после вступления обвинительного приговора в законную силу. Соответственно, называть лицо осужденным до возникновения соответствующей группы общественных отношений неверно. Анализ уголовно-процессуальных норм стран ближнего зарубежья позволил выявить две позиции по данному вопросу. Так, например, законы Казахстана (ч. 3 ст. 65 УПК РК [13]) и Узбекистана (ст. 34 УПК РУ [14]) содержат мнение, которого придерживается и законодатель Российской Федерации. Исходя из содержания другой позиции, осужденным в уголовном производстве следует признавать лицо, в отношении которого обвинительный приговор суда вступил в законную силу. Указанный положительный опыт содержится, например, в ч. 2 ст. 43 УПК Украины [15] и ч. 2 ст. 47 УПК Республики Таджикистан [16]. Обосновывая данную точку зрения, предъявим справедливую позицию Ю.А. Головастовой [17, с. 48], которая отметила, что вступивший в законную силу приговор суда является одним из основных признаков, характеризующих осужденного как субъекта уголовно-исполнительных правоотношений. Полагаем, что осужденным следует считать лицо, в отношении которого обвинительный приговор суда вступил в законную силу. Сформулированный вывод диктует необходимость изменения содержания ч. 2 ст. 47 УПК РФ и представления указанной нормы в следующей редакции: «Осужденным признается обвиняемый, в отношении которого обвинительный приговор суда вступил в законную силу». Помимо осужденных и учреждений и органов, исполняющих наказания (меры), к субъектам уголовно-исполнительных правоотношений следует отнести иных их участников (третья группа субъектов). Автор статьи взял за основу перечень субъектов, представленный О.В. Борисовой [8, с. 9-10]), которые действуют не во всех, а только в отдельных уголовно-исполнительных отношениях: 1) субъекты, входящие в УИС. К ним относятся руководитель федерального органа исполнительной власти, осуществляющий функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере исполнения уголовных наказаний (ФСИН), территориальный орган ФСИН и его начальник. Например, руководитель ФСИН либо начальник территориального органа ФСИН имеют право принимать решения о введении режима особых условий в ИУ на срок до 30 суток (ч. 3 ст. 75 УИК РФ); в соответствии с ч. 2 ст. 60.2, ч. 1 ст. 75.1 УИК РФ территориальный орган ФСИН вступает в правовые связи с осужденным в случае его самостоятельного направления для отбывания уголовного наказания (меры) в исправительный центр или колонию-поселение; 2) субъекты, осуществляющие деятельность, вытекающую из содержания приговора суда, и ряд функций, связанных с исполнением приговора. Например, администрации организаций, в которых работают осужденные к наказаниям в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью (ч. 2 ст. 16, ч. 3 ст. 33, ст. 34 УИК РФ), обязательных (ст. 28 УИК РФ) и исправительных работ (ч. 1 ст. 43 УИК РФ), являются субъектами уголовно-исполнительных правоотношений, когда они исполняют требования, содержащиеся в обвинительном приговоре суда или в нормах уголовно-исполнительного законодательства; 3) субъекты, контролирующие процесс исполнения уголовных наказаний. Особенность данной группы субъектов состоит в том, что они, находясь вне процесса исполнения наказания, могут оказывать существенное влияние на возникновение, изменение (приостановление) или прекращение уголовно-исполнительных правоотношений. К указанной группе участников могут быть отнесены внутригосударственные органы, осуществляющие государственный контроль, в том числе судебный и ведомственный, должностные лица (например, Уполномоченный по правам человека), прокуратура, осуществляющая надзор, общественные объединения; 4) субъекты, оказывающие помощь как учреждению (органу), так и осужденному в исполнении и отбывании уголовного наказания (меры). К ним относятся образовательные и медицинские организации, лица, оказывающие осужденному психологическую юридическую помощь, религиозные объединения и священнослужители как их представители, общественные объединения (попечительские советы, фонды), родственники осужденного и иные лица, которые поддерживают с ним социально полезные связи, представители средств массовой информации, сотрудники полиции (ч. 3 ст. 49 УИК РФ); 5) в качестве дополнительного субъекта автор счел возможным отдельно выделить суд, деятельность которого оказывает существенное влияние на уголовно-исполнительные отношения. Например, когда он решает вопросы о продлении сроков задержания злостно уклоняющихся от отбывания наказания осужденных, местонахождение которых неизвестно (ч. 2 ст. 30, ч. 4 ст. 32, ч. 4 ст. 46 УИК РФ), об изменении объема пра-воограничений мер государственного принуждения (ч. 7 ст. 44, ч. 1 ст. 54 УИК РФ), оставлении осужденного в СИЗО (ч. 2 ст. 77.1 УИК РФ), изменении вида исправительного учреждения (ч. 2.2 ст. 78 УИК РФ). Вышеизложенное позволяет сделать краткий вывод о том, что уголовно-исполнительное законодательство содержит разнообразный круг иных (дополнительных) субъектов уголовно-исполнительных отношений, влияющих в своей совокупности на возникновение, изменение (приостановление), прекращение уголовно-исполнительных правоотношений. Игнорирование указанного факта, отнесение роли дополнительных субъектов права к второстепенным могут отрицательно сказаться как на уголовно-исполнительных отношениях в частности, так и на механизме уголовно-исполнительного регулирования в целом. В заключение данной статьи следует сделать следующие выводы: 1. Вопрос о том, кого следует относить к субъектам уголовно-исполнительных правоотношений, остается до конца не решенным. Полагаем, что субъектами анализируемых правовых связей будут являться все участники, деяние которых порождает, изменяет (приостанавливает) или прекращает уголовно-исполнительные правоотношения. 2. В УИК РФ должно быть отражено, что уголовные наказания и иные меры уголовно-правового характера исполняют не только учреждения и органы, но и должностные лица. 3. С целью совершенствования правового регулирования участия субъектов права в уголовно-исполнительных правоотношениях необходимо: - в ч. 14 ст. 16 УИК РФ закрепить УИИ как субъект, исполняющий наказание в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью и контролирующий поведение осужденных, к которым применена иная мера уголовно-правового характера; - указать командира воинской части в качестве субъекта, исполняющего уголовное наказание в виде ограничения по воинской службе, а также контролирующего поведение условно осужденных военнослужащих; - определить субъект, исполняющий наказание в виде смертной казни; - делегировать обязанность исполнения наказания в виде лишения специального, воинского или почетного звания, классного чина и государственных наград судебным приставам-исполнителям и ИУ; - считать осужденным лицо, в отношении которого обвинительный приговор суда вступил в законную силу.
Борисова О.В. Субъектный состав уголовно-исполнительного правоотношения // Вестник Ивановского государственного университета. Сер. Естественные, общественные науки. 2017. № 1. С. 5-11.
Головастова Ю.А. Осужденный как субъект уголовно-исполнительных правоотношений : дис.. канд. юрид. наук. Рязань, 2006. С. 86-91.
Михайлов И.А. Советское исправительно-трудовое право. Общая часть / под ред. Н.А. Стручкова, И.В. Шмарова, И.А. Спе ранского. М., 1977. 352 с.
ОрловВ.Н. Применение и отбывание уголовного наказания : дис.. д-ра юрид. наук. М., 2015. 605 с.
Оробец В.М., Полищук Н.И. Юридический факт и уголовно-исполнительное правоотношение // Юридическая мысль. 2008. № 2 (46). С. 94-100.
Полищук Н.И. Понятие и виды уголовно-исполнительного отношения // Курс уголовно-исполнительного права : учебник : в 3 т. Т. 1: Общая часть / Ю.М. Антонян, С. Л. Бабаян, С.В. Бошно и др. ; под общ. ред. Г. А. Корниенко ; под науч. ред. А.В. Быкова. М. : Криминологическая библиотека; Российский криминологический взгляд, 2017. С. 183-190.
Севрюгин А. С. Исправительно-трудовые правоотношения : учеб. пособие. Рязань : Изд-во РВШ МВД СССР, 1988. 37 c.
Уголовно-исполнительное право России : учебник / под ред. В.И. Селиверстова. 6-е изд., перераб. и доп. М. : НОРМА-М, 2014. 544 с.
Стручков Н.А. Советское исправительно-трудовое право. Общая часть. Рязань, 1987. 351 с.
Сурин В.В. Иные органы, исполняющие уголовные наказания // Курс уголовно-исполнительного права : учебник : в 3 т. Т. 1: Общая часть / Ю.М. Антонян, С. Л. Бабаян, С. В. Бошно и др. ; под общ. ред. Г. А. Корниенко ; под науч. ред. А. В. Быкова. М. : Криминологическая библиотека ; Российский криминологический взгляд, 2017. С. 183-190.
Уголовно-процессуальный кодекс Республики Казахстан от 04.07.2014 г. № 231-V. URL: http://online.zakon.kz/rn/ docu-ment/?doc_id=31575852#sub_id=650 (дата обращения: 19.11.2018).
Уголовно-процессуальный кодекс Республики Таджикистан от 03.12.2009 г. URL: http://online.zakon.kz/document/ ?doc_id=30594304#pos=563;-58 (дата обращения: 19.11.2018).
Уголовно-процессуальный кодекс Республики Узбекистан (утвержден Законом Республики Узбекистан от 22.09.1994 г. № 2013-XII). URL: http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30421101#pos=985;-54 (дата обращения: 19.11.2018).
Уголовный процессуальный кодекс Украины от 13.04.2012 г. № 4651-VI. URL: http://online.zakon.kz/Document/ ?doc_id=31197178#pos=5;-250 (дата обращения: 19.11.2018).
Филимонов В.Д., Филимонов О.В. Правоотношения. Уголовные правоотношения. Уголовно-исполнительные правоотношения. М. : ЮрИнфоР-Пресс, 2007. 335 с.
Шахрай С.М. Конституционное право Российской Федерации : учебник для академического бакалавриата и магистратуры. 4-е изд., изм. и доп. М. : Статут, 2017. 624 с.
Российский курс уголовно-исполнительного права : учебник : в 2 т. Т. 1: Общая часть / Е.А. Антонян, Ю.М. Антонян, С.А. Борсученко и др. ; под ред. В.Е. Эминова, В.Н. Орлова. М. : МГЮА имени О.Е. Кутафина ; Элит, 2012. 696 с.
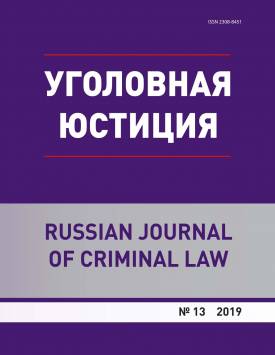

 Вы можете добавить статью
Вы можете добавить статью