О практической необходимости развития института «административной преюдиции» в уголовном законодательстве России
Статья посвящена определению практической значимости одного из уголовно-правовых институтов, который рассматривается в отечественной доктрине как «административная преюдиция». Анализ практики ее введения в Уголовный кодекс РФ дает основание выделить две цели закрепления такой преюдиции. Первая - это декриминализация впервые совершенного общественно опасного деяния, вторая - криминализация личности правонарушителя, неоднократно совершающего административные правонарушения.
On the Practical Necessity of the Institution of Administrative Prejudice in the Criminal Legislation of Russia.pdf В настоящее время наблюдается тенденция увеличения количества норм Уголовного кодекса Российской Федерации (далее - УК РФ), предусматривающих уголовную ответственность за совершение лицом правонарушения после привлечения его к административной ответственности за аналогичное деяние. Данные нормы распространяют свое действие на отдельные преступления против личности, собственности, общественного порядка, общественной безопасности, правосудия. Несмотря на то, что рассматриваемый правовой институт для отечественного законодателя не является новым (он достаточно успешно реализовывался в условиях советских общественных отношений), его современное закрепление требует нового подхода в правоприменительной практике в связи с тем, что данная тенденция нуждается в актуальном осмыслении в измененной, в сравнении с советским законодательством, доктрине уголовного права. Политическим обоснованием введения в уголовное законодательство Российской Федерации норм с так называемой «административной преюдицией» послужило Послание Президента Российской Федерации Д.А. Медведева 2009 г. Федеральному собранию о более широком ее использовании [1]. В соответствии с указанным обращением «административная преюдиция» должна использоваться как один из способов декриминализации преступлений через привлечение к уголовной ответственности только в случае совершения лицом аналогичного административного правонарушения. Однако законодатель по-своему отреагировал на данное Послание, включив в июле 2011 г. в Уголовный кодекс РФ ранее не наказуемое в уголовном порядке деяние - розничную продажу несовершеннолетним алкогольной продукции лицом, подвергнутым административному наказанию за аналогичное деяние (ст. 151.1. УК РФ). То есть, в отличие от предложения главы государства, произошла не декриминализация, а криминализация неоднократной продажи алкогольной продукции несовершеннолетним. Позднее Уголовный кодекс РФ был дополнен новыми нормами, устанавливающими ранее не известную законодательству уголовную ответственность при неоднократном совершении административных правонарушений за мелкое хищение (ст. 158.1 УК РФ), нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования (ст. 212.1 УК РФ), незаконное проникновение на охраняемый объект (ст. 215.4 УК РФ), нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию (ст. 264.1 УК РФ), за осуществление деятельности на территории Российской Федерации иностранной или международной неправительственной организации, в отношении которой принято решение о признании ее деятельности нежелательной на территории Российской Федерации (ст. 284.1 УК РФ), неоднократное несоблюдение лицом, в отношении которого установлен административный надзор, административных ограничений (ч. 2 ст. 314.1 УК РФ). Изменения, предусматривающие декриминализацию деяния путем использования института «административной преюдиции» произошли в нормах, предусматривающих уголовную ответственность за побои (путем разграничения побоев с экстремистским мотивом (ст. 116 УК РФ без «административной преюдиции») и с данной преюдицией в ст. 116.1 УК РФ), за неуплату средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей (путем замены в ст. 157 УК РФ понятия «злостность» на «неоднократность» совершения аналогичных административных правонарушений), а также в ст. 282 УК РФ, установившей возможность привлечения к уголовной ответственности за действия, направленные на возбуждение ненависти либо вражды, а также унижение достоинства человека по признакам расы, национальности, языка только в случае, если виновный ранее привлекался к административному наказанию за аналогичное деяние. Установление уголовной ответственности за повторно совершенное административное правонарушение вызвало крайнее неодобрение со стороны некоторых отечественных ученых [2, с. 73; 3, с. 73; 4, с. 70; 5, с. 91; 6, с. 122]. Основным упреком законодателю со стороны оппонентов административной преюдиции выступает то, что степень опасности деяния не может меняться в зависимости от количества совершенных деяний. Однако с учетом отдельных корректировок некоторые специалисты положительно восприняли введение в УК РФ норм с административной преюди-цией [7, с. 1147; 8, с. 76; 9, с. 31; 10, с. 29; 11, с. 132; 12, с. 77; 13, с. 142; 14, с. 28; 15, с. 34; 16, с. 63; 17, с. 51; 18, с. 53; 19, с. 64]. Со стороны граждан также последовали обжалования конституционности положений о возможности привлечения лица к уголовной ответственности за нарушения административного законодательства на основании неоднократности таких нарушений. Однако Конституционный Суд РФ высказал поддержку законодательной инициативе. Так, в Постановлении Конституционного Суда РФ от 10 февраля 2017 г. № 2-П «По делу о проверке конституционности положений статьи 212.1 Уголовного кодекса Российской Федерации в связи с жалобой гражданина И.И. Дадина» отмечалось, что, учитывая схожесть задач, преследующих общую цель защиты прав и свобод человека, административное и уголовное законодательство взаимно дополняют друг друга [20, с. 68]. В связи с этим при изменении степени общественной опасности деяний допустимо преобразование составов отдельных правонарушений в преступления и наоборот [Там же, с. 68]. По мнению Конституционного Суда РФ, общественная опасность деяния может быть обусловлена кумулятивным эффектом противоправного посягательства [Там же, с. 69]. Логика такого законодательного регулирования, с позиции Конституционного Суда РФ, заключается в последовательном (поэтапном) усилении ответственности за повторные и неоднократные административные нарушения [Там же, с. 75]. В целом следует поддержать позицию Конституционного Суда РФ о возможности применения уголовной ответственности к лицу, ранее неоднократно совершавшему аналогичные административные правонарушения, но лишь с перенесением акцентов с общественной опасности деяния на общественную опасность личности преступника. При таком подходе становится понятным, что уголовная ответственность обусловлена негативным отношением лица к установленным в обществе нормам. Так, в рассматриваемом Постановлении Конституционного Суда РФ указано, что совершенное подвергнутым административному наказанию лицом однородного или, более того, аналогичного правонарушения свидетельствует, что примененные к нему меры административного принуждения не дают должного предупредительного эффекта, а потому отнесение повторности (неоднократности) административных правонарушений к основаниям криминализации соответствующих деяний не лишено разумной целесообразности [Там же, с. 75]. Более того, как мы полагаем, преюдиция в УК РФ должна «произрастать» из учета практики повторности административных правонарушений, а не из трудностей применения уголовного закона, как это наблюдалось в применении ст. 157 УК РФ при затруднениях в квалификации признака «злостности» в неуплате средств на содержание детей или ст. 282 УК РФ при сомнительном привлечении к уголовной ответственности за «репосты» и «мемы» в Интернете. Иными словами, закрепление в УК РФ норм с «административной пре-юдицией» не должно использоваться как способ декриминализации преступления. Она должна влечь возникновение новых составов преступлений (как, например, в случае с преступлениями, предусмотренными ст.ст. 158.1, 212.1, 215.4, 264.1, 284.1, 314.1 (части 2) УК РФ) с целью предупреждения наиболее часто совершаемых повторных административных правонарушений. Так, из анализа изученных нами 107 приговоров с применением ст. 158.1 УК РФ следует, что более чем в 3/4 уголовных дел (78,5% от общего числа осужденных) лица, подвергавшиеся административному наказанию за мелкое хищение, ранее неоднократно совершали преступления. Например, Костюхин В.В., осужденный по ст. 158.1 УК РФ Димитровградским городским судом Ульяновской области 26 июля 2018 г., ранее - с 2008 по 2017 г. - трижды привлекался к уголовной ответственности за кражу и грабежи [21]. Лапин Д.Н., осужденный по ст. 158.1 УК РФ Котовским городским судом Тамбовской области 25 июля 2018 г., ранее - с 2009 по 2018 г. - семь раз осуждался за кражу, мошенничество и другие преступления [22]. Нередки случаи, когда наряду с неоднократным мелким хищением лица совершают и ряд других преступлений. Так, Аблязов А.Р., будучи подвергнутым постановлением мирового судьи административному наказанию в виде штрафа в размере 7 000 руб. за административное правонарушение, предусмотренное ч. 2 ст. 7.27 КоАП РФ, в совокупности с этим совершил 19 преступлений, предусмотренных ст.ст. 158, 158.1 и 161 УК РФ [23]. Таким образом, можно констатировать, что в отечественной правоприменительной практике наблюдается тенденция привлечения к ответственности за совершение мелких хищений наряду с другими преступлениями против собственности. В ходе исследования выявлено, что за предыдущее мелкое хищение в половине случаев (53,3%) назначался административный штраф, в 37,4% - арест, в 9,3% случаев - обязательные работы. Повторное совершение тождественных правонарушений указывает на незначительный карательный потенциал административной ответственности для данных преступников. В числе уголовных наказаний за неоднократное мелкое хищение преобладает лишение свободы -56,1% (однако в 7,1% приговоров данное наказание отбывалось условно). Следующие по частоте назначения - исправительные работыф: 17,8%. Штрафы составляют 15,9%. Следующий шаг в определении практической целесообразности применения нормы с «административной преюдицией» - определение количества совершенных административных правонарушений, после которых возможно привлечение лица к уголовной ответственности. Из числа 32 опрошенных нами сотрудников правоохранительных органов 18,8% указали, что для привлечения к уголовной ответственности достаточно наличия совершения лицом двух аналогичных административных правонарушений, 34,4% - трех и более административно-правовых деликтов. Около половины респондентов (46,9%) затруднились ответить на данный вопрос. На наш взгляд, сколько административных наказаний влечет повышение общественной опасности личности преступника, должен решать суд, исходя из анализа количества и качества конкретных административных правонарушений, совершенных определенным человеком, а также его личностных характеристик. Если судья на основании имеющихся данных признает, что конкретный правонарушитель не прекратит совершать подобные административные правонарушения, то лицо следует привлекать к уголовной ответственности. Таким образом, проведенное исследование позволяет отметить, что «административная преюдиция» сама по себе играет незначительную роль в карательной практике уголовного судопроизводства, а ее применение в качестве криминализующего способа опасных деяний не вносит в уголовную политику страны сколько-нибудь значимых изменений. Но ее использование в отдельных конкретных случаях может обладать достаточным потенциалом для предотвращения новых административных правонарушений со стороны устойчивых правонарушителей. При этом следует согласиться с В.Н. Курченко, что лишь вполне определенные правила и критерии криминализации будут способствовать созданию единого конструкта преступлений с административной прею-дицией [24, с. 18]. Поэтому, на наш взгляд, в Общей части УК РФ необходимо закрепить дефиницию, отражающую основные положения понятия и порядка применения норм с «административной преюдицией», например, следующего содержания: «При совершении лицом двух и более аналогичных административных правонарушений оно может быть привлечено к уголовной ответственности за повторно совершенное деяние, если судом будет признано, что очередное привлечение лица к административной ответственности не будет способствовать предупреждению совершения новых правонарушений». В силу этого должен расшириться и круг задач УК РФ за счет включения в их число предупреждения не только преступлений, но и административных правонарушений. Поэтому с признанием вышеизложенной концепции ч. 1 ст. 2 Уголовного кодекса РФ после слов «предупреждение преступлений» следует дополнить словами «и административных правонарушений». В Постановлении Пленума Верховного Суда РФ «О практике назначения судами Российской Федерации уголовного наказания» следует предусмотреть отдельный раздел, посвященный назначению наказания в преступлениях с административной преюдицией. В нем в первую очередь необходимо указать, что привлечение лица к уголовной ответственности за ряд совершенных им аналогичных административных правонарушений не является нарушением принципа справедливости. В данном случае в целях предупреждения правонарушений учитывается не повторность деяния, а личность правонарушителя, которая представляет опасность для общества. На основании данного факта наказание за преступление с «административной преюдицией» должно учитывать характер ранее совершенных правонарушений, обстоятельства, в силу которых корректирующее воздействие административного наказания оказалось недостаточным, а также характер вновь совершенного административного правонарушения.
Ключевые слова
административная преюдиция,
декриминализация,
криминализация,
administrative prejudice,
decriminalisation,
criminalisationАвторы
| Титаренко Андрей Павлович | Алтайский филиал Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации | кандидат юридических наук, доцент кафедры уголовного права, уголовного процесса и криминалистики | tapavlovich@mail.ru |
Всего: 1
Ссылки
Послание Президента РФ Д.А. Медведева Федеральному Собранию РФ от 12 ноября 2009 г. // Рос. газ. 2009. 13 нояб. № 214.
Шемякин Д.В. Проблемные вопросы использования административной преюдиции в уголовном праве // Российский следо ватель. 2015. № 15. С. 45-47.
Мамхягов З.З. О допустимости использования административной преюдиции в уголовном законодательстве // Администра тивное право и процесс. 2015. № 8. С. 72-74.
Коробеев А.И., Ширшов А.А. Уголовный проступок сквозь призму института административной преюдиции: благо или зло? // Уголовное право. 2017. № 4. С. 68-72.
Лопашенко Н.А. Снижение репрессивности уголовного закона: предлагаемые меры и их оценка // Уголовное право. 2017. № 4. С. 84-93.
Третьяк М.И. Мелкое хищение: административная преюдиция или уголовный проступок? // Уголовное право. 2017. № 4. С. 121-123.
Лапина М.А., Карпухин Д.В., Трунцевский Ю.В. Административная преюдиция как способ декриминализации уголовных преступлений и разграничения уголовных преступлений и административных правонарушений в современный период // Административное и муниципальное право. 2015. № 11. С. 1138-1148.
Маркунцов С.А., Одоев О.С. Назначение справедливого наказания за преступления, составы которых сконструированы с использованием административной преюдиции (на основе анализа судебной практики по ст. 151.1 УК РФ) // Уголовное право. 2016. № 3. С. 69-77.
Маркунцов С.А., Одоев О.С. О перспективах применения уголовно-правовых запретов, сформулированных с использованием конструкции административной преюдиции // Судья. 2016. № 6. С. 28-31.
Сидоренко Э.Л. Административная преюдиция в российском уголовном праве: проблемы квалификации // Мировой судья. 2016. № 3. С. 28-34.
Сидоренко Э.Л. Административная преюдиция в уголовном праве: проблемы правоприменения // Журнал российского права. 2016. № 6. С. 125-133.
Фарафонова М.В. К вопросу о применении административной преюдиции // Административное право и процесс. 2016. № 9. С. 76-78.
Харлова М.И. Особенности состава преступления с административной преюдицией // Актуальные проблемы российского права. 2016. № 8. С. 136-143.
Антонович Е.К., Осипов А.Л. Актуальные вопросы применения института административной преюдиции в уголовном судопроизводстве // Адвокат. 2017. № 1. С. 26-34.
Аюпова Г.Ш. О расширении границ применения административной преюдиции применительно к ст. 264.1 УК РФ // Российский следователь. 2017. № 3. С. 34-36.
Дворцов В.Е. Об административной преюдиции применительно к норме об уголовной ответственности за совершение преступления против порядка осуществления кадастровой деятельности // Российская юстиция. 2017. № 11. С. 61-64.
Иванчин А.В. О пользе разумного использования административной преюдиции в уголовном праве (в связи с Постановлением Конституционного Суда РФ от 10 февраля 2017 г. № 2-П) // Уголовное право. 2017. № 4. С. 50-53.
Коновалова А.Б., Мосечкин И.Н. О применении института административной преюдиции в борьбе с преступлениями в сфере экономической деятельности // Безопасность бизнеса. 2017. № 6. С. 50-56.
Эргашева З.Э. Обстоятельства, имеющие значение для квалификации по делам о преступлениях с административной прею-дицией // Российский следователь. 2018. № 4. С. 62-65.
О проверке конституционности положений статьи 212.1 Уголовного кодекса Российской Федерации в связи с жалобой гражданина И.И. Дадина : постановление Конституционного Суда РФ по делу от 10.02.2017 № 2-П // Вестник Конституционного Суда РФ. 2017. № 2. С. 59-82.
Приговор Димитровградского городского суда Ульяновской области от 26.07.2018 г. по делу № 1-166/2018. URL: https://sudact.ru/regular/doc/sDpyi72YKJ6p/ (дата обращения: 01.12.2019).
Приговор Котовского городского суда Тамбовской области от 25.07.2018 г. по делу № 1-59/2018. URL: https://sudact.ru/ regular/doc/Bj4wQj83DuLQ/ (дата обращения: 01.12.2019).
Приговор Авиастроительного районного суда г. Казани Республики Татарстан от 30.07.2018 г. по делу № 1-208/2018. URL: https://www.sudact.ru/regular/doc/0sLvwxOYF0dZ/ (дата обращения: 01.12.2019).
Курченко В.Н. Парадигма административной преюдиции в уголовном праве // Российское право: образование, практика, наука. 2018. № 2. С. 10-21.
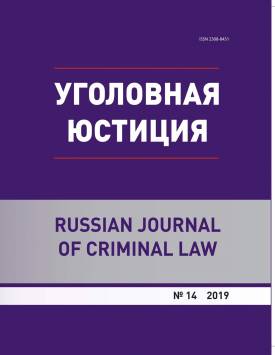

 Вы можете добавить статью
Вы можете добавить статью