Залог как мера пресечения, являясь реальной альтернативой содержанию под стражей и имеющий перед последней ряд неоспоримых преимуществ, к сожалению, не смог занять заметного места в отечественной правоприменительной практике. Предпринята попытка определить эффективность залога как меры пресечения в уголовном судопроизводстве с учетом отечественного опыта сделаны предложения по совершенствованию института залога.
Bail as a Preventive Measure: Some Problems and Ways to Improve Effectiveness.pdf В России залог как мера пресечения предусмотрена уголовно-процессуальным законодательством (ст. 106 УПК РФ). Существование этой меры пресечения, по сути - экономического стимула, не противоречит сложившимся в обществе экономическим отношениям. На фоне продолжающейся гуманизации отечественного уголовного судопроизводства приобретает особую актуальность расширение практики применения мер пресечения, не связанных с изоляцией лица от общества, в том числе залога, однако этот процесс во многом замедляет несовершенство нормативной базы. Залог в соответствии со ст. 97 УПК РФ призван пресечь вероятность того, что подозреваемый или обвиняемый скроется от дознания, предварительного следствия или суда; продолжит заниматься преступной деятельностью; будет угрожать свидетелю и (или) иным участникам уголовного судопроизводства; может уничтожить доказательства либо иным путем воспрепятствовать производству по уголовному делу. Исходя из структуры совершаемых в России преступлений, где больше половины составляют такие имущественные преступления, как кражи и мошенничества, избрание меры пресечения в виде залога, когда это возможно, видится логичным решением и теоретически должно быть популярной мерой в силу нескольких обстоятельств. Во-первых, мотивация большинства корыстных преступлений связана с незаконным получением имущества или денег. Следовательно, залог как мера пресечения в теории воздействует именно на корыстную мотивацию подозреваемого или обвиняемого и часто тождествен по направленности тому вреду, который он причинил обществу. Во-вторых, существенной проблемой в ходе восстановления социальной справедливости (ч. 2 ст. 43 УК РФ) при разрешении большинства уголовных дел является возмещение вреда, причиненного преступлением, который в большинстве случаев измеряется в денежном и имущественном эквиваленте. Залог в таком случае мог бы стать реальным механизмом возмещения такого вреда, потому что деньги или имущество в случае применения залога уже имеются на момент судебного разбирательства и могли бы быть обращены в счет возмещения вреда, причиненного преступлением. Между тем в реальности такое возмещение не используется. Обращение залога в доход государства в случае нарушения обвиняемым или подозреваемым обязательств, связанных с применением залога (ст. 118 УПК РФ), не способствует решению указанной проблемы. В-третьих, залог является более мягкой мерой пресечения по сравнению, например, с домашним арестом или заключением под стражу. При этом залог может быть применен совместно с запретом определенных действий (ст. 105.1 УПК РФ). Благодаря этому можно воздействовать на подозреваемого и обвиняемого комплексно и более избирательно, не сводя меры пресечения только к формату «откупа» от правосудия. Это вытекает из духа и логики уголовного процесса, однако на практике указанные обстоятельства реализуются редко. При этом вопросы эффективности применения залога как меры пресечения в уголовном процессе долгие годы вызывают дискуссию как в среде теоретиков, так и практиков [1, 2]. По-прежнему нет достаточной ясности в том, насколько существующая нормативная модель данной меры пресечения в отечественном «исполнении» совершенна, т. е. позволяет ли она раскрыть весь свой потенциал. Институт залога широко распространен. Немецкое уголовно-процессуальное законодательство содержит данную меру пресечения, однако судами залог в качестве меры пресечения назначается редко и в среде практикующих юристов рассматривается в качестве своего рода «привилегии для богатых» [3. С. 38]. В Испании напротив - освобождение под залог наряду с вызовом в суд являются наиболее часто используемыми альтернативами заключению под стражу, хотя в среде испанских судей нет единого мнения относительно эффективности данной меры пресечения [4. С. 54]. В широко практикующих залог как меру пресечения США региональное законодательство, регламентирующее освобождение под залог, не унифицировано, и можно выделить несколько моделей. Например, модель штата Джорджия предусматривает обязательные минимальные суммы залога за тяжкие преступления. Калифорнийская модель, напротив, предусматривает максимальные суммы залога. Для модели Техаса характерно минимальное вмешательство в усмотрение судьи при решении вопроса о размере залога. Залог как мера пресечения: некоторые проблемы 63 Стоит отметить, что в американской юридической литературе можно встретить мнения о неэффективности залога в качестве меры пресечения. Так, например, A. Ouss и М. Stevenson в своем исследовании [5] реформы системы освобождения под залог в Филадельфии не нашли доказательств того, что залог имеет сдерживающий эффект в отношении неявки или совершения нового преступления. Авторы показали, что в условиях неприменения (существенного уменьшения частоты применения) залога, эта политика привела к увеличению на 22% вероятности того, что обвиняемый будет освобожден без каких-либо финансовых или надзорных условий, но не повлияла на показатели применения такой меры пресечения, как заключение под стражу. Затруднительно говорить о справедливости результатов этого исследования, проведенного в иной юрисдикции, применительно к отечественной системе мер пресечения. Тем не менее это дает повод для раздумий. Заметим, что в последнее время в среде американских правоведов [6] все чаще звучат обвинения системы залога в непоследовательности, расовой предвзятости, нежелательных последствиях для широких слоев населения и произвольности ее применения. Так, A. Gupta, C. Hansman и E. Frenchman в своем исследовании [7] тенденций и закономерностей избрания меры пресечения в виде залога отмечают, что требования залога довольно низки для тех, у кого есть легкий доступ к деньгам, и приходят к выводу, что фактически институциональная структура американской системы денежного залога приводит к существованию двух систем правосудия: одной - для богатых и одной - для бедных. Вместе с тем в последние несколько лет в ряде штатов стали внедряться алгоритмы освобождения под залог (Bail Algorithms). Как указывает James A. Allen, это предполагает, что «посредством компьютерного программирования оценивают вопросы, на которые отвечает арестованный, и используют этот анализ вместе с данными о судимости арестованного, чтобы определить риски. Алгоритмы освобождения под залог предназначены для более точного определения размеров залога на основе ряда факторов, традиционно оставляемых на усмотрение судей. Представители Фонда Лауры и Джона Арнольдов, который разработал алгоритм освобождения под залог, используемый в тридцати юрисдикциях (штатах), оправдывают его как способ предоставить судьям объективную, основанную на данных, последовательную информацию, которая может использоваться в решениях» [8. С. 667]. «Посредством машинного обучения алгоритм освобождения под залог может обрабатывать данные из 1,5 миллионов уголовных дел, а также другую информацию, а затем предоставлять прогнозные оценки риска, относящиеся к вероятности рецидива обвиняемого или не явки на судебное разбирательство. Алгоритмы залога -относительное новшество, и их реализация идет медленно» [8. С. 668]. Указанный инструмент оценки рисков заключен в форму бесплатно распространяемого программного обеспечения. «Количество факторов риска, включенных в текущие алгоритмы, варьируется от семи до пятнадцати. В зависимости от числовой оценки риска обвиняемого алгоритмы классифицируют этого человека как человека с низким, средним или высоким уровнем риска. Эти классификации не претендуют на то, чтобы предсказывать индивидуальные результаты с некоторой степенью уверенности. Отнесение к категории высокого риска не означает, что лицо не явится или не будет повторно арестовано, если не будет задержано. Все, что он пытается сделать, - это ранжировать человека А по отношению к остальной части населения, для которой был разработан инструмент. Классификация “высокого риска” фактически утверждает, что человек А принадлежит к группе людей с общими чертами, которые будут иметь более высокие уровни неявки и повторного ареста, чем те, кто не входит в эту группу» [9. С. 509-510]. В уголовном судопроизводстве России, как показывает правоприменительная практика, залог применяется достаточно редко. В последнее время прослеживается тенденция к сокращению его применения. Так, согласно данным управления судебного департамента при Верховном Суде РФ, в 2016 г. залог как мера пресечения был применен к 269 лицам, в 2017 г. - к 133, в 2018 г. - к 108, в первом полугодии 2019 г. - к 44 подозреваемым, обвиняемым и подсудимым. Если экстраполировать указанные данные, то можно предположить, что залог как мера пресечения в уголовном процессе применяется районными судами в среднем около одного раза в год [10]. В этой связи можно ли утверждать, что залог является неэффективной мерой пресечения? Эффективность любого явления слагается из количественных и качественных характеристик. Количественные показатели применения залога в качестве меры пресечения, как было указано выше, крайне низки. Отчасти это можно объяснить сложившейся судебно-следственной практикой и относительной новизной для отечественной системы правосудия данной принудительной меры имущественного характера. С позиции качественных показателей можно прийти к выводу о том, что залог является более эффективной мерой пресечения, чем другие, поскольку число подозреваемых и обвиняемых, которые скрылись от органов предварительного расследования, при применении данной меры процессуального принуждения крайне мало, удельный вес таких лиц едва превышал в отдельные годы 6% [11]. К примеру схожий показатель, связанный с нарушением условий домашнего ареста, составляет 19-20% [12. С. 26]. В связи с чем залог возможно рассматривать как альтернативу заключению под стражу или домашнему аресту. Тем не менее в силу указанных причин, как это ни парадоксально, однозначно оценить реальную эффективность залога как меры пресечения в уголовном процессе РФ на сегодняшний день представляется затруднительным, главным образом, в силу редкости избрания данной меры пресечения судами в России. Недостаточно совершенное законодательное регулирование данной меры пресечения не дает последней раскрыть весь ее потенциал и стать действительно аль- А. И. Цыреторов, А. Г. Анисимов 64 тернативой самой строгой мере пресечения - заключению под стражу. Хотя применение залога как альтернативы заключению под стражу вписывается в реалии уголовной политики на современном этапе. Так, в ч. 1.1 ст. 108 УПК РФ прямо указано на то, что мера пресечения в виде заключения под стражу не может быть применена при наличии постоянного места жительства в отношении лиц, подозреваемых или обвиняемых в некоторых экономических и связанных с экономической сферой преступлениях (например, таких как незаконное предпринимательство и присвоение или растрата). Помимо неоправданной, на наш взгляд, редкости применения залога в качестве меры уголовно-процессуального пресечения существует и ряд других объективных проблем. Во-первых, закрепленный в УПК РФ нижний предел сумм залога в зависимости от категории преступлений не совсем удачен, поскольку при закреплении фиксированного нижнего предела в законе законодателем не учтены возможные изменения социальноэкономической обстановки страны и уровень инфляции, а также разные уровни дохода залогодателя. Так, например, среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников по итогам 2019 г., по данным Росстата, составляла в Сибирском федеральном округе 40 815 руб., а в Москве - 93 866 руб. [13]. Очевидно, что применение фиксированных сумм не всегда может быть эффективным и соразмерным, если не учитывать уровень доходов по региону. Во-вторых, не совсем удачным видится избрание меры пресечения в виде залога по решению суда. Так, распространенность такой меры пресечения, как подписка о невыезде и надлежащем поведении, во многом обусловлена тем, что она избирается следователем или дознавателем самостоятельно. В этой связи уместно вспомнить отечественный исторический опыт. Известно, что в Российской империи залог избирался следователем [14. С. 423], и его размер не мог быть меньше суммы причиненного ущерба. Статья 427 Устава уголовного судопроизводства Российской империи [14. С. 424] допускала возможность обращения суммы залога в пользу потерпевшего в случае, если обвиняемый скрылся от правосудия. Изменения уголовно-процессуального законодательства в подобном ключе могли бы решить оба указанных недостатка. При определении размера залога также представляется рациональным учитывать сумму ущерба, причиненного преступлением, что впоследствии может позитивно сказаться на восстановлении социальной справедливости. В-третьих, существующая практика обращения залога в доход государства не отвечает интересам потерпевшего и ни в коей мере не решает задачу восстановления социальной справедливости. Полагаем, что узкий подход к пониманию этого института, т. е. как направленного исключительно на недопущение скрывательства от правосудия, создания препон органам предварительного расследования и пресечения дальнейшей преступной деятельности, не служит подспорьем в деле возмещения вреда, причиненного преступлением. В-четвертых, считаем, что практику применение залога можно и нужно расширять. Существенной проблемой может стать недоступность денежных средств для залогодателя. Между тем выдавать такие средства возможно, в том числе за счет финансовых механизмов, например специальных кредитов для обвиняемых и подозреваемых. При этом выдавать такие кредиты имеет смысл только с расчетом на то, что такие деньги могут быть обращены в счет возмещения вреда, причиненного преступлением. Дальнейшее совершенствование института залога должно быть направлено на раскрытие всего его потенциала как правового инструмента и, как следствие, привести к расширению практики его применения. При этом полагаем, что наряду с обеспечением надлежащего поведения обвиняемого и подозреваемого залог должен способствовать решению вопроса возмещения вреда, причиненного преступлением.
Нарбикова Н.Г. Проблемы эффективности залога как меры пресечения в уголовном процессе // Известия Оренбургского государственного аграрного университета. 2015. № 5 (55). С. 256-257.
Мустафина К. Проблемы применения залога в российском уголовном процессе // Вопросы российской юстиции. 2019. № 1. С. 621-629.
Morgenstern Ch., Kromrey H. DETOUR - Towards Pre-trial Detention as Ultima Ratio. Greifswald, 2016. P. 52.
The Practice of Pre-Trial Detention in Spain // Research report. Noviembre 2015. P. 44.
Ouss A., Stevenson M. Bail, Jail, and Pretrial Misconduct: The Influence of Prosecutors (June 20, 2020). URL: https://ssrn.com/abstract=3335138 (дата обращения: 10.10.2020).
Walia M.S. Putting the «Mandatory» Back in the Mandatory Detention Act // St. John's Law Review. 2011. Vol. 85, № 1. Р. 177229. URL: https://scholarship.law.stjohns.edu/cgi/viewcontent.cgi?referer=&httpsredir=1&article=1013&context=lawreview (дата обращения: 09.11.2020).
Gupta A., Hansman Ch., Frenchman E. The Heavy Costs of High Bail: Evidence from Judge Randomization // Journal of Legal Studies. 2016. Vol. 45, № 2. Columbia Law and Economics Working Paper No. 531. URL: https://ssrn.com/abstract=2774453 (дата обращения: 10.10.2020).
Allen J.A. «Making Bail»: Limiting the Use of Bail Schedules and Defining the Elusive Meaning of «Excessive Bail» // Journal of law and policy. 2017. № 25. P. 637-685.
Mayson S.G. Dangerous Defendants // Yale Law Journal. 2018. № 127. P. 490-568.
Гаспарян Н. «Беззалоговое» правосудие Судебная практика последних 10 лет превращает залог в «вымирающую» меру пресечения // Адвокатская газета. 2020. 25 марта. URL: https://www.advgazeta.ru/mneniya/bezzalogovoe-pravosudie/(дата обращения: 16.10.2020).
Терентьевский П.А. Залог в уголовном праве. URL: http://www.terentevsky.ru/adv_ist_sov/zal.html (дата обращения: 06.11.2020).
Антонов И.А., Берзинь О.А., Каширин Р.М. К вопросу об исполнении меры пресечения «Домашний арест» в условиях несовершенства уголовно-процессуального законодательства // Проблемы правоохранительной деятельности. 2017. № 2. С. 25-28.
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников в целом по экономике Российской Федерации в 1991-2020 гг. URL: https://rosstat.gov.ru/labor_market_employment_salaries (дата обращения: 10.11.2020).
Свод законов Российской империи : в 5 кн. / под ред. И.Д. Мордухай-Болтовского ; сост. Н.П. Балканов, С.С. Войт, В.Э. Герценберг. СПб., 1912. Кн. 5, т. XVI. 1030 с.
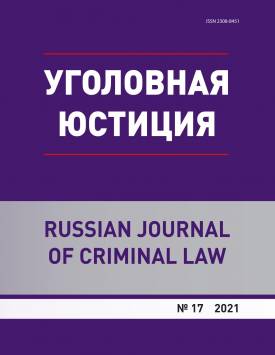

 Вы можете добавить статью
Вы можете добавить статью