История развития смыслового способа пенализации
Рассматривается история развития смыслового способа пенализации общественно опасных деяний. Выделены этапы и подэтапы развития его содержания. Автором предложены словесные «формулы», отражающие значение и роль наказания на каждом из этапов.
History of Semantic Penalization Method.pdf Пенализация общественно опасных деяний - законодательный процесс, результат которого - нормы уголовного права, устанавливающие наказуемость уголовно-противоправных деяний. Пенализация осуществляется несколькими способами в Общей и Особенной частях УК РФ. Первый - «смысловой», суть смыслового способа - в определении значения наказуемости опасных деяний для регулирования уголовных правоотношений. Второй - «содержательный», в его рамках формулируется понятие наказания. Третий - «перечневый», его результатом является закрепление перечня наказаний. Четвертый способ - «видовой», в его рамках формулируются нормы о конкретных видах наказаний. Пятый - «системный» способ. Здесь конструируются нормы системы уголовных наказаний. Шестой способ - «санкционный». Он подразумевает конструирование санкций за конкретные составы преступлений. Каждый из указанных способов имеет свое основание и формы реализации. В действующем уголовном законодательстве «смысловой» способ пенализации проявляется, во-первых, в установлении роли наказания в реализации стоящих перед Уголовным кодексом задач (ст. 2 УК РФ), во-вторых, в наказуемости как юридическом признаке преступления (ст. 14 УК РФ). Сам по себе признак наказуемости преступлений еще не раскрывает своего содержания, из него невозможно уяснить понятия наказания, его цели, виды конкретных наказаний, систему, понять порядок формирования санкций за конкретные преступления. Однако он имеет большое значение, так как указывает на роль наказуемости в уголовном законе. Во-первых, это обязательность закрепления такой формы реакции государства на каждое преступление. Во-вторых, исключение наказуемости из числа признаков преступления стирает грань между преступным и непреступным, так как законодательство проводит грань между ними именно путем установления наказания. Наказуемость (как и преступность) - исторически изменчивая категория. Как и почему изменялось содержание «смыслового» метода пенализации? Иными словами, какой путь прошла наказуемость преступления, прежде чем утвердиться в современном виде? Ответ на этот вопрос предполагает рассмотрение исторического аспекта развития «смыслового» способа пенализации общественно опасных деяний. Ответ предполагает два аспекта. Поскольку наказуемость - признак преступления, первый предполагает изучение эволюции самого понятия преступления. Второй - анализ трансформации задач, которые ставились перед наказанием как реакцией на правонарушение в истории его развития. В древние времена наказание не выделялось в самостоятельную, отдельную от других форму принуждения. О появлении уголовного наказания как о специфической - репрессивной дозированной реакции государства на наиболее опасные противоправные виновные деяния, видимо, можно говорить только с появлением уголовного права как отдельной отрасли правового регулирования. Сегодня мы называем применявшиеся тогда меры воздействия уголовными наказаниями лишь потому, что они отвечают нашим современным представлениям о наказании за преступления. Наказуемость же, как признак преступления в современном понимании, имеет относительно непродолжительную историю. Появлению «смыслового» способа пенализации как деятельности законодателя по формированию наказуемости хронологически предшествовали этапы, на которых государства - источника публичной власти в обществе (соответственно, и самой пенализации) -еще не существовало. Однако реакция человеческого социума на опасные деяния со стороны его членов имела место задолго до того, как эта реакция «оформилась» в то, что сегодня принято называть уголовным наказанием. Этапы становления и формулирования этой реакции можно условно разбить на три этапа -«догосударственный», «потестарный», «государственный». Первый этап - «догосударственный». На примерах современных первобытных этносов исследователи юридической антропологии иллюстрируют разницу наказания в зависимости от разницы в уровнях социально-экономического развития, сложности социальных отношений в раннеродовой (кровнородственной) общине охотников и собирателей, позднеродовой общине высших охотников и рыболовов, ранних земледельцев и скотоводов, позднепервобытной (соседско-большесемейной) общине, выраженности имущественной и социальной дифференциации [1. C. 171]. Общим для этого этапа является, во-первых, отсутствие деления нарушений на частные и публичные, просто потому, что частный и публичный интерес не отличались друг от друга, а зачастую и отождествлялись (убийство мужчины - кормильца семейства, это одновременно убийство охотника и война, обеспечивающего всю общину). Во-вторых, в условиях отсутствия институтов семьи и собственности массив преступного, а значит, и наказуемого составляли деяния, посягавшие на жизнь и здоровье. В-третьих, в первых коллективных формах человеческого общежития - родовых общинах - правом наказания, ответной реакции (мести) за причиненную обиду, обладал сам потерпевший, а если тот был мертв - его ближайшие родственники. В редких случаях, например при неочевидности виновного, вопрос о наказании решался на собрании всех взрослых членов общины. Наказание на этом этапе не было обязанностью. Обычаи кровной мести и талиона внутри родовой общины, как правило, еще отсутствовали, - община практически целиком была связана родственными узами. В-четвертых, содержание и границы такой мести носили неопределенный характер и определялись самим потерпевшим. Размер вреда, который он причинял своему обидчику, определялся только его произволом, зависел исключительно от степени гнева, раздражения, которые возбудила в нем обида, понесенный ущерб [2. C. 86]. Единственное ограничение состояло в необходимости учета традиций и правил общины. «Смысловой» метод формирования реакции на нарушение на этом этапе может быть выражен следующей словесной формулой: причиненный вред может быть отмщен потерпевшим. Второй этап - «потестарный»1, или «предгосудар-ственный». Период характеризуется отсутствием выраженных институтов публичной власти, укрупнением численности общины, преобразованием ее в племена и союзы племен, сменой кочевого образа жизни оседлым, разделением труда, появлением прибавочного продукта и товарообмена, началом институционализации частной собственности, возникновением имущественной дифференциации. На этом этапе происходят первые попытки отграничения частных нарушений от публичных, расцениваемых как причиняющих вред всей общине, племени. Рост популяции - результат объединения родов в племена, а племен в союзы - повлек за собой расширение ореола их обитания и, как следствие, неизбежные конфликты с соседями. Столкновение с чужаками влекло месть. «Будучи естественной необходимостью для первобытного человечества, месть, - отмечал известный отечественный антрополог М.О. Косвен, - остается для группы основным условием ее самосохранения и успешности ее борьбы за существование. Группа, не умеющая или не имеющая возможности мстить за себя, - осуждена на неминуемую гибель» [4. C. 30]. Месть приобрела характер кровной. Содержательно чаще всего Автор термина «потестарность» Ю.В. Бромлей определял его, в общих чертах, как племенное общество, обладающее властными (неполитическими) институтами. [3. C. 35]. она определялась талионом - представлением о естественной справедливости. Параллельно шел процесс централизации власти. Посягательство на авторитет ее носителя означало оскорбление всего социума. Наказание начинает служить не только местью за частную обиду конкретных потерпевших (соплеменников), но и насилием, признаваемым всеми членами коллективного образования, со стороны уполномоченных лиц за деяния, которые всеми признавались нарушениями. Месть за обиду, оскорбление всего рода, племени, общины - в руках предводителя. Ее реализация соответствует ожиданиям коллектива. Неосуществление такой мести воспринимается как проявление слабости и урон авторитета носителя верховной власти. Таким образом, появление наряду с частными деликтами, требующими кровной мести, и публичных, которые требуют удовлетворения ответных карательных притязаний пострадавшего сообщества, повлекло приобретение местью за последние-характера не только права, но и обязанности. Наказание за публичное нарушение подразумевало его формальное одобрение сообщества, а потому исключало ответную месть со стороны родственников нарушителя - члена социума. В частные конфликты община не вмешивалась, и родственная группа нарушителя могла не признать наказание правильным и надлежащим в данной ситуации, что могло привести к затяжной вендетте, кровной мести между двумя группами или родами [1. C. 176]. Необходимость в минимизации таких расправ положила начало распространению имущественных санкций (откупов, штрафов, композиций, вир и т.д.), распределяемых между потерпевшим и носителем публичной власти. Этот этап развития представлений о реакции на нарушение можно выразить следующей формулой: если причиненный вред частный - он может быть отмщен потерпевшим, если причиненный вреД публичный - он Должен быть отмщен носителем верховной власти. Дальнейший качественный генезис наказуемости связан с централизацией власти в постоянно действующих институциях, приобретением ею характера публичности, в конечном итоге - с появлением государства. Этот этап развития наказуемости как признака преступления следует обозначить как «государственный». Несмотря на то что «государственный» период -самый короткий по времени, он более предыдущих насыщен событиями, повлиявшими на развитие исследуемого явления. Для удобства изложения внутри этого этапа следует выделить несколько подэтапов. Их не всегда можно расположить в хронологическом порядке, так как некоторые процессы были растянуты на столетия, а некоторые, напротив, были привязаны к конкретным датам. 1. ПерехоД права наказания от носителей частного интереса к носителям интереса публичного. С оформлением публичного аппарата власти установление наказания и его применение постепенно становятся исключительной прерогативой государства. По мере увеличения количества публичных институтов, увеличения их роли и значения это право начали принимать на себя не только потерпевший, его семья, община, но и церковь, ремесленные цеха. Даже средневековые университеты в свое время имели право отмщения за своих студентов [5. C. 127]. Однако именно на «государственном» этапе происходит сначала факультатив-ный1, а потом и окончательный переход от мести (расправы), при которой опасность и наказуемость деяний могли определяться потерпевшим, к возмездию как способу воздействия на нарушителя, при котором наказание следует за деяние, признаваемое всеми в социуме нарушением (за преступление), и размер его зависит от тяжести нарушения, определяемого носителем государственной власти. В прошлое постепенно уходит и кровная месть, уже не отвечающая требованиям государственной монополизации власти. Возмездие в отличие от мести регламентируется правом, направлено на восстановление справедливости не только в глазах потерпевшего, но и всего социума, оно ограничивается личностью виновного или, по крайней мере, стремится к этому. Конечно, история знает случаи ответственности наказанием и без вины, например децимации. Но такие случаи, во-первых, - исключение из правила, во-вторых, являются проявлением в наказании мести, а не возмездия. Важно отметить, что на этапе «огосударствления» права наказания оно превращается собственно из права потерпевшего, как возможности его формулирования и применения, в обязанность и право государственных органов. Итогом окончательного перехода права наказания от любых иных лиц к государству послужила монополизация определения содержания наказуемости только последним. Этот этап развития смыслового метода пенализации условно можно выразить следующей словесной формулой: каждый причиненный вред, признаваемый государством опасным, должен влечь лишения и ограничения, налагаемые государством. 2. Выделение уголовного права в самостоятельную отрасль. Первые попытки тематической консолидации норм уголовно-правового характера в отдельные блоки были предприняты в Соборном уложении 1649 г. и в Артикуле воинском 1715 г., притом что сами эти акты носили межотраслевой характер. Важным условием формирования уголовного права и уголовной наказуемости как признака преступления в России послужила реформа полиции 1862 г. и судебная реформа 1864 г. С этими событиями, как правило, связывают первую «удачную» попытку разграничения ответственности уголовной и административной. Многие статьи из Уложения о наказаниях уголовных и исправительных 1845 г. были исключены и введены в различные законы, регулирующие организацию и порядок управления определенными отраслями (например, Устав о казенных лесах, Таможенный устав и т.д.). С принятием в 1864 г. Устава о наказаниях, налагаемых мировыми судьями, из Уложения 1845 г. были изъяты нормы об 'Так, в Русской Правде предусматривалась факультативная возможность возложения наказания за содеянное в виде штрафа в пользу князя «а как не будет кого мстить, то сорок гривен за голову...» [6]. ответственности за маловажные преступления и переведены в Устав в качестве уголовных проступков с менее суровыми наказаниями. Итогом появления в XIX в. наряду с уголовным и полицейского права, применительно к смысловому способу пенализации, стала возможность трактовать уголовную наказуемость в более узком смысле, нежели существовавший ранее: не просто воздействие любым из существующих лишений или ограничений за любые правонарушения, а применение наиболее суровых лишений и ограничений из существующих, применяемых за наиболее опасные деяния. Этот этап пенализации меняет «смысловой» метод пенализации до следующей словесной формулы: каждый причиненный вред, признаваемый государством опасным, должен влечь наиболее строгие лишения и ограничения из возможных, налагаемых государством. 3. Появление термина «преступление» в законе. Артикулы воинские 1715 г. впервые на законодательном уровне упоминают термин «преступление». До этого отечественные нормативные акты лишь перечисляли конкретные опасные деяния, в лучшем случае именуя группы некоторых их них общими родовыми терминами - «гвалт», «обида», «головщина», «татьба», «лихое дело» и т.д. Этот этап можно охарактеризовать так: каждое преступление, должно влечь наиболее строгие лишения и ограничения из возможных, налагаемых государством. 4. Закрепление понятия преступления в законе. В 1832 г. в результате долгих попыток систематизации законодательства был принят Свод законов Российской империи. Свод впервые в отечественном праве дал определение преступлению. Под преступлением понималось «деяние, которое воспрещено законом под страхом наказания». Свод разделил наказания на уголовные и полицейские по мере их строгости. Впервые закрепленное в нашей стране на легальном уровне понятие преступления позволило установить наказуемость не конкретного деяния, а преступления вообще, как родового понятия. Это ознаменовало, по нашему мнению, не что иное, как возникновение «смыслового» метода пенализации общественно опасных деяний. Появление этой нормы породило дискуссию среди первых ученых-пенитенциаристов XIX в., таких как О. Го-регляд, П. Гуляев, Г. Солнцев, С. Протасов, о праве государства устанавливать и применять наказания за преступления. В научном юридическом аппарате даже возник латиноязычный термин jus puniendi, которым стали обозначать право государства наказывать. Значением закрепления легальной дефиниции преступления явилась «рождение» пенализации «смысловым» способом - в юридическом закреплении признака уголовной наказуемости преступления. Этот этап «смысловой» пенализации выражается словесной формулой: каж-дое преступление должно влечь наказание. 5. Появление Общей части уголовного закона. Запреты, устанавливаемые первыми государственными источниками права, как и их неблагоприятные последствия, поначалу носили казуистический бессистемный характер. Наиболее распространенным способом систематизации правового материала вплоть до XIX столетия был хронологический, суть которого - в сведении разновременных нормативных положений в единый документ и дополнении уже существующих предписаний новыми, без какой-либо переработки и обобщения. Описание и вычленение общего в наказуемости деяний происходило несколько столетий по мере увеличения количества запрещающих предписаний. Итогом такого абстрагирования явилось появление в XIX в. Общей части уголовного закона. Традиционно к первому источнику уголовного права, имеющему деление на Общую и Особенную части, относят Уложение о наказаниях уголовных и исправительных 1845 г. Нормативный акт, как и предыдущие, «страдал» избыточной казуистичностью - содержал 2 224 статьи, при этом 11 из 12 разделов Уложения составляли Особенную часть. Уложение, также как и Свод 1832 г., содержало понятие преступления, но, в отличие от последнего, представлявшего собой громоздкое неоднородное нагромождение норм различных отраслей1, в систематизированном акте, делящем уголовно-правовые нормы на общие положения и определяющем ответственность за отдельные деяния. Значением появления Общей части для «смыслового» способа пенализации является его «прописка» в структуре уголовного закона - в том его элементе, который закрепляет основные, базовые его положения. Для этого этапа развития «смыслового» метода словесная формула может быть следующей: преступление должно влечь наказание. Дальнейшую эволюцию «смыслового» метода пенализации общественно опасных деяний можно проследить на изменениях содержания легального понятия наказуемости преступления как его признака. Как указывалось выше, Свод законов 1832 г. определил преступление как «деяние, которое воспрещено законом под страхом наказания». Уложение о наказаниях уголовных и исправительных 1845 г. более объемно воспроизвело понятие преступления, предусматривая, что «за преступления и проступки, по роду и мере важности оных, виновные подвергаются наказаниям уголовным или исправительным, преступлением или проступком признается как самое противозаконное деяние, так и неисполнение того, что под страхом наказания уголовного или исправительного законом предписано». Из этих дефиниций можно сделать следующие выводы. Во-первых, наказуемость в Уложении упоминается в форме языкового оборота «под страхом». Несмотря на то что современный словарь русского языка [7. C. 443] словосочетанию «под страхом» придает значение «под угрозой», использование именно такого выражения в Уложении имеет объяснение. С обретением права наказания государство начало вкладывать в !В качестве примера логической непоследовательности расположения норм в Своде законов 1832 г. можно привести то обстоятельство, что нормы уголовного права, собранные в томе XV, встречаются в уставах казенного управления (тома V-VIII), статьях 737, 794, 832 закона о состояниях и других статьях тома IX. него элементы устрашения. Акцент в формулировке сдвинулся от справедливости в значении соразмерности наказания преступлению к справедливости в значении «благая цель оправдывает любое средство». Иными словами, если страх от наказания настолько силен, что удерживает от совершения нарушения, значит, такое наказание справедливо, оправданно. Так, Русская Правда суровые санкции поясняла «чтобы на то смотря иным не повадно было так делати», «чтобы на то смотря иным неповадно было воровати, в государев двор красти», «чтоб впредь не лгали», «чтобы на то смотря иные такого беззакония и скверного дела не делали и от блуда унялись» и т.д. Показательным является и суждение Петра I, считавшего и мятеж, и убийство, и ношение бороды, и срубку заповедного дерева равно важными деяниями, достойными смертной казни, ибо все это виноватый делал, одинаково не страшась царского гнева» [8. C. 50]. Это проявляется и в практике публичных казней в России вплоть до второй половины XIX в., а также телесных наказаний вплоть до их отмены в 1904 г. Во-вторых, наказуемость нарушений в указанных нормативных актах разделена в зависимости от опасности нарушения и суровости наказания. Законодатель выделил наказания уголовные - строгие, следовавшие за наиболее опасные нарушения - преступления, и исправительные - менее строгие, применявшиеся за проступки. Впоследствии такое деление легло в основу деления на уголовные наказания и административные (полицейские) меры. Но полного однозначного и системного деления наказательных мер на уголовные и административные в XIX в. так и не произошло. Это позволило Д.Н. Блудову, одному из разработчиков Уложения 1845 г., утверждать, что «при переходе от наказаний уголовных к легчайшим исправительным нет той постепенности, которая существует между преступлениями». Более того, и в настоящее время говорить об однозначной границе такого деления можно лишь с определенной долей условности. Судья Конституционного Суда РФ С.Д. Князев отмечал в этой связи, что «конституционные дефекты административной ответственности обусловливаются отсутствием до настоящего времени надлежащей ясности в вопросе о сущности, юридической природе и отличительных правовых признаках этого вида ответственности, особенно в соотношении с ответственностью уголовной» [9. C. 21]. Уголовное уложение 1903 г. в ст. 1 признает преступлением «деяние, воспрещенное, во время его учинения, законом под страхом наказания». Как это определение характеризует смысловую форму пенализации? Во-первых, законодатель продолжил тенденцию необходимости конструирования наказания, которое бы в первую очередь вызывало страх у адресатов норм уголовного права. Во-вторых, комментируя это определение, Н.С. Таганцев указывает, что в статье употреблено выражение «воспрещенное законом», а не как предполагалось первоначально - «воспрещенность уголовным законом», потому что Уложение говорит о запрещении законом вообще, а не только уголовным законом, поскольку уголовно-правовая запрещенность содержится и в других законах, например акцизном [10. C. 3]. Сознательно отказываясь от исключительно уголовной «воспрещенности» деяний, законодатель констатировал существовавшее несовпадение криминализации и пенализации по объему. В-третьих, было упразднено деление наказуемости на уголовную и исправительную, как не имевшее практического значения» [10. C. 4]. Советские источники уголовного права отказались от легального признака наказуемости преступления. Ни один из них не предусматривал такого признака преступления. Несмотря на это, смысловая пенализация все же имела место. Первым в представление о наказуемости преступлений внес коррективы Декрет ВЦИК от 7 марта 1918 г. № 2 «О суде». Этот нормативный акт впервые в истории отечественного уголовного законодательства предусмотрел возможность условного осуждения («условное освобождение» в редакции Декрета) за преступление. Фактически с этого момента на уровне закона государство заявило, что наказание за преступление, как реально осуществляемое мероприятие, его право, а не обязанность. После Октябрьской революции легальное понятие преступления было сформулировано в Руководящих началах по уголовному праву РСФСР 1919 г. Начала содержали довольно общее определение, согласно которому преступление - это действие или бездействие, опасное для данной системы общественных отношений. Тем самым законодатель сместил «фокус» с юридического признака - «запрещенность законом» - на материальный - «опасность» [11. C. 103]. Содержание «смыслового» способа претерпело значительное изменение по сравнению с дореволюционными источниками. Так, ст. 2 и 3 провозглашали, что «уголовное право имеет своим содержанием правовые нормы и другие правовые меры, которыми система общественных отношений данного классового общества охраняется от нарушения (преступления) посредством репрессии (наказания). Советское уголовное право имеет задачей посредством репрессии охранять систему общественных отношений, соответствующую интересам трудящихся масс, организовавшихся в господствующий класс в переходной от капитализма к коммунизму период диктатуры пролетариата». Отсюда можно сделать следующие выводы. Во-первых, государство впервые ставит перед наказанием установленную законом задачу. Указание в законе на предназначение наказания, как средства решения стоящей перед уголовным законом сформулированной задачи, следует считать «смысловым» способом пенализации в советском уголовном законодательстве, так как отвечает на вопрос о значении наказания для регулирования отношений. Во-вторых, уголовное право отказывается от наказания как средства устрашения, придавая ему утилитарное значение средства охраны существующих отношений. В-третьих, такая охрана осуществляется не в интересах всего общества, а исключительно в интересах правящего класса трудящихся. Все это позволило заместителю народного комиссара юстиции А. А. Шрейдеру утверждать, что «впервые в полном объеме и государственном масштабе поставлен вопрос о коренной ломке понятий о преступлении и наказании, о праве на наказание, о мерах и пределах наказуемости с точки зрения общества действий» [12. C. 146]. В соответствии со ст. 6 УК РСФСР 1922 г. преступлением признавалось всякое общественно опасное действие или бездействие, угрожающее основам советского строя и правопорядку, установленному рабочекрестьянской властью на переходный к коммунистическому строю период времени. Ст. 5 предусматривала новшество. Для осуществления своей задачи - правовой защиты государства трудящихся от преступлений и от общественно опасных элементов - УК 1922 г. определил средством применение к нарушителям революционного правопорядка наказания и других мер социальный защиты. Теперь средством решения задачи являлись не только наказания, но и меры социальной защиты. Более того, теперь и наказание признавалось мерой социальной защиты. Какие последствия для смыслового способа пенализации несла замена или признание наказания мерой социальной защиты? На наш взгляд, основное значение в «смещении акцентов» с наказания как средства возмездия на наказание как средство защиты. В практическом аспекте это выражается в отсутствии необходимости соизмерять размер наказания с размером опасности произошедшего преступления. Куда важнее теперь не допустить новых преступлений и тем самым защитить новый государственный строй, нежели не совершить возмездие за прошлые посягательства. Таким образом, первый советский Уголовный кодекс придал новый смысл наказуемости деяний - не ради возмездия за прошлое, но для защиты будущего, что можно выразить следующей словесной формулой: наказание должно защищать государство от опасности, в том числе преступлений. Уголовный кодекс РСФСР 1926 г. под преступлением понимал всякое действие или бездействие, направленное против советского строя или нарушающее правопорядок. Наказуемость как признак преступления по-прежнему не упоминается. Более того, термин «наказание» в кодексе целиком уступил место «мерам социальной защиты». Такую замену можно охарактеризовать следующим образом: защищать государство от опасности, в том числе преступлений, можно и без наказания. Охватывается ли «смысловым» методом пенализации меры социальной защиты? Ответ на этот вопрос служил и служит предметом широких дискуссий. Одни рассматривали меры как эволюционное продолжение наказания и считали наказание одной из форм социальной защиты [13. C. 100-101; 14. С. 9]. Так, Н.В. Крыленко замену наказания мерами социальной защиты связывал с буквальной трактовкой высказывания К. Маркса, что «наказание есть не что иное, как средство самозащиты общества против нарушений условий его существования» [15. C. 184]. Другие настаивали на самостоятельном характере мер защиты, существующем наряду с наказанием. Мотивировкой этому служил довод, что наказание - это своего рода отражение прошлого, известная оценка уже учиненного преступного деяния. Меры же социальной защиты могут носить упреждающий характер и быть не связанными с деянием как с критерием их вида и продолжительности [16. C. 263, 276]. На вопрос об автономности наказания и мер социальной защиты, на наш взгляд, нельзя ответить и однозначно утвердительно. Во-первых, хотя меры социальной защиты в ст. 9 УК РСФСР 1926 г. декларировались не как возмездие или кара, а как имеющие превентивный характер, все же применялись и за преступление, а не только в связи с одним лишь опасным состоянием лица. Во-вторых, Кодекс провозглашал, что меры применяются «за всякое деяние, направленное против Советского строя или нарушающее правопорядок, установленный Рабоче-Крестьянской властью на переходный к коммунистическому строю период времени», даже если таковое и не запрещено прямо законом, но среди оснований были и уголовно-противоправные деяния. В-третьих, они применялись к лицам, опасным из-за связи с преступной средой или прошлой деятельности, но также и к лицам, совершившим общественно опасные деяния. В-четвертых, несмотря на отсутствие термина «наказание» в законе, большинство таких мер содержательно представляли собой именно наказание. Это позволяет утверждать, что определенный сегмент мер социальной защиты составляет наказуемость de facto, хотя de jure наказуемость в УК 1926 г. отсутствовала. Более широким является вопрос, охватывается ли конструирование мер социальной защиты пенализацией общественно опасных деяний вообще, а не только смысловым ее методом? Для начала стоит определиться с содержанием предмета пенализации. Пенализация - это деятельность законодателя, предполагающая установление (фиксацию) одного из существенных признаков преступления - наказуемости. При определении того, что составляет содержание наказуемости, вряд ли стоит ограничиваться только наказаниями. Наказуемость предполагает как применение наказания за совершение преступления («реальную» наказуемость), так и угрозу его применения («абстрактную» или «потенциальную» наказуемость). Если реальная наказуемость состоит в установлении понятия, целей, видов, системы наказаний в Общей части, а также наказаний за конкретные виды преступлений в Особенной части, то абстрактная подразумевает случаи, когда наказание реально не применяется, хотя основания к этому есть, но в силу указанных в законе причин вместо него применяются иные меры уголовно-правового характера, которые могут быть заменены на реальное применение наказания. Те меры уголовно-правового характера, которые связаны с реальной или абстрактной (потенциальной) реализацией основного метода регулирования уголовно-правовых отношений - кары (т.е. также являются формами реализации уголовной ответственности), составляют содержание наказуемости, а потому, по нашему мнению, должны включаться в предмет пенализации. К таким мерам, например, следует отнести все современные меры уголовно-правового характера в узком смысле. В то же время не могут быть предметом пенализации иные меры уголовно-правового характера, понимаемые в широком и законодательном аспектах. Такие подходы, во-первых, «объединяют необъединяе-мое». Выражаясь метафорой, расческа парикмахера и топор палача предназначены для головы, и это их объединяет, однако вряд ли это означает одинаковость их целей, методов применения, оснований, последствий и т.д. Во-вторых, они никак не связаны с основным звеном пенализации - уголовным наказанием, значит, подчинены совершенно иной логике построения. В научной литературе такие последствия преступления предлагают именовать «иными мерами, предусмотренными уголовным законом» [17. C. 12-13]. Меры социальной защиты сначала потеснили уголовное наказание, будучи закрепленными в УК 1922 г. наряду с наказанием, а затем - в УК 1926 г. - и вовсе вытеснили его терминологически. Существует мнение, что в результате подмены понятий в теории права и в законодательстве границы между мерами наказания и мерами безопасности были фактически стерты [18. C. 20]. Полагаем, с такой позицией можно согласиться лишь отчасти. Как известно, «меры социальной защиты» в первом советском кодексе законодателем подразделялись на три вида: 1) меры судебно исправительного характера (бывшее наказание), применяемые за преступления; 2) меры медицинского характера - к невменяемым лицам; 3) меры медикопедагогического характера - к несовершеннолетним в случаях замены наказания этими мерами. Вторая и третья группы мер, безусловно, не могут быть отнесены к предмету пенализации, так как не связаны ни реально, ни под условием с возможностью применения кары. Не могут составлять его содержания и некоторые меры судебно-исправительного характера. Например, предостережение. Большинство же мер судебной защиты подразумевали в своей сущности кару, а потому отвечали требованиям предмета пенализации. Другое дело, что по целому ряду показателей они не соответствовали современным требованиям теории пенализации, например, его сущностным свойствам, таким как возмездность, способность быть лишением или ограничением, выражение осуждения, направленность на вызов страданий. Почему законодатель раннего советского времени отказался от признака наказуемости преступления? Причин, на наш взгляд, минимум три. Во-первых, понятия преступления того периода носили классовый и идеологический характер. Смена государственного строя в 1917 г. ознаменовалась и сменой всей правовой парадигмы в стране. По словам советского правоведа А. Эстрина, современника этих событий, в этом отказе выражается разрыв советского уголовного права со старыми, проникнутыми фетишизмом уголовноправовыми построениями и с содержащимися в них критериями применения уголовной репрессии [19. C. 83]. Многие правовые инструменты, практиковавшиеся в царской России, в том числе и наказание, в первые годы советской власти провозглашались пережитком, архаикой, которая должна уступить место идеологически новым средствам правового регулирования. В коммунистическом обществе, наступление которого казалось скорым и неизбежным, эксцессы отдельных лиц еще останутся, по крайней мере, в течение некоторого начального, самое большое - переходного периода. Но эти «эксцессы» коммунистическое общество научится быстро и легко подавлять и без помощи таких средств, как уголовное наказание [20. C. 31-33]. Отказ от наказуемости на деле носил не только политический, но и прагматический характер. Законодатель отказался от преступности деяния как единственного основания применения наказания, дополнив его (фактически заменив) целесообразностью. Классическая связка наказуемо, потому что преступно, уступила место связке наказуемо, потому что целесообразно. «Мыслимы, - отмечал А. К. Эстрин, - два и только два принципиальных критерия для применения к осужденному меры уголовной репрессии: либо критерий целесообразности, либо критерий справедливости. Для марксиста, борющегося с юридическим фетишизмом, единственно приемлем первый, совершенно неприемлем второй. Справедливость - антитеза целесообразности» [19. C. 77]. Во-вторых, отказ от наказуемости явился следствием смены школ уголовного права, на которые опирался законодатель. Классическая, на которой было построено Уложение 1903 г., уступила место популярной, в то время социологической. В-третьих, это объясняется существованием в уголовном праве раннего советского периода аналогии, проявлявшейся в возможности привлечения к уголовной ответственности за совершение общественно опасного деяния, прямо не предусмотренного в уголовном законе, по статье Уголовного кодекса, предусматривающей наиболее сходное по роду деяние (ст. 10 УК РСФСР 1922 г., ст. 16 УК РСФСР 1926 г.). Аналогия была бы невозможна, содержи преступление признак наказуемости, ведь кодексы содержали только аналогию преступности деяния, но не аналогию наказуемости. Позже исключение из закона термина «наказание» признают ошибкой, и в 1930-х гг. «наказание» возвращается в нормативные акты, регламентировавшие вопросы уголовной ответственности. Так, М. Д. Шарго-родский, указывая, что «отказ от термина “наказание” в законе не отражал каких-либо принципиальных изменений во взглядах на задачи уголовного права, а лишь свидетельствовал о желании законодателя подчеркнуть отказ от наказания как возмездия, хотя для этого вовсе и не требовалось изменять старую терминологию» [21. C. 9]. В защиту законодателя 1920-х гг. стоит признать, что увлечение построе
Скачать электронную версию публикации
Загружен, раз: 35
Ключевые слова
пенализация общественно опасных деяний, уголовное наказание, санкцияАвторы
| ФИО | Организация | Дополнительно | |
| Валеев Марат Тагирович | Национальный исследовательский Томский государственный университет | кандидат юридических наук, доцент, доцент кафедры уголовно-исполнительного права и криминологии Юридического института | mtv666@yandex.ru |
Ссылки
Шепталин А.А. Генезис и эволюция института наказания в первобытном обществе // Человек: преступление и наказание. 2019. Т. 27 (1-4), № 2. С. 169-189.
Мкртычян С.А. Генезис уголовного наказания в Русской Правде // Уголовное право: стратегия развития в XXI веке : матери алы Х Междунар. науч.-практ. конф. М. : Проспект, 2013. С. 85-88.
Бромлей Ю.В. Очерки теории этноса. М. : Наука, 1983. 412 c.
Косвен М. Преступление и наказание в догосударственном обществе. М. ; Л., 1925. 140 c.
Пономаренко Ю.А. Происхождение права наказания // Проблемы законности. Юридическая академия Украины им. Ярослава Мудрого, 2011. С. 126-135.
Российское законодательство Х-ХХ веков : в 9 т. Т. 1: Законодательство Древней Руси / под общ. ред. О.И. Чистякова. М. : Юрид. литература,1984. 432 с.
Словарь русского языка : в 4 т. / РАН, Ин-т лингвистич. исследований. М. : Юрид. литература, 1999. T. 3.
Таганцев Н.С. Русское уголовное право. Т. 1. Тула : Автограф, 2001. 800 c.
Князев С.Д. Законодательство об административной ответственности: состояние и перспективы реформирования (на основе правовых позиций Конституционного Суда Российской Федерации) // Журнал конституционного правосудия. 2019. № 4 (70). С. 20-31.
Таганцев Н.С. Уголовное Уложение 22 марта 1903 г. СПб., 1904. 1122 с.
Шеслер А.В. Идеологические основы уголовного законодательства советского периода о преступлении и наказании // Вестник Кузбасского института ФСИН. 2021. № 1 (46). С. 99-111.
Грачева Ю.В., Маликов С.В., Чучаев А.И. Советское уголовное уложение (научный комментарий, текст, сравнительные таблицы). М. : Проспект, 2015. 240 с.
Станкевич В.Б. Борьба с опасным состоянием как основная задача нового уголовного права // Новые идеи в правоведении / под ред. Л.И. Петражицкого. Сб. 1: Цели наказания / сост. П.И. Люблинским. СПб., 1914. С. 78-135.
Дриль Д.А. Преступность и преступники (уголовно-психологические этюды). СПб. : Изд. Я. Канторовича, 1895. 295 с.
Крыленко Н.В. Ленин о суде и уголовной политике: к десятилетию со дня смерти. 1924-1934. М., 1934. 272 c.
Жижиленко А.А. Наказание. Его понятие и отличие от других правоохранительных средств. Петроград, 1914. 676 c.
Уткин В.А. Проблемы Концепции развития уголовно-исполнительной системы в контексте уголовной политики // Уголовно-исполнительная система Российской Федерации в условиях модернизации: современное состояние и перспективы развития. Рязань : Академия ФСИН России, 2013. Т. 1. С. 8-13.
Щедрин Н.В. Меры безопасности как средство предупреждения преступности : автореф.. д-ра юрид. наук. Екатеринбург, 2001. 33 c.
Эстрин А. К вопросу о причинах построения системы уголовной репрессии в пролетарском государстве // Революция права. 1927. № 1. C. 74-98.
Вышинский А.Я. Суд и карательная политика советской власти. Л. : Госюриздат, 1925. 78 c.
Шаргородский М.Д. Наказание по советскому уголовному праву. М. : Госюриздат, 1958. 239 c.
Ансель М. Новая социальная защита. М. : Прогресс, 1970. 311 c.
Уголовное право. Общая часть : учебник. 3-е изд., перераб. и доп. М. : НКЮ СССР,1943. 284 c.
Дурманов Н.Д. Понятие преступления. М. : АН СССР, 1948. 315 c.
Ременсон А.Л. Наказание и его цели в советском уголовном праве : автореф. дис. канд. юрид. наук. Л., 1951. 17 c.
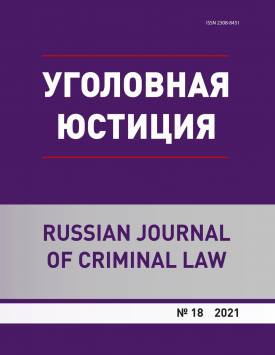
История развития смыслового способа пенализации | Уголовная юстиция. 2021. № 18. DOI: 10.17223/23088451/18/2
Скачать полнотекстовую версию
Загружен, раз: 202

 Вы можете добавить статью
Вы можете добавить статью