Реализация принципа состязательности создает условия для обеспечения справедливого судебного разбирательства и вынесения законного, обоснованного и справедливого решения. Одним из проявлений указанного принципа является закрепление в УПК РФ права защитника собирать доказательства (ст. 86 УПК РФ). Автор пришел к выводу о необходимости определить механизм собирания доказательств защитником при отсутствии добровольного согласия обладающего доказательственной информацией лица (либо организации) сотрудничать с защитником.
The Relationship of the Investigator and the Defense Attorney in the Process of Collecting Evidence.pdf В соответствии со ст. 123 Конституции РФ, «судопроизводство осуществляется на основе состязательности и равноправия сторон». В настоящее время состязательность как принцип уголовного судопроизводства предусмотрена ст. 15. УПК РФ. Такое нормативное закрепление не внесло ясности в вопрос о том, является ли состязательность принципом уголовного процесса в целом и на какие стадии распространяет это основополагающее положение свое действие. Одни авторы полагают, что принцип состязательности действует как в ходе досудебного, так и судебного производства [1. С. 43]. Другие считают, что принцип состязательности на стадии предварительного расследования присутствует, но реализуется не в полной мере. Подобная позиция получила широкое распространение среди ученых [2. С. 13-14; 3. С. 5; 4; 5. С. 63]. Ряд ученых полагают, что этот принцип реализуется только на судебной стадии уголовного судопроизводства и действие его в ходе досудебного производства декларативно. В свою очередь Н.П. Кириллова обращает внимание на то, что принцип состязательности не в полной мере реализуется и в ходе судебного разбирательства [6]. Между тем не вызывает спора утверждение, что реализация состязательности создает условия для обеспечения справедливого судебного разбирательства и вынесения законного, обоснованного и справедливого решения. Действительно, в розыскном процессе, каким является российский уголовный процесс, в полном объеме состязательность может быть реализована в судебном производстве. Непременным условием состязательности является равенство сторон - обвинения и защиты, что, кстати, закреплено в упоминаемой ранее статье Конституции РФ, а также в ст. 15 УПК РФ, предусматривающей, что стороны обвинения и защиты равноправны перед судом. Равенство же главным образом выражается в следующем: обе стороны должны быть снабжены для состязания равными процессуальными возможностями и вполне достаточным для этого набором доказательств. Собирание доказательств по российскому уголовному процессу осуществляется в основном на предварительном расследовании. Значит, для успешного состязания в суде, еще до судебного разбирательства, во время расследования, обеим сторонам должны быть созданы максимальные условия для получения ими необходимого набора доказательств. Таким образом, принцип состязательности, предназначенный в основном для судебного разбирательства, должен оказать влияние и на предварительное расследование. Ранее действовавший УПК РСФСР ставил прокурора-обвинителя в существенно более выгодное положение, так как для собирания доказательств в его распоряжении находились снабженные всеми властными полномочиями следственный и оперативнорозыскной аппараты. Положение же в процессе собирания доказательств другой стороны - защиты (защитника) было совершенно иным. По УПК РСФСР, защитник, по существу, имел только одну реальную возможность собирать необходимые ему доказательства: через следователя, путем заявления последнему ходатайств, которые оценивались следователем и могли быть удовлетворены или отклонены. Защитник полностью зависел от следователя и не имел объективной возможности реализовать права в целях осуществления эффективной защиты. Собирание доказательств защитником было поставлено под контроль следователя, что значительно затрудняло возможность защитника еще до суда получить необходимый ему для будущего состязания набор доказательств. Это являлось одной из главных причин некоторого искажения выполнения их задач: вместо состязания путем представления суду оправдательных доказательств, необходимым набором которых защитник не обладал, он в основном сосредоточивал усилия на отыскании ошибок следователя. Учитывая это, законодатель, работая над действующим уголовно-процессуальным законом, предпринял попытку внести в вышеописанную ситуацию серьезные изменения. Во-первых, закрепляя принцип состязательности сторон в уголовном процессе, законодатель разграничил функции обвинения, защиты и разрешения уголовного дела, предусмотрев, что они не могут быть возложены на один и тот же орган или одно и то же должностное лицо (ст. 15 УПК РФ). Во-вторых, в законе четко определена сущность деятельности следователя - он является органом уголовного преследования. Представляется, что таким образом законодатель попытался определить функцию следователя, упраздняя положение, при котором следователь являлся одновременно органом уголовного преследования и фактически осуществлял защитительную функцию, собирая и обвинительные, и оправдательные доказательства (ст. 20 УПК РСФСР), что противоречило законам психологии и порождало обвинительный уклон. В то же время следует отметить, что определив в ст. 73 УПК РФ предмет доказывания, законодатель возложил на следователя как должностное лицо, осуществляющее предварительное расследование по уголовному делу, и обязанность собирать доказательства, характеризующие личность обвиняемого, исключающие преступность и наказуемость деяния, смягчающие наказание, которые могут повлечь освобождение от уголовной ответственности и наказания. Таким образом, несмотря на отнесение следователя к стороне обвинения, за ним фактически сохранилась обязанность собирать доказательства как изобличающие виновное лица, так и опровергающие обвинение. Периодически предпринимаются попытки нормативно закрепить существующую дихотомию статуса следователя как субъекта доказывания. В частности, речь идет о ныне уже отозванном законопроекте Следственного комитета РФ «О внесении изменений в Уголовнопроцессуальный кодекс Российской Федерации в связи с введением института установления объективной истины по уголовному делу», предполагавшем становление процессуальной фигуры следователя как «объективного исследователя», обязанного «сохранять объективность и беспристрастность, не допуская обвинительного уклона в доказывании» [7]. Однако, как уже отмечалось, такое положение вещей противоречит законам психологии и логике УПК РФ, отнесшего следователя к участникам со стороны обвинения, в связи с чем подобный вектор развития уголовнопроцессуального законодательства представляется нежелательным. Следует согласиться с позицией В.А. Лазаревой, согласно которой «процессуальная форма познавательной деятельности дознавателя, следователя не может претендовать на роль инструмента, обеспечивающего достоверность, правильность, объективность содержания доказательственной информации, поскольку самому субъекту познания на законодательном уровне отказано в привилегии считаться более объективным и незаинтересованным, чем вторая сторона» [8. С. 24]. В-третьих, при разработке действующего УПК РФ была предпринята попытка существенно расширить возможности защитника собирать необходимые ему доказательства до суда, при расследовании. Несмотря на то что ч. 1 ст. 86 УПК РФ закрепляет положение, согласно которому собирание доказательств осуществляется в ходе уголовного судопроизводства дознавателем, следователем, прокурором и судом путем производства следственных и иных процессуальных действий, предусмотренных уголовно-процессуальным законом, в соответствии с ч. 3 ст. 86 УПК РФ, защитник наделен правом собирать доказательства путем опроса граждан, получения предметов и документов и иных сведений, истребования от организаций и лиц справок, характеристик и иных документов. Казалось бы, действующий УПК РФ дает все возможности обеим сторонам - обвинителю и защитнику - еще в досудебном производстве получить необходимый им набор доказательств и тем самым хорошо подготовиться к будущему судебному состязанию. Однако более глубокое изучение убеждает, что это не так. Как представляется, главным недостатком закрепленной УПК РФ конструкции видится в следующем: в отличие от подробной регламентации деятельности следователя, закрепленные в УПК РФ довольно широкие полномочия защитника по собиранию доказательств, как уже было показано, никак не подкреплены механизмом их реализации. Без отсутствия же такового они остаются благими намерениями, не имеющими возможности претвориться в жизнь. В частности, до сих пор не проработана основа механизма: с помощью каких правомочий защитник должен собирать доказательства, если встретит в этом противодействие либо даже простое нежелание обладателей доказательственной информации сотрудничать с защитником? Известно, что собирание доказательств часто сопровождается применением принуждения, которое и использует следователь, наделенный властными полномочиями. УПК РФ никакими властными полномочиями защитника не наделяет. В то же время, в отличие от следователя, защитник - не должностное лицо, не государственный служащий, и наделять его властными полномочиями недопустимо. Таким образом, довольно широкие полномочия защитника по самостоятельному собиранию доказательств могут быть реализованы при одном условии: если есть добровольное согласие обладающего доказательственной информацией лица (либо организации) сотрудничать с защитником. Если же согласия нет, то защитник оказывается бессилен самостоятельно собрать необходимый ему набор доказательств. УПК РФ предлагает защитнику прибегнуть к проверенному способу: заявить ходатайство следователю. Конституционный Суд РФ в своих решениях неоднократно указывал, что «закрепленное в статье 86 УПК Российской Федерации право подозреваемого, обвиняемого, их защитников собирать и представлять доказательства является одним из важных проявлений права данных участников процесса на защиту от уголовного преследования и формой реализации конституционного принципа состязательности и равноправия сторон (ч. 3 чт. 123 Конституции Российской Федерации). Этому праву соответствует обязанность дознавателя, следователя и прокурора в ходе предварительного расследования рассмотреть каждое заявленное в связи с исследованием доказательств ходатайство, причем в силу части второй статьи 159 УПК Российской Федерации подозреваемому или обвиняемому, его защитнику не может быть отказано в допросе свидетелей, производстве судебной экспертизы и других следственных действий, если обстоятельства, об установлении которых они ходатайствуют, имеют значение для конкретного уголовного дела» [9]. Таким образом, исключается возможность произвольного отказа в удовлетворении такого ходатайства, но не возможность отказа в принципе, при этом следователь сам оценивает значение представленных защитником материалов для уголовного дела. В.В. Ясельская в этой связи верно отмечает, что «представляется нелогичным, когда ходатайства, направленные на получение оправдательных доказательств, защитник адресует своему процессуальному противнику» [10. С. 82]. Такой механизм вновь возвращает нас к положению, от которого законодатель стремился в своей изначальной редакции уйти: защитник если не все, то большую часть доказательств собирает с помощью и под контролем следователя - органа уголовного преследования, с неизбежным появлением тех отрицательных последствий, о которых говорилось ранее. Неодинаково решается вопрос о праве защитника собирать доказательства и в уголовно-процессуальном законодательстве зарубежных государств. Так, в УПК Республики Казахстан закреплено право защитника получать сведения, необходимые для осуществления защиты, представления интересов потерпевшего, посредством истребования справок, характеристик, других документов, инициирования на договорной основе производства экспертизы или направления запроса о производстве экспертизы, привлечения на договорной основе специалиста, опроса лиц с их согласия (ч. 3 ст. 122 УПК Республики Казахстан). При этом защитник вправе представлять сведения как в устной, так и письменной форме либо в форме электронного документа, а также предметы и документы для приобщения их в качестве доказательств к уголовному делу [11]. Иначе решен вопрос в УПК Республики Беларусь. В соответствии с ч. 3 ст. 103 Кодекса, «защитник вправе представлять доказательства и собирать сведения, необходимые для защиты прав подозреваемого, обвиняемого и оказания им юридической помощи, путем опроса физических лиц, а также запрашивать справки, характеристики и иные документы или их копии; запрашивать с согласия подозреваемого, обвиняемого мнения специалистов для разъяснения возникающих в связи с осуществлением защиты вопросов, требующих специальных знаний», часть 4 той же статьи относит защитника к числу участников, наделенных правом представления доказательств [12]. Аналогичным правом наделен защитник и по УПК Украины [13]. С учетом анализа положений уголовно-процессуального законодательства зарубежных стран и противоречий в действующем отечественном уголовнопроцессуальном законодательстве, думается, что выход должен быть иным, нежели с применением существующего порядка, предусмотренного УПК РФ. Как представляется, он может быть выражен и в следующих выводах. Во-первых, следователь в своей деятельности должен быть освобожден от «двуликости», даже частичной. Как субъект уголовного преследования, отнесенный законодателем к участникам со стороны обвинения, следователь должен собирать только обвинительные доказательства и осуществлять другие действия обвинительного характера. Во-вторых, реализация защитником правомочий по защите прав и интересов обвиняемого (подозреваемого) и оказанию им юридической помощи при производстве по делу не должна зависеть от лица, в производстве которого находится уголовное дело. В литературе в качестве положительных изменений в порядке уголовного судопроизводства отмечается исключение процедуры допуска защитника к участию в уголовном деле (ч. 2 и 4 ст. 49 УПК РФ) [14]. Между тем практика показывает, что фактически такое решение лица, в производстве которого находится дело, необходимо в отдельных случаях для посещения доверителя в местах содержания задержанных и находящихся в изоляции, для участия в следственных действиях. В-третьих, защитник как субъект функции защиты должен самостоятельно, используя предоставляемые ему права, собирать необходимые ему доказательства для последующего их использования в состязании с обвинителем в суде. В-четвертых, если защитник не может получать доказательства в силу отсутствия у него властных полномочий, ему должно быть предоставлено право обратиться за содействием к следователю. При этом следователь, в отличие от существующего положения, не должен оценивать целесообразность получения требуемого защитником доказательства, поскольку сон орган уголовного преследования. Следователь в такой ситуации, как обладатель властных полномочий, должен выступить как властный исполнитель безвластного, но равного ему по закону субъекта, иначе говоря, предоставить защитнику на время свои властные полномочия (естественно, с соблюдением всех предусмотренных законом для производства того или иного действия правил). В-пятых, поскольку суд (судья) предварительно, еще до судебного заседания оценивает всю совокупность доказательств (в стадии подготовки к судебному заседанию либо в порядке предварительного слушания), то все полученные самим защитником доказательства, так же как и полученные с помощью следователя, должны приобщаться к делу на стадии расследования. Причем следователь должен их приобщить к делу без всякой оценки (опять-таки потому, что он -орган уголовного преследования). Оценку приобщенных к делу доказательств будет давать суд.
Бисимбаев Д. Сущность принципа состязательности в досудебной и судебной стадии уголовного процесса // Правопорядок: история, теория, практика. 2018. №1 (16). С. 43-46.
Андреева О.И. Право на защиту должно быть реальным, практически осуществимым и неиллюзорным // Законы России: опыт, анализ, практика. 2016. № 4. С. 10-14.
Буфетова М.Ш., Демешко И.В. Участие защитника при производстве судебной экспертизы: проблемы доказательственного аспекта // Адвокатская практика. 2019. № 1. С. 3-6.
Ясельская В.В. Проблемы реализации принципа состязательности на стадии предварительного расследования // Правовые проблемы укрепления российской государственности. 2016. С. 122-124.
Отчерцова О.В. Введение института следственных судей: станет ли предварительное следствие более состязательным? // Российская юстиция. 2015. № 8. С. 63-66.
Кириллова Н.П. Состязательность судебного разбирательства и установление истины по уголовному делу // Известия вузов. Правоведение. 2008. № 1. С. 93-100.
Проект Федерального закона № 440058-6 «О внесении изменений в Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации в связи с введением института установления объективной истины по уголовному делу» (ред., внесенная в ГД ФС РФ, текст по состоянию на 29.01.2014). URL: //http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=PRJ&n=114660#X9zYznS0LVrLCld3 (дата обращения: 02.11.2021).
Лазарева В.А. Концепция формирования доказательств в свете принципа состязательности и перспективы ее развития // Вектор науки Тольяттинского государственного университета. Серия: Юридические науки. 2019. № 1(36). С. 22-27.
По жалобе гражданина Пятничука Петра Ефимовича на нарушение его конституционных прав положениями статей 46, 86 и Уголовно-процессуального кодекса РФ : определение Конституционного суда РФ от 21 дек. 2004 г. № 467-О // СПС Гарант (дата обращения: 12.10.2021).
Ясельская В.В. Реализация принципа состязательности на стадии предварительного расследования // Вестник Томского государственного университета. Право. 2016. № 1(19). С. 82-87.
Уголовно-процессуальный кодекс Республики Казахстан от 4 июля 2014 года № 231-V. URL: https://online.zakon.kz/document/?doc_id=31575852 (дата обращения: 01.11.2021).
Уголовно-процессуальный кодекс Республики Беларусь от 16 июля 1999 года № 295-З. URL: https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30414958 (дата обращения: 01.11.2021).
Уголовный процессуальный кодекс Украины от 13 апреля 2012 года № 4651-VI. URL: https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31197178&pos=1175;-31#pos=1175;-31 (дата обращения: 01.11.2021).
Гриненко А.В. Паритет прав сторон в досудебном уголовном процессе // Адвокатская практика. 2017. № 4. С. 35-40.
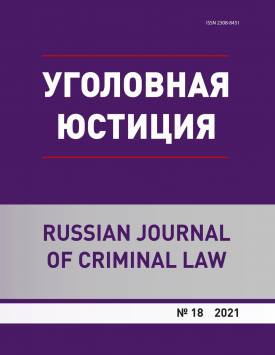

 Вы можете добавить статью
Вы можете добавить статью