Совокупность идеологических, политических, технических причин подводит к осознанию необходимости создания концепции уголовно-процессуальных договорных производств. Эта концепция призвана объяснить природу тех новых процедур, появившихся в последние десятилетия, которые в основе своей имеют согласие обвиняемого с обвинением и предполагают совершение обеими сторонами посткриминальных действий в пути к разрешению уголовного дела на взаимовыгодных условиях. Поскольку институт договорных уголовнопроцессуальных производств в принципе противоречит классической доктрине, постольку необходим сдвиг на доктринальном, теоретико-методологическом уровне, что и призвана сделать предлагаемая автором концепция.
The concept of criminal procedure contract.pdf Наступление новой эпохи, провозглашенной руководством нашего государства, требует сильных идей во всех сферах юридической деятельности, в том числе и в уголовно-процессуальной сфере [1]. Между тем российская доктрина уголовно-процессуального права демонстрирует определенную косность. В теоретикометодологической основе она имеет ряд постулатов, унаследованных из советской эпохи, препятствующих развитию новых идей, отражающих тенденции глобализации, конвергенции, универсализации, происходящих в правовом пространстве по ряду причин, включая воздействие цифровых технологий. Наиболее остро это проявляется в вопросе о расширении сферы договорных уголовно-процессуальных и уголовно-правовых отношений. Нельзя сказать, что данная тема осталась без внимания ученых. Ей посвящено достаточно много работ. Общим местом в них является признание исключительности договорного способа и доминирование императивно-правового метода регулирования в сфере противодействия преступности [2. С. 13-15; 3. С. 6-11, 36-42; 4. С. 8-9, 12, 31; 5. С. 112-113]. Тем не менее отсутствует существенный сдвиг в понимании приемлемости сделки сторон в отношениях, развивающихся по линии: преступление -обвинение - приговор - уголовная ответственность. Из работ некоторых ученых [6. С. 19-207; 7. С. 236245] можно заключить, что к числу главных препятствий для укоренения в теории и в позитивном праве договорного способа разрешения уголовно-процессуальных и уголовно-правовых вопросов, как полноценного элемента механизма правового регулирования, относятся следующие постулаты ортодоксального учения: © Колесник В .В., 2022 - уголовный процесс порождается событием преступления как фактом объективной реальности, который требует наступления правовых последствий; - предметом уголовного процесса (уголовноправового спора) является данный факт объективной реальности, «процессуальный предмет» жестко детерминирован реальностью, а потому объективен/ма-териален и не может быть изменен участниками судопроизводства; - уголовно-правовая реальность в виде преступления и наказания также обусловлена фактом совершения преступления и потом независима от процесса и воли его участников; - уголовный процесс является оформлением этой объективной уголовно-правовой реальности через познание объективной истины; - объективная истина выступает процессуальным переходом между объективной и уголовно-правовой «реальностями», которые, кстати, многими теоретиками отождествляются как «материальная». Примером может служить понятие «механизм уголовно-правового регулирования» в трактовке ведущих специалистов уголовно-правовой науки [8. С. 10-12, 45-56]. С этими и другими идеями связан идеал неотвратимости уголовной ответственности всех преступников [9. С. 72], который стимулирует и оправдывает активность государства в единстве его «судебно-следственных», «правоохранительных органов», осуществляющих противодействие преступности. Такое ортодоксально-материалистическое мировоззрение, при котором все процессуальное и уголовноправовое однозначно детерминировано объективной реальностью, не оставляет места для проявления воли субъектов уголовно-процессуальных отношений по сотворению правовой реальности договорным путем. Отсюда вытекают последствия для главной детали уголовно-процессуального механизма: обвинения в его процессуальной (предметной, фактической) и уголовно-правовой (материальной) составляющих. Принципиальный теоретико-мировоззренческий вопрос состоит в их объективности или материальности (что, как уже указывалось, часто смешивается) и мере в них искусственного, создаваемого участниками уголовного процесса, а соответственно, возможности влияния на них договорным путем. Пока такая возможность на доктринальном уровне в принципе исключена. Господствующее учение об обвинении исключает возможность какого-либо договора между сторонами. Принято считать, что обвинение является утверждением, соответствующим действительности, истинность которого в окончательном виде устанавливается судом; предмет обвинения отражает реальное преступление и не может быть изменен по воле обвинителя, по соглашению сторон; в ходе доказывания обвинения устанавливается объективная истина; доказывание истины по предмету выдвинутого обвинения, но и за его пределами, является солидарной обязанностью как прокурора, следователя, так и суда [10. С. 76-86; 11. С. 329-335; 12. С. 98-105]. В силу принципов публичности, законности, объективной истины изменение обвинения находится в прямой причинной связи с доказанностью фактических обстоятельств, составляющих его основание. Изменение обвинения происходит только в силу материальной причины, а не в результате договора сторон. Примыкает к вышеуказанным элементам материалистического учения об обвинении и его основаниях классическое положение о свободе оценки доказательств правоприменителем (в первую очередь, судом). Этот принцип доказательственного права, закрепленный в ст. 17 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации (УПК РФ), порождает запрет, закрепленный в ч. 2 ст. 77 УПК РФ: обвинять и привлекать к уголовной ответственности на основании одних только признательных показаниях обвиняемого. В свою очередь, данный запрет при его догматическом истолковании означает запрет разрешать уголовное дело в результате признания обвинения обвиняемым, т.е. не позволяет трактовать эту ситуацию как проявление свободы распоряжения одной из сторон (защиты) своим материально-диспозитивным (исковым) правом на признание иска (обвинения). Согласно классической доктрине, такая «вольность» исключена - государство в лице публичного обвинителя обязано активно доказать обоснованность обвинения, и в лице суда, как минимум «субсидиарно», тоже проверять, оценивать доказанность обвинения - независимо от позиции обвиняемого (защиты). Подобная активность государства объясняется его заботой о правах личности. Такая идеология делает в принципе невозможным торг сторон по предмету обвинения - преступлению, по исходу уголовного процесса. Со временем фундамент этой вроде незыблемой доктрины, освещенной светом объективности и нравственности, стал подтачиваться различными течениями. Во-первых, это гуманистический тренд, тренд на декриминализацию, смягчение уголовной политики. Он стал модным в период слома советской правовой доктрины с ее аксиомой бескомпромиссной борьбы с преступностью, строительства правового государства и расцвета либеральных воззрений. В постсоветской криминолого-криминалистической науке возобладала концепция контроля над преступностью, а не полного искоренения ее. Концепция компромисса с преступностью [13. С. 79-86; 14. С. 7-48] создает благоприятную предпосылку и для смены концептуальных основ других наук антикриминального цикла. Вместе с гуманизацией уголовной политики, возможностью компромисса, если угодно, соглашательства в отношениях с преступностью, на уголовнополитическом уровне признана допустимость «соглашения» с обвиняемым в процессе [15. С. 242-260]. Однако пределы компромисса - соглашения оговаривались достаточно узкие, а именно: применение альтернативных мер уголовной ответственности. Под сомнение учение о механизме уголовно-процессуальноправого регулирования не ставилось и не ставится. Между тем гуманизация привела к представлениям о большей простительности предпринимательских преступлений по сравнению с общеуголовными. Именно это идеологема лежит в основании комплексного института, включающего уголовно-правовые и уголовнопроцессуальные нормы, образующие особый порядок привлечения к уголовной ответственности субъектов предпринимательских преступлений. В современной уголовной политологии, антикриминальных науках идея возможности и даже желательности компромисса в сфере противодействия преступности (особенно экономической) [16. С. 8-9, 11; 17. С. 20-21; 18. С. 316319, 320-325; 19. С. 198; 20. С. 8] стала вполне респектабельной, получившей официальное одобрение. Как минимум в этой сфере создалась благоприятная среда для концепции договорных отношений между обвинителем и обвиняемым. Разрушению монолита доктринальных воззрений на то, как происходит привлечение к уголовной ответственности преступника, способствуют и другие актуальные темы, в частности, и тема о введении в отечественное уголовное право категории уголовного проступка, впрочем, не завершившаяся каким-то конкретным результатом. Все это свидетельствует о том, что классическая доктрина об уголовной ответственности и механизме ее реализации не может быть единственным средством объяснения того, как возможно организовать противодействие преступности в свете формы обвинения, уголовного преследования. Именно в учении об обвинении мировоззренческого сдвига не произошло. Символично и то, что порядок выдвижения обвинения при ведении предварительного следствия остается неизменным с советских времен. Подобный консерватизм неслучаен и является верным показателем неизменности устройства уголовно-процессуально-правового механизма осуществления уголовно-правового воздействия на преступность. На наш взгляд, концепция избирательного, целесообразного подхода к применению уголовной репрессии не может не иметь выхода на учение об обвинении -формы его выдвижения и изменения, в том числе в результате сделки сторон. В недрах отечественной уголовно-процессуальной науки есть наработки для концепции пересмотра института обвинения. Еще в начале ХХ в. неизбежность избирательности уголовной репрессии была увязана с допущением субсидиарного обвинения как конкурента публичному - прокурорскому обвинению и расширением предмета частного обвинения. Это тематика развивалась в общем контексте искового учения об обвинении [21. С. 104-142; 22. С. 110-122]. Впрочем, далее научных рассуждений тема о демонополизации полномочий публичной власти на обвинение и допущение частного/диспозитивного элемента в механизм выдвижения обвинения развития не получила. И не только по причине смены государственно-правового строя. Монополизация обвинения государством в России, как и в других государствах с романо-германской правовой системой, делает менее гибкой доктрину по вопросу о реагировании уголовно-процессуально-правовой системы на преступление и форму, меру этого реагирования -в виде дифференциации форм обвинения, расширения круга его субъектов, меры свободы распоряжения публичным и частно-публичным обвинением (уголовным иском) [23. С. 46-50; 24. С. 105-115; 25. С. 207-210]. Обвинение является краеугольным камнем уголовно-процессуально-правовой системы противодействия преступности. Мы разделяем этот постулат классической уголовно-процессуальной доктрины. Отметим радикальную перемену ситуации. Если раньше речь шла о нехватке ресурсов государственного обвинения для сдерживания преступности, то теперь, наоборот, прогнозируется избыточность ресурсов для возможного выдвижения обвинения публичной обвинительной властью или частным обвинителем против граждан. Имеется в виду фактор цифровизации, который, с точки зрения некоторых авторов, окажет глобальное влияние на государственно-правовой механизм противодействия преступности [26]. Следует согласиться с позицией, согласно которой классическая уголовно-процессуально-правовая доктрина с ее интенцией к абсолютизации связи преступления и наказания представляет угрозу не только личности, но и обществу, в условиях глобализации контроля за людьми, многократного увеличения технического потенциала по фиксации преступного поведения и получения оснований для выдвижения обвинения. Техническая возможность обнаружения основания для выдвижения обвинения против каждого человека должна найти юридический предел, ибо в этом есть уже политико-правовая целесообразность для правового государства, гарантирующего свободу и права человека. Таковы предпосылки для создания концепции договорных уголовно-процессуальных производств привлечения к уголовной ответственности . Однако главная причина создания такой концепции кроется в накопившихся изменениях и дополнениях законодательства, количество которых позволяет констатировать некое качественно новое образование, которое не укладывается в догму и требует принципиально нового -концептуального объяснения. К числу этих нетрадиционных для нашего права и доктрины производств можно отнести: особый порядок судебного разбирательства (Глава 40 УПК РФ), досудебное соглашение о сотрудничестве (Глава 40.1 УПК РФ), сокращенное дознание (Глава 32.1 УПК РФ) и др. В основе любого из них лежит согласие обвиняемого с обвинением, т.е. в них присутствует элемент договорного начала. Все они вместе и каждое в отдельности противоречат ст. 77 ч. 2 ст. 17 УПК РФ, идут против канона теории доказательств, который всегда почитался гарантией (публично-правовой, процессуальной) невозврата в инквизиционное, репрессивное прошлое. Однако теперь он конкурирует с другим концептом - свободой человека самостоятельно распоряжаться своей судьбой и концепцией правовой - исковой самозащиты субъектом своих прав и свобод. Возникает идеологический выбор между публично-правовой, государственной гарантией защиты прав личности или предоставления ей права защищаться самостоятельно. Этот выбор изначально должен быть сделан на доктринальном уровне. В рамках отдельных научных разработок данный вопрос многократно поднимался, но опять же получал ограниченное узкой темой разрешение: вроде, например, создания особой разновидности частно-публич-ного обвинения и особого - договорно-штрафного метода разрешения частно-публичного уголовно-право-вого спора (ст. 28.1 УПК РФ) как воплощение партнерства государства и бизнеса в сфере противодействия экономической преступности [27. С. 233-238; 28. С. 99-103; 29. С. 7-8, 12]. Впрочем, и эта концепция, и другие доморощенные учения, как, скажем, учение о дифференциации процессуальной формы, не дают удовлетворительного ответа на вопрос о том, можно ли обвинителю, публичному обвинителю по должности - прокурору, заключать от имени государства сделку с обвиняемым по предмету и основаниям публичного обвинения и таким путем определять исход уголовного дела. В теории назрела потребность в осмыслении опыта правового строительства договорных производств и в выработке концепции, позволяющей подвести их все на единую теоретико-методологическую и новую категориальную платформу. Полагаем возможным разработать такой научный проект, в связи с чем изложим его основные элементы в их первоначальной разработке. К объекту предполагаемой концепции уголовнопроцессуальных договорных производств мы относим следующие процедуры: - особый порядок судебного разбирательства (Глава 40 УПК РФ); - досудебное соглашение о сотрудничестве (Глава 40.1 УПК РФ); - сокращенное дознание (Глава 32.1 УПК РФ); - назначение меры уголовно-правового характера при освобождении от уголовной ответственности (ст. 25.1, 446.1-446.5 УПК РФ); - прекращение уголовных дел по нереабилитирующим, так называемым договорным или согласительноштрафным основаниям [30]: ст. 25, 25.1, п. 3 ч. 1 ст. 27, ч. 1 ст. 28, ст. 28.1 УПК РФ. Мера договоренности в отдельных производствах различна, и сам институт обвинения в разной мере может быть охвачен концепцией договора. Однако везде можно проследить выход на данную тематику, хотя эти выходы прямо не регулируются законом. Общие черты, объединяющие все вышеуказанные производства, состоят в следующем: - согласие обвиняемого с обвинением, что допускает возможность торга сторон; - дача признательных показаний обвиняемых, составляющих фактическую основу для правоприменения; - бесспорность уголовного дела - как общая характеристика уровня установления фактических обстоятельств дела - с позиции обеих сторон, но также и суда; - согласие обвиняемого понести уголовную ответственность, как правило, выраженное в форме ходатайства; - отказ стороны защиты оспаривать обвинение и опровергать обвинительные доказательства; пассивность в доказывании; - сотрудничество или во всяком случае непротивление уголовному преследованию со стороны защиты; - смягчение меры уголовной ответственности в виде размера и вида наказания или замены его альтернативной мерой юридической ответственности; - обязательное участие защитника в этой процедуре; - обязательное участие прокурора - как представителя обвинительной власти, отвечающего за общую организацию обвинительной деятельности (в этой связи, кстати, несистемным выглядит ограничение участия прокурора в процедуре, предусмотренной Главой 51.1 УПК РФ. Полагаем, оно должно быть устранено на концептуальном уровне); - наличие гарантий для перехода на общий порядок по инициативе не только стороны защиты, но и органа, ведущего уголовное дело, в том числе суда. Таковы главные проявления общей схемы договора в позитивно-правовых моделях некоторых уголовнопроцессуальных производств, которые мы предполагаем проявить и развить на концептуальном уровне. Целями концепции являются, во-первых, оправдание в рамках научного проекта уголовно-процессуальной сделки между прокурором и обвиняемым (защитой) по предмету обвинения (уголовного иска), включая вопросы уголовно-правовой квалификации, а также оснований обвинения, включая вопросы об отказе от использования обвинительных доказательств, формирования признательных показаний и пр.; во-вторых, подведение общей теоретико-методологической основы (платформы) под договорные уголовно-процессуальные производства; в-третьих, состыковка ее с основной частью - ядром господствующей доктрины о порядке производства по уголовным делам публичного обвинения и привлечения к уголовной ответственности. Достижение этих целей сопряжено с мировоззренческим сдвигом в понимании того, как действует уголовное право, как образуется средство уголовноправового воздействия. Мы предлагаем допустить подключение к уголовному правоприменению частного, договорного моментов. Легализовать то, что на практике всегда имело место. Отдельной концептуальной целью мы ставим разработку системы принципов, благоприятствующих договорному способу применения уголовного закона и разрешения уголовно-правового конфликта. Концептуальное ядро задуманной концепции включает в себя принципы обвинения, целесообразности, диспозитивности, формальной (юридической) истины. В качестве специальных методов, используемых для достижения вышеуказанных целей, мы полагаем, будет исковое учение об обвинении, общетеоретическое учение о договоре, учение о процессе. Концепцией должны быть решены следующие задачи: - обоснование того, что обвинение, прежде всего публичное, может быть предметом соглашения между прокурором и обвиняемым; - лишение уголовно-процессуального договора признаков «кабальности» через закрепление обязательств обвинителя не изменять обвинение к худшему, гарантирование соблюдения условий судебным органом, но также иным участником сделки, например медиатором, посредником; - доктринальное оправдание того, что подбор и истолкование уголовного закона, подлежащего применению, могут быть предметом соглашения; - объяснение того, что основания уголовной ответственности, доказательства могут быть предметом соглашения: через исключение обвинительных доказательств; - аргументирование того, что главным субъектом публичного обвинения и, соответственно, стороной в договоре с обвиняемым должен быть только прокурор; - разработка процессуальных форм распоряжения субъектами публичного обвинения своими материальными и процессуальными правами на обвинение; - предложение процессуальных форм взаимодействия между субъектами сообвинения при выработке солидарной позиции при заключении соглашения со стороной защиты; - обоснование в качестве предпосылки к заключению соглашения и (или) пункта договора, включающее взаимные права и обязанности сторон, устранение самим обвиняемым или иными лицами (в его интересах) последствий преступления; - трактовка публичного обвинителя и частного (со)обвинителя как субъектов диспозитивности; - объяснение решения прокурора (обвинителя) об изменении обвинения в лучшую сторону как проявление материальной диспозитивности; - развитие запрета на поворот к худшему применительно в договорной уголовно-процессуальной форме; - предложение об использовании прокурором полномочия на изменение обвинения в худшую сторону как средство побуждения стороны защиты к заключению соглашения о сотрудничестве или завершению уголовно-правового спора; - формулирование запрета: торговаться сторонам можно только в пределах доказанного и потому предполагаемого как действительно совершенного обвиняемым преступления. Кроме того, в рамках концепции предполагается разработать проект унифицированной формы досудебного разрешения дела на договорной основе - по приказу прокурора, но также введение института следственного судьи - как субъекта разрешения уголовноправового спора договорным путем, требующего применение штрафной санкции. Очевидно, при разработке концепции не избежать критики или попыток найти новое сосуществование института уголовно-процессуально-правового договора с принципами и концептами следственной процессуальной идеологии: объективной истины, следственной вариации публичности и пр. Таков общий замысел, который мы собираемся реализовать в рамках концепции о договорных уголовнопроцессуальных производствах. Полагаем, что даже только попытка его реализации может быть зачтена как посильный вклад автора в развитие современной отечественной уголовно-процессуальной доктрины.
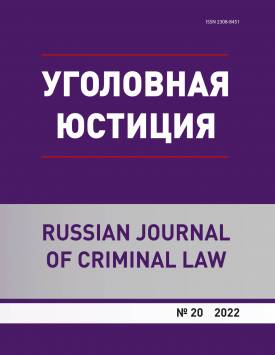

 Вы можете добавить статью
Вы можете добавить статью