Отсутствие возражений как условие отказа в возбуждении уголовного дела в связи с истечением сроков давности
Исследуется вопрос о том, нужно ли устанавливать лицо, совершившее преступление, по которому истек срок давности привлечения к уголовной ответственности, чтобы убедиться в отсутствии у него возражений против возбуждения уголовного дела. Авторы дают на этот вопрос отрицательный ответ и аргументируют свою позицию.
No objections as a condition for refusing to initiate criminal proceedings due to the expiration of the statute of limit.pdf Общим условием для прекращения уголовного дела (уголовного преследования) по закрепленным в уголовно-процессуальном кодексе Российской Федерации (УПК РФ) основаниям, исключающим право на реабилитацию, является отсутствие возражений подозреваемого (обвиняемого) против такого решения. Одним из таких оснований является истечение сроков давности уголовного преследования. Вместе с тем по данному основанию можно не только прекратить уголовное дело, но и отказать в его возбуждении, при этом процессуальный закон не определяет условия такого отказа. В этой связи в теории и на практике нерешенными остаются вопросы о том, можно ли отказать в возбуждении уголовного дела по данному основанию, если лицо, совершившее преступление, не установлено, а также если лицо, в отношении которого осуществляется доследственная проверка, не дает согласие на отказ от уголовного преследования в отношении него. Остановимся на первом вопросе. Начнем с того, что на практике отказ в возбуждении уголовного дела в связи с истечением сроков давности не такое уж и редкое явление. В 2021 г. по п. 3 ч. 1 ст. 24 УПК РФ было вынесено 6 925 постановлений об отказе в возбуждении уголовного дела в отношении установленных лиц и 3 152 в отношении неустановленных лиц [1]. Хотя ведомственные акты ориентируют на другое. Например, п. 1.24 приказа Следственного комитета РФ [2] предписывает прекращать уголовные дела о преступлениях, сроки давности привлечения к ответственности за которые истекли, только если установлены лица, их совершившие, и только после получения их согласия на это. В науке высказано мнение, что в случае, если лицо, совершившее преступление, неизвестно, а срок, истекший с момента его совершения, превысил установленный Уголовным кодексом Российской Федерации (УК РФ), уголовное дело требуется возбудить именно для того, чтобы выявить это лицо, поскольку, не убедившись в отсутствии у него возражений, применить срок давности нельзя. В обоснование своей позиции данные авторы приводят следующие аргументы: - без субъекта невозможно установить конкретный состав преступления, а следовательно, понять, истекли ли сроки давности за него [3. С. 115]; - нормы, регулирующие порядок отказа в возбуждении уголовного дела, являются унифицированными как для реабилитирующих, так и для нереабилитирующих оснований [4. С. 53]; - потерпевший лишается возможности обратиться за компенсацией вреда, причиненного преступлением в порядке гражданского судопроизводства, поскольку лицо, к которому оно может предъявить исковые требования, неизвестно. В этой связи высказывается мнение, что отказ в возбуждении уголовного дела, когда лицо не установлено, возможно только при согласии пострадавшего. Кроме того, даже в случае последующего освобождения от уголовной ответственности, нужно уголовное дело возбудить и расследовать, чтобы показать лицу, что совершенное преступление не осталось без реакции государства [5. С. 220]. С данными аргументами можно поспорить. Статья 24 УПК РФ прямо запрещает возбуждать уголовное дело, если истекли сроки давности уголовного преследования. В этом случае осуществление уголовного преследования в целях поиска лица, причастного к совершению преступления, и установления его обстоятельств становится не только не нужным, но и незаконным. Напомним, что в соответствии с ч. 1 ст. 148 УПК РФ отказ в возбуждении уголовного дела за отсутствием состава преступления возможен только в отношении конкретного лица. Очевидно, если бы законодатель придавал такое же значение установлению лица при отказе в возбуждении уголовного дела за истечением сроков давности, он бы об этом указал. Далее соблюдать условие прекращения уголовного дела, предусмотренное ч. 2 ст. 27 УПК РФ, законодатель требует лишь в отношении подозреваемых и обвиняемых, поскольку последние в силу процессуального статуса нуждаются в повышенных гарантиях защиты их прав [6. С. 18]. Именно в отношении указанных участников процесса истечение срока давности является нереабилитирующим основанием, а потому им в соответствии с принципами обеспечения права на защиту и презумпцией невиновности должна быть сохранена возможность настаивать на продолжении выяснения обстоятельств преступления с целью их реабилитации. В тех случаях, когда принимается решение об отказе в возбуждении уголовного дела, а совершившее деяние лицо не установлено, такое процессуальное решение никак не отразится на его правах. Для неустановленного лица истечение срока давности, строго говоря, не является нереабилитирующим основанием, поскольку институт реабилитации применяется к конкретному субъекту. Кроме того, возбуждение уголовного дела, если срок давности истек и лицо не установлено, неэффективно с точки зрения назначения уголовного судопроизводства. В науке критериями эффективности обычно называют дешевизну, простоту, быстроту процедуры рассмотрения уголовного дела [7. С. 50-51]. С учетом этих критериев нерациональным будет возбуждать уголовное дело лишь для того, чтобы получить у установленного в ходе предварительного расследования лица получить одобрение на прекращение уголовного преследования в отношении него. Смеем предположить, что в подобных случаях следователь/дознава-тель, возбудив уголовное дело и преступив к расследованию, не устанавливает все признаки состава преступления, а ограничивается дачей письменных поручений органам дознания на проведение оперативнорозыскных действий. Относительно предложения о необходимости возбуждать уголовное дело о преступлении, по которому истек срок давности, а лицо, причастное к его совершению неизвестно, если пострадавший возражает против этого [8. С. 123], полагаем, что по делам публичного обвинения ставить вопрос о возбуждении уголовного дела в зависимость от волеизъявления пострадавшего неправильно. Потерпевшему должна быть обеспечена возможность высказать свои соображения относительно отказа в возбуждении уголовного дела, а при несогласии с таким решением - право обжаловать в ведомственном и судебном порядке. Лицо, освобожденное от уголовной ответственности, не освобождается от обязанности возместить причиненный преступлением вред. При этом в гражданском судопроизводстве постановление об отказе в возбуждении уголовного дела имеет преюдициальное значение. С учетом изложенного, полагаем, что если сроки давности истекли, должно быть отказано в возбуждении уголовного дела, даже если лицо, совершившее преступление остается неизвестным. Перейдем к ответу на второй вопрос. В судебной практике не сложилось единого подхода, нужно ли получать согласие установле нного лица с отказом в возбуждении уголовного дела. Приведем несколько примеров. Приволжский военный окружной суд [9] в апелляционном порядке рассмотрел жалобу защитника обвиняемого В.А.В. на постановление старшего следователя-криминалиста военного следственного отдела по Оренбургскому гарнизону о возбуждении уголовного дела, которое вынесено за пределами срока давности, а следовательно, по мнению заявителя, является незаконным. Рассмотрев жалобу, суд пришел к выводу, что возбуждение уголовного дела является законным, поскольку В.А.В. не согласился с отказом в возбуждении уголовного дела по п. 3 ч. 1 ст. 24 УПК РФ. При этом суд опирался на хорошо известную в науке и на практике позицию Конституционного Суда РФ, высказанную в постановлении от 27 июня 2000 г. № 11-П по делу о проверке конституционности положений ч. 1 ст. 47 и ч. 2 ст. 51 УПК РСФСР в связи с жалобой гражданина В.И. Маслова, в соответствии с которой право на судебную защиту лица не зависит от того, обладает ли оно формально каким-либо процессуальным статусом, а определяется его фактическим положением как лица, нуждающегося в защите. Следовательно, В.А.В., не являясь в процессуальном смысле ни подозреваемым, ни обвиняемым, в фактическом как лицо, в отношении которого осуществлялась проверка сообщения о преступлении, нуждался в защите его прав. Поэтому его согласие с отказом на возбуждение в отношении него уголовного преследования в связи с истечением срока давности является обязательным. Другая позиция по данному вопросу была высказана Самарским областным судом по жалобе А.В.В. В частности, приговором мирового судьи А.В.В. осужден по ч. 3 ст. 327 УК РФ и освобожден от наказания в связи с истечением сроков давности [10]. Самарский районный суд г. Самары, рассмотрев апелляционную жалобу осужденного, оставил приговор без изменений. В своем апелляционном постановлении [11] суд указал, что А.В.В. в ходе доследственной проверки, не сообщил о том, что согласен на отказ в возбуждении уголовного дела. Постановлением Президиума Самарского областного суда [12] по кассационным жалобам А.В.В. и его защитника оба судебных решения были отменены. В кассационном постановлении указано, что из материалов уголовного дела усматривается, что оно возбуждено за пределами сроков давности уголовного преследования. Поэтому собранные в ходе досудебного производства доказательства о наличии в действиях А.В.В. состава преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 327 УК РФ, не имеют юридической силы. Таким образом, Президиум Самарского областного суда, исходя из п. 3 ч. 1 ст. 24 УПК РФ, сделал вывод, что уголовное дело не может быть возбуждено, если сроки давности уголовного преследования вышли. Если уголовное дело было все-таки возбуждено, его в соответствии с ч. 2 ст. 27 УПК РФ следует прекратить на любой стадии уголовного судопроизводства, если с этим согласен подсудимый. Однако мировой судья, в производстве которого находило уголовное дело в отношении А.В.В., в стадии его подготовки к судебному заседанию, не проверил наличие оснований для прекращения дела, а в судебном разбирательстве не выяснил мнение подсудимого о его прекращении в связи с истечением сроков давности уголовного преследования. В результате Самарский областной суд прекратил уголовное дело в отношении А.В.В. за отсутствием состава преступления и признал за ним право на реабилитацию. В третьем примере решение, принятое мировым судьей, наглядно иллюстрируют наличие у судей проблем в определении оснований прекращения уголовного дела. К.В.М. обратился в суд г. Сызрани с административным иском о признании незаконными действия ИЦ ГУ МВД по Самарской области на отказ удаления из банка данных сведений об основаниях прекращения уголовного дела в отношении него. Суд г. Сызрани в удовлетворении требований административного истца отказал [13], мотивируя это тем, что постановлением мирового судьи уголовное дело в отношении К.В.М. было прекращено, поскольку государственный обвинитель от обвинения отказался в связи с тем, срок давности уголовного преследования К.В.М., уже истек. Однако из постановления мирового судьи [14] следует совсем другой вывод: государственный обвинитель от обвинения оказался, не потому что истек срок давности, а потому что дознаватель возбудил уголовное дело за пределами этого срока, а значит, вынесенное им постановление является незаконным. Все полученные дознавателем доказательства, таким образом, являются недопустимыми. Мировой судья в резолютивной части указал, что уголовное дело прекращается в связи с отказом государственного обвинителя от обвинения и признал за К.В.М. право на реабилитацию. Однако, как в таких случаях требует закон, ссылку на п. 2 ч. 1 ст. 24 УПК РФ судья не сделал, вследствие чего в ГУ МВД по Самарской области были направлены неверные сведения, что уголовное дело прекращено по п. 3 ч. 1 ст. 24 УПК РФ. Интересным представляется и мнение, которое по данным вопросам высказывал в своих решениях Конституционный Суд РФ и которое не отличается единообразием. Так, в определении от 2 ноября 2006 г. № 488-О об отказе в принятии к рассмотрению запроса Ленинградского областного суда о проверке конституционности ст. 78 УК РФ Конституционный Суд РФ пояснил, что согласие подозреваемого/обвиняемого на прекращение уголовного дела (уголовного преследования) по нереабилитирующему основанию необходимо, так как такое основание не влечет признание лица ни невиновным в совершении преступлении, а потому ему должна обеспечиваться возможность настаивать на производстве по делу, добиваться судебной защиты и реабилитации. В определении от 5 июня 2014 г. № 1309-О об отказе в принятии к рассмотрению жалобы гражданки Майоровой С.В. на нарушение ее конституционных прав п. 3 ч. 1 ст. 24 и ч. 4 ст. 148 УПК РФ Конституционный Суд РФ указал на незыблемость права лица, в отношении которого решается вопрос об отказе в возбуждении уголовного дела или его прекращении по нереабилитирующему основанию, возражать против этого, добиваться подтверждения своей невиновности, исправления ошибок, допущенных при осуществлении уголовного преследования на всех стадиях уголовного процесса, в том числе самых ранних. Конституционный Суд РФ согласился с доводами жалобы Майоровой С.В., однако указал, что ее нарушенное право было восстановлено, поскольку постановление об отказе в возбуждении уголовного дела отменено прокурором и в отношении нее вынесено новое постановление об отказе в возбуждении уголовного дела в связи с отсутствием состава преступления. В 2022 г. Новкунский А.В. оспаривал конституционность п. 3 ч. 1 ст. 24 и ч. 2 ст. 27 УПК РФ, позволяющих следователю по одному и тому же основанию прекращать одно и то же дело несколько раз, используя единожды полученное согласие подозреваемо-го/обвиняемого на на это. В постановлении от 19 мая 2022 г. № 20-П по делу о проверке конституционности п. 3 ч. 1 ст. 24 и ч. 2 ст. 27 УПК РФ в связи с жалобой гражданина Новкунского А.В. Конституционный Суд РФ подчеркнул, что необходимо спрашивать согласие лица каждый раз, когда было отменено постановление о прекращении уголовного дела и вновь встает вопрос о прекращении уголовного дела по тому же основанию. В противном случае это противоречило бы принципу законности, вытекающему из принципа состязательности праву обвиняемого определять свою позицию по делу, презумпции невиновности, которая остается неопровергнутой в случае прекращения уголовного дела по основанию, исключающему право лица на реабилитацию. Как обратил внимание Конституционный Суд РФ, нужно учитывать то обстоятельство, что, соглашаясь на прекращение уголовного дела по нереабилитирующему основанию, лицо надеется на то, что оно больше не будет вовлечено в уголовное судопроизводство. Эта позиция не распространяется на случаи, когда обвиняемый сам инициировал отмену постановления по нереабилитирующему основанию. В эти же самые периоды времени Конституционный Суд РФ высказывал и противоположную точку зрения по рассматриваемым вопросам. Так, в определении от 19 июня 2007 г. № 591-О-О об отказе в принятии к рассмотрению жалобы гражданки Фирсовой М.А. на нарушение ее конституционных прав п. «а» ч. 1 ст. 78 УК РФ Конституционный Суд РФ акцентировал внимание на том, что правом определять основания освобождения, которые влекут за собой освобождение от уголовной ответственности и отказ от уголовного преследования, обладает исключительно государство в лице его правотворческих органов. Применение таких оснований по уголовному делу, в том числе истечение сроков давности, не зависит от усмотрения должностных лиц, осуществляющих уголовное преследование и разрешение дела по существу. В Конституционный Суд РФ обратился Волошин В.Г. с жалобой на нарушение его конституционных прав п. 3 ч. 1 ст. 24 УПК РФ, позволяющим признавать лицо виновным во внесудебном порядке постановлением об отказе в возбуждении уголовного дела, принятом без согласия преследуемого лица. В принятом по данной жалобе определении от 21 апреля 2011 г. № 583-О-О Конституционный Суд РФ еще раз повторил, что отказ в возбуждении уголовного дела по нереабилитирующему основанию исключает саму возможность уголовного преследования, т.е. деятельности, направленной на изобличение лица в совершении преступления, а вынесенное в связи с этим постановление не является актом, которым устанавливается виновность лица в смысле ст. 14 УПК РФ и не влечет правовых последствий, связанных с участием лица в судопроизводстве в качестве подозреваемого/обвиняемого. В постановлении от 18 июля 2022 г. № 33-П, принятом по жалобе гражданина Рудникова В.А., Конституционный Суд РФ высказался по вопросу о конституционности ч. 2 ст. 27 УПК РФ и п. «в» ч. 1 ст. 78 УК РФ в той мере, в которой они не определяют максимальный срок, в течение которого может после истечения сроков давности продолжаться предварительное расследование, если обвиняемый не соглашался с прекращением уголовного дела по данному основанию. Конституционный Суд РФ признал, что в этом случае нарушается принцип разумного срока судопроизводства. Кроме того, такая ситуация вынуждает обвиняемого соглашаться либо на бесконечно длинное расследование, либо на прекращение уголовного дела по основанию, которое лишает его права на реабилитацию. Конституционный Суд РФ предложил решить данный правовой спор путем закрепления в УПК РФ предельного срока предварительного расследования, который исчисляются со дня истечения срока давности уголовного преследования. По окончании двенадцати месяцев, если дело не передано в суд, оно подлежит прекращению, даже если подозреваемый/обвиняемый против этого возражает. Противоречивая судебная практика и неустойчивая позиция Конституционного Суда РФ привели к расколу мнений по данному вопросу среди ученых. Основной аргумент, которые они приводят, состоит в том, что истечение сроков давности уголовного преследования является нереабилитирующим. Поэтому в статистических карточках (форма 1 и форма 2) [15] лицо, в отношении которого отказано в возбуждении уголовного дела по п. 3 ч. 1 ст. 24 УПК РФ, учитывается как лицо, совершившее преступление [16. С. 64]. На наш взгляд, вопрос о том, относится ли истечение сроков давности к реабилитирующим или нереабилитирующим основаниям, и не возникал, если бы это освобожденное лицо в доследственной статистике не отражалось как лицо, совершившее преступление. Поэтому, изменив статистические показатели, мы бы решили данную проблему, тем более, что для этого есть основания. Во-первых, Пленум Верховного Суда РФ ориентирует судей при принятии решения о прекращении уголовного дела считать лиц, которые ранее освобождались от уголовной ответственности по нереабилитирующим основаниям, впервые совершившими преступление. Данный вывод основан на пп. «д» п. 2 постановления Пленума Верховного Суда РФ «О применении судами законодательства, регламентирующего основания и порядок освобождения от уголовной ответственности». Во-вторых, следует принять во внимание общепризнанный в науке производный характер норм процессуального права от норм материального права [17. С. 3]. Статья 78 УК РФ не устанавливает такого условия, как получение согласия лица на освобождение от уголовной ответственности по указанному в ней основанию. В-третьих, за пределами этих сроков такое право государство утрачивает, поскольку лицо, совершившее преступление, перестает быть общественно опасным. В-четвертых, в стадии возбуждения уголовного дела «затруднительно установить не только вину субъекта в совершении преступления, но и его причастность к нему» [18. С. 197]. Вместе с тем условием для прекращения уголовного дела по нереабилитирующему основанию является установление состава преступления, в том числе формы вины, мотивов и цели содеянного. Поскольку в стадии возбуждения уголовного дела виновность не устанавливается, говорить о том, что основание для отказа в возбуждении уголовного дела является нереабилитующим, нельзя. Не лишним будет вспомнить общепринятое в научной доктрине определение нереабилитирующих оснований как таких, при наличии которых правоприменитель лишь вправе, а не обязан прекратить уголовное дело. А УПК РФ содержит императив, согласно которому «уголовное дело не может быть возбуждено, а возбужденное подлежит прекращению, при наличии перечисленных в ст. 24 УПК оснований». Однако если п. 3 ч. 1 ст. 24 УПК РФ воспринимать как категорический запрет на возбуждение уголовного дела, нарушение такого запрета следователем (дознавателем) будет означать, что уголовное преследование возбуждено и осуществляется в отношении лица незаконно, а следовательно, может возникнуть вопрос о его реабилитации. В-пятых, повторимся, что для прекращения уголовного дела в связи с истечением сроков давности необходимо получать согласие лица, которое уже наделено статусом подозреваемого/ обвиняемого. Вместе с тем в стадии возбуждения уголовного дела такого участника нет, поэтому распространение ч. 2 ст. 27 УПК РФ на стадию возбуждения уголовного дела фактически представляет собой применение процессуальной аналогии. В то же время в УПК РФ норма о применении аналогии закона отсутствует. В-шестых, позиция, изложенная Конституционным Судом РФ в постановлении от 19 мая 2022 г. № 20-П, позволяет приравнять согласие к отсутствию возражений лица против отказа в возбуждении уголовного дела. Иными словами, следователь (дознаватель) должен разъяснить лицу право возражать против отказа в возбуждении уголовного дела, если такие возражения от лица не поступили, презюмируется, что он согласен и можно применить сроки давности [19. С. 11]. Косвенно вывод о том, что отсутствию возражений лица в случае, если встает вопрос об отказе в возбуждении уголовного дела в связи с истечением сроков давности не придается обязательного значения, подтверждает и позиция Конституционного Суда РФ, предложенная им в постановлении от 18 июля 2022 г. № 33-П. Вывод, к которому мы пришли, следующий. Если сроки давности уголовного преследования истекли, уголовное дело не должно возбуждаться, как и в случае, когда лицо не установлено (отсутствие этого лица приравнивается к отсутствию его возражений против отказа в возбуждении уголовного дела), так и в случае, если лицо, совершившее преступление, установлено, без выяснения его мнения по данному вопросу.
Скачать электронную версию публикации
Загружен, раз: 20
Ключевые слова
уголовное судопроизводство, истечение сроков давности, отказ в возбуждении уголовного дела, прекращение уголовного дела по нереабилитирующим основаниямАвторы
| ФИО | Организация | Дополнительно | |
| Марьина Евгения Владимировна | Самарский национальный исследовательский университет имени С.П. Королева | доцент, кандидат юридических наук, доцент кафедры уголовного процесса и криминалистики | ssau@ssau.ru |
| Кувалдина Юлия Владимировна | Самарский национальный исследовательский университет имени С.П. Королева | доцент, кандидат юридических наук, доцент кафедры уголовного процесса и криминалистики |
Ссылки
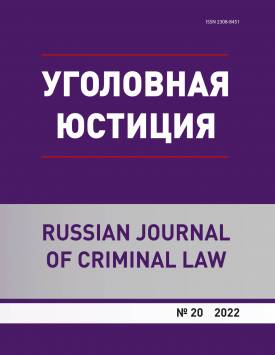
Отсутствие возражений как условие отказа в возбуждении уголовного дела в связи с истечением сроков давности | Уголовная юстиция. 2022. № 20. DOI: 10.17223/23088451/20/10
Скачать полнотекстовую версию
Загружен, раз: 228

 Вы можете добавить статью
Вы можете добавить статью