Законодательные гарантии защиты осужденных к лишению свободы от пыток, другого жестокого или унижающего достоинство обращения в постсоветских государствах
Проводится сравнительно-правовой анализ законодательства об исполнении наказаний стран постсоветского пространства в сфере защиты осужденных к лишению свободы от пыток и приравненных к ним мер. Исследование проведено по ряду критериев, отражающих различные аспекты указанных гарантий. Формулируются предложения по совершенствованию российского уголовно-исполнительного законодательства.
Legislative guarantees for the protection of persons sentenced to imprisonment from torture and other cruel or degrading.pdf Общепризнанной юридической гарантией защиты прав человека в пенитенциарных учреждениях является законодательный запрет пыток, насилия и другого жестокого или унижающего человеческое достоинство обращения с осужденными (далее - пыток и приравненных к ним мер). Данный запрет является абсолютным, он относится к фундаментальным правилам международного публичного порядка и является императивной нормой (jus cogens). Система международно-правовых гарантий защиты от пыток и приравненных к ним мер включает в себя, по нашему мнению, три группы документов, содержащие материальные (формально-юридические), процессуальные и институциональные предписания. Первую группу источников составляют международные документы, содержащие формально-юридические запреты применения пыток и приравненных к ним мер. К таковым относятся положения ст. 5 Всеобщей декларации прав человека (принята 10.12.1948 резолюцией 217А (III) Генеральной Ассамблеи ООН) и ст. 7 Международного пакта о гражданских и политических правах 1966 г. (принят 16.12.1966 резолюцией 2200 (XXI) Генеральной Ассамблеи ООН, далее -МПГПП), содержащие тождественные требования: «Никто не должен подвергаться пыткам или жестокому, бесчеловечному или унижающему его достоинство обращению или наказанию». В эту же группу входят и положения Кодекса поведения должностных лиц по поддержанию правопорядка (принят резолюцией 34/169 Генеральной Ассамблеи ООН от 17.12.1979), статья 5 которого содержит более детализированную форму рассматриваемого запрета: «Ни одно должностное лицо по поддержанию правопорядка не может осуществлять, подстрекать или терпимо относиться к любому действию, представляющему собой пытку или жестокие, бесчеловечные или унижающие достоинство виды обращения и наказания, и ни одно должностное лицо по поддержанию правопорядка не может ссылаться на распоряжение вышестоящих лиц или такие исключительные обстоятельства, как состояние войны или угроза войны, угроза национальной безопасности, внутреннюю политическую нестабильность или любое другое чрезвычайное положение для оправдания пыток или других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания». © Павленко А. А., 2022 Необоснованность ссылок на исключительные обстоятельства как оправдание пыток, закрепленное в указанном Кодексе, также предусматривается и п. 2 ст. 4 МПГПП, отражающей его характер jus cogens: «. отступление от положений ст. 7 недопустимо ни при каких обстоятельствах, включая и ситуации чрезвычайного положения». Обозначенные требования были подтверждены Комитетом по правам человека ООН в Замечании общего порядка № 20 по ст. 7 (A/44/40, п. 3). Предметноматериальное содержание запрета пыток и приравненных к ним мер для пенитенциарных учреждений кроме перечисленных общих постулатов дополняется специальными требованиями п. 1 ст. 10 МПГПП: «. все лица, лишенные свободы, имеют право на гуманное обращение и уважение достоинства, присущего человеческой личности» вне зависимости от цели их содержания под стражей. По сути, ст. 10 Пакта запрещены менее жесткие виды обращения, по сравнению с обозначенными в ст. 7. В целях формирования механизма реализации материальных гарантий защиты от пыток и приравненных к ним мер, были разработаны международные документы, содержащие гарантии второй группы, - акты процессуального характера, создавшие инструменты контроля за соблюдением гарантий первой группы. К таковым, прежде всего, относится Конвенция ООН против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания (принята 10.12.1984 резолюцией 39/46 Генеральной Ассамблеи ООН), в которой раскрываются содержание термина «пытка» и организация деятельности Комитета против пыток (далее - КПП ООН). Наконец, для построения всесторонней конструкции защиты лишенных свободы лиц от пыток и приравненных к ним мер была разработана система проверки мест содержания под стражей путем регулярных посещений, осуществляемых независимыми международными и национальными органами. Эта система предусмотрена Факультативным протоколом к Конвенции ООН против пыток (принят резолюцией 57/199 Генеральной Ассамблеи ООН от 18.12.2002) через создание специальных органов («институализация»), а именно - Подкомитета по предупреждению пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания Комитета против пыток ООН и национальных превентивных механизмов. Указанные органы и образуют третью группу международно-правовых предписаний защиты от пыток и приравненных к ним мер - институциональные гарантии. Факультативный протокол 2002 г. вступил в силу 22.06.2006, его ратифицировали более 90 государств, а еще 13 подписали, но не ратифицировали. Проблемы и перспективы создания национального превентивного механизма в России подробно исследованы Н.Б. Хуторской [1. С. 254-257]. Таким образом, взаимно дополняющими друг друга положениями международно-правовых документов создана система юридических гарантий защиты от пыток и бесчеловечного или унижающего достоинство обращения. Однако необходимо специально подчеркнуть, что, несмотря на четко установленный абсолютный международно-правовой запрет пыток и приравненных к ним мер, а также существование специального Комитета против пыток ООН, единого универсально согласованного определения пыток в настоящее время нет. Резюмируя подход международного сообщества в сфере запрета пыток и приравненных к ним мер, важно отметить выделение в стандартах как позитивных, так и негативных правовых предписаний. Позитивные гарантии обеспечения защиты от пыток и приравненных к ним мер заключаются в активных системных мероприятиях: законодательных, судебных, административных, а также обучающих. Их цель состоит, во-первых, в недопущении применения пыток со стороны государственных служащих и, во-вторых, в эффективном расследовании любых заявлений о применении рассматриваемых мер. Негативные гарантии заключаются в необходимости возложения на соответствующих субъектов (прежде всего государственных служащих) обязанности воздерживаться от действий, способных нарушить запрет на меры, приравненные к пытке. Строгое соблюдение гарантий защиты осужденных от пыток и приравненных к ним мер установлено в качестве фундаментального требования к практике применения уголовно-исполнительного законодательства (УИЗ) Российской Федерации. Указанные гарантии основываются на Конституции РФ, общепризнанных принципах и нормах международного права, а также международных договорах, являющихся составной частью правовой системы Российской Федерации (ч. 1 ст. 3 Уголовно-исполнительного кодекса Российской Федерации (УИК РФ)). Так, ч. 2 ст. 21 Конституции РФ гарантирует, что «никто не должен подвергаться пыткам, насилию, другому жестокому или унижающему человеческое достоинство обращению или наказанию». Вместе с тем имплементация положений международных стандартов в сфере пыток и приравненных к ним мер в российское законодательство, включая Конституцию РФ, осуществлена не буквально, а с некоторыми особенностями. И. В. Ростовщиков и В. Д. Гончаренко справедливо отмечали, что при характеристике рассматриваемых мер, в отличие от международных правовых актов, не используется признак «бесчеловечное», но в то же время понятие «достоинство» дополнено признаком «человеческое» [2. С. 24]. Кроме того, в российское законодательство введен новый элемент пыток и приравненных к ним мер - насилие, что уже было исследовано нами применительно к запрету медицинских опытов на заключенных [3. С. 56-58] и что детально раскрыл В.А. Уткин [4. С. 103-104]. Указанные «трудности перевода» побудили Верховный Суд разъяснить содержание рассматриваемых терминов. Так, в п. 15 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 10.10.2003 № 5 «О применении судами общей юрисдикции общепризнанных принципов и норм международного права и международных договоров Российской Федерации» указано, что относится «бесчеловечному обращению» и что к «унижающему достоинство обращению», т. е. дефинициям, отсутствующим в российском законодательстве. В этой связи интересен зарубежный опыт создания системы юридических гарантий защиты от пыток и приравненных к ним мер. Анализ нормативного закрепления данных гарантий позволит наглядно выявить подход национального законодателя к значению предупреждения и запрета пыток, бесчеловечного или унижающего достоинство обращения в конкретном государстве. Кроме того, в разделе ХХ1 Концепции развития уголовно-исполнительной системы Российской Федерации на период до 2030 г. (утверждена распоряжением Правительства РФ от 29.04.2021 № 1138-р, далее - Концепция) указано, что «изучение и внедрение международного опыта пенитенциарных систем зарубежных стран в уголовно-исполнительную систему является одной из важнейших задач в процессе дальнейшего совершенствования деятельности Федеральной службы исполнения наказаний». Предметом настоящего исследования выбрано законодательство об исполнении наказаний, в том числе уголовно-исполнительное, стран постсоветского пространства (далее - стран ПСП) как источник формально-юридических гарантий в данной сфере. Институциональные гарантии будут рассмотрены только применительно к деятельности независимого контрольного механизма предупреждения пыток и приравненных к ним мер в местах лишения свободы. Интерес к очерченному предмету обусловлен, прежде всего, общей историко-правовой базой этих государств. Поэтому мы поддерживаем позицию О. В. Демидовой, полагающей, что «на постсоветском пространстве правовые системы государств характеризуются множеством общих признаков, имеют родственность и общность правовых реалий. Все это создает позитивную перспективу использования опыта этих стран в отечественной правоприменительной практике» [5. С. 138]. Законодательство об исполнении наказаний стран ПСП, подвергнутое исследованию, УИК Республики Армения 2004 г., Республики Беларусь 2000 г., Республики Казахстан 2014 г., Республики Кыргызстан 2017 г., Российской Федерации 1996 г., Республики Узбекистан 1997 г., Туркменистана 2011 г., Украины 2003 г.; Кодексами об исполнении наказаний (КИН) Азербайджанской Республики 2000 г. и Латвии 1997 г.; Кодексом исполнения уголовных наказаний (КИУН) Республики Таджикистан 2001 г., Исполнительным кодексом (ИК) Республики Молдова 2004 г., Законом Грузии «Кодекс о заключении под стражу» 2010 г. (далее - Кодекс Грузии), Законом Эстонской Республики о тюремном заключении 2000 г. (далее - Закон Эстонии). Приходится с сожалением констатировать, что нам не удалось получить доступ к русскоязычному тексту Кодекса об исполнении наказаний Литовской Республики, в связи с чем его положения рассмотреть в данной работе не удалось. Среди стран ПСП важно выделить еще одну группу - участники Содружества Независимых Государств (СНГ), включающую, согласно позиции Исполнительного комитета СНГ, 10 государств, из которых девять республик: Азербайджан, Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Молдова, Россия, Узбекистан, Таджикистан - действительные члены; Туркменистан -ассоциированный член. Государства - участники СНГ демонстрируют стремление к единообразию правотворческой деятельности в сфере борьбы с преступностью, включая законодательство об исполнении уголовных наказаний. Конкретным проявлением сказанного является постановление Межправительственной Ассамблеи государств - участников СНГ от 28.10.1994 «О правовом обеспечении интеграционного развития Содружества Независимых Государств», в соответствии с которым 02.11.1996 был принят Модельный Уголовноисполнительный кодекс (далее - Модельный УИК СНГ), имеющий рекомендательный характер для правотворческих органов государств - участников СНГ. Положения обозначенного Кодекса также будут подвергнуты анализу в данной работе. Следует отметить, что различные направления сравнительно-правового анализа уголовно-исполнительного законодательства стран ПСП и СНГ неоднократно становились предметом исследования ученых-пенитенциаристов. Так, А. Б. Скаков и С. М. Савушкин изучали вопросы дифференциации осужденных к лишению свободы в странах СНГ [6], А.Н. Сиряков - режим особых условий в исправительных учреждениях СНГ [7], А.М. Потапов - отдельные элементы механизма исполнения лишения свободы в государствах -членах СНГ [8] и др. Однако в этих работах не рассматривались вопросы защиты осужденных к лишению свободы от мер, приравненных к пытке. Заявленное исследование проведено по ряду критериев, отражающих различные аспекты формальноюридических гарантий защиты осужденных к лишению свободы от мер, приравненных к пытке. К таковым отнесены: терминология, используемая в национальных законодательствах при закреплении запрета пыток и приравненных к ним мер; локализация рассматриваемых гарантий в структуре УИЗ стран ПСП; место этих мер в общей системе прав осужденных и их взаимосвязь с другими правами; закрепление в законодательстве стран ПСП независимого контрольного механизма предупреждения пыток и приравненных к ним мер. В качестве первого критерия исследования выступает терминология, используемая в национальных законодательствах при формулировке запрета мер, приравненных к пытке. Как уже было отмечено ранее, в сфере запрета данных мер выделяют позитивные и негативные гарантии. В соответствии с этим подходом УИЗ стран ПСП также разделяют на две группы. Первую группу составляет законодательство стран (всего шесть), предусматривающее позитивные гарантии защиты осужденных от применения мер, приравненных к пытке: УИК Беларуси, России, Туркменистана, Модельный СНГ, КИН Латвии и Закон Эстонии. В этих документах наиболее распространенной формулировкой является предписывающая необходимость «строгого соблюдения гарантий защиты от пыток, насилия и другого бесчеловечного или унижающего человеческое достоинство обращения с осужденными». Указанная редакция использована в УИК Беларуси (ст. 3), Российской Федерации (ст. 3) и Туркменистана (ст. 1). В Модельном УИК СНГ (ст. 3) заложена схожая норма, но без использования терминов «насилие» и «достоинство», а также признаков «жестокое» и «человеческое». Вместе с тем в данном Кодексе используется признак «бесчеловечное», присутствующий в международных стандартах, но не используемый в российском законодательстве. Таким образом, положения Модельного УИК СНГ представляют собой, по нашему мнению, промежуточный вариант имплементации рекомендаций международных стандартов в сфере мер, приравненных к пытке, в действующее российское законодательство, о чем мы говорили выше. В КИН Латвии (ст. 4) предписана обязанность обеспечения установленных законом гарантий против применения пыток и бесчеловечного или унизительного наказания в отношении осужденного лица. Еще интереснее формулировки Закона Эстонии, отличающиеся от стандартных в этой сфере, и в которых не используются термины «пытка» и «бесчеловечное и жестокое обращение». Вместе с тем полагаем, что содержание ст. 4.1 «Уважение человеческого достоинства и соблюдение прав» Закона Эстонии относится к предмету нашего исследования. Так, ч. 1 ст. 4.1 определяет, что «с заключенным. обращаются способом, который уважает его человеческое достоинство.», а ч. 2 закрепляет, что «ограничения, приведенные в Законе. должны соответствовать цели исполнения наказания и принципам человеческого достоинства». Считаем, что указанные требования Закона Эстонии предполагают активные действия по их выполнению. Вторую группу, более многочисленную, составляет законодательство об исполнении наказаний стран ПСП (всего восемь), содержащее запрет пыток и приравненных к ним мер (негативные гарантии): УИК Республики Армения, Республики Казахстан, Кыргызской Республики, Республики Узбекистан, Украины, КИН Азербайджанской Республики, КИУН Республики Таджикистан и ИК Республики Молдова. В документах этой группы наиболее распространена (с некоторыми особенностями редакции) формулировка о том, что «осужденные не должны подвергаться пыткам или иному жестокому, бесчеловечному либо унижающему его достоинство обращению или наказанию», которая закреплена в УИК Армении (ст. 6), Кыргызстана (ст. 18) и Украины (ст. 8). Схожие по «духу», но слегка рознящиеся по «букве» нормы закреплены в КИУН Республики Таджикистан (ст. 10) и ИК Республики Молдова (ст. 167.1). В данных законодательствах указано, что запрещается применение к любому лицу, отбывающему наказание, пыток, бесчеловечного или унижающего достоинство либо иного жестокого обращения. Такой же смысл, по нашему мнению, заложен законодателем и в КИН Азербайджанской Республики: «Кодекс основывается на недопущении пыток или других жестоких, бесчеловечных действий либо унижения личности в обращении с заключенными» (ч. 3.3 ст. 3). Более самобытные определения содержат УИК Казахстана и Узбекистана. Так, в УИК Казахстана (ст. 4) определено, что «исполнение наказаний и иных мер уголовно-правового воздействия не имеет своей целью причинение физических страданий или унижение человеческого достоинства». В УИК Узбекистана (ст. 4) подобная гарантия, построенная на декларировании абсолютного приоритета международных документов в рассматриваемой сфере над национальным законодательством, гласит, что «нормы уголовно-исполнительного законодательства не могут противоречить международным актам о защите от пыток и других бесчеловечных или унижающих видов обращения с осужденными». Вторым направлением сравнительно-правового анализа пыток и приравненных к ним мер в странах ПСП мы определили локализацию законодательного закрепления рассматриваемых гарантий. В УИЗ этих стран наблюдается четыре варианта расположения данных норм, которые отражают, на наш взгляд, придаваемое этим гарантиям значение в конкретном государстве. Первым вариантом расположения запрета пыток и приравненных к ним мер в законодательстве стран ПСП является их отнесение к принципам УИЗ. В УИК Армении (ч. 2 ст. 6), Кыргызстана (ч. 2 ст. 9) и КИУН Таджикистана (ч. 2 ст. 10) рассматриваемые гарантии выступают в качестве проявления принципа гуманизма. В КИН Латвии (ст. 4) установленные законом гарантии против применения рассматриваемых мер закреплены как элемент первого основного принципа (без собственного названия) исполнения уголовного наказания. Вместе с тем необходимо отметить, что нормы УИК Кыргызстана и КИН Латвии отводят изучаемым мерам двоякую функцию - они одновременно и принципы, и цели законодательства, прямо исключающие пытки и приравненных к ним меры. Данный подход представляется нам избыточным дублированием норм и «размывающим» содержание запрета мер, приравненных к пытке. Так, в УИК Кыргызстана (ч. 2 ст. 9) закреплено, что «исполнение наказаний и принудительных мер уголовно-правового воздействия не имеет цели унижения человеческого достоинства, причинения физических и нравственных страданий, применения пыток и жестокого обращения». В КИН Латвии (ч. 1 ст. 4) формулировка несколько иная: «Целью исполнения наказания не является доставление физических страданий или унижение человеческого достоинства, или исключение его из общества». В этой связи необходимо специально подчеркнуть, что КИН Латвии вообще не содержит отдельной статьи, формулирующей цели исполнения уголовного наказания. Вторую группу вариантов расположения в законодательстве стран ПСП гарантий защиты от пыток и приравненных к ним мер образуют УИК Казахстана и Украины, в которых данные нормы включены только в цели УИЗ. Однако если в УИК Украины (ч. 1 ст. 1) «предупреждение пыток и нечеловеческого или унижающего достоинство обращения с осужденными» закреплено именно как позитивная цель, то в УИК Казахстана (ч. 3 ст. 4) данная норма сформулирована созвучно УИК Кыргызстана, т. е. как прямо исключающие пытки и приравненных к ним меры: «Исполнение наказаний и иных мер уголовно-правового воздействия не имеет своей целью причинение физических страданий или унижение человеческого достоинства». Третьим вариантом локализации законодательного закрепления гарантий защиты от пыток, насилия и другого жестокого или унижающего человеческое достоинство обращения с осужденными определено закрепление этих норм в отдельной статье УИЗ. В Исполнительном кодексе Молдовы название ст. 167.1 «Запрет применения пыток, бесчеловечного или унижающего достоинство либо иного жестокого обращения» de facto совпадает с ее содержанием. Особенности терминологии Закона Эстонии уже рассматривались выше, и, соответственно, положения ст. 4.1 «Уважение человеческого достоинства и соблюдение прав» также, на наш взгляд, содержат позитивные гарантии защиты от мер, приравненных к пытке. Четвертую группу вариантов расположения гарантий защиты от рассматриваемых мер составляют нормы, включенные в статьи «Уголовно-исполнительное законодательство и международно-правовые акты» Кодексов Азербайджана (ст. 3), Беларуси (ч. 3 ст. 3), России (ч. 1 ст. 3), Узбекистана (ст. 4), Модельного СНГ (ч. 3 ст. 3) и Туркменистана (ч. 2 ст. 1). Объединяет все пять указанных Кодексов признание данных гарантий элементом общепризнанных норм и принципов международного права. Дополнительно стоит отметить, что только в КИН Азербайджана, в УИК Беларуси и России отведено доминирующее положение в системе регулирования данной сферы. В остальных странах ПСП формально признается приоритет международно-правовых актов в сфере защиты от мер, приравненных к пытке. Третьим направлением сравнительно-правового исследования определено место гарантий защиты осужденных к лишению свободы от пыток, другого жестокого или унижающего достоинство обращения в общей системе прав осужденных, закрепленных в законодательстве об исполнении наказаний стран ПСП. Следует отметить, что данные нормы всегда являются факультативными и, как правило, дополняют элементы других критериев данного исследования, что нередко приводит к определенному дублированию разных статей в законодательствах. Соответственно, их закрепление в правовом статусе осужденных присутствует не во всех УИЗ стран ПСП. Так, рассматриваемые положения отсутствуют в УИК Армении, Беларуси, Узбекистана, КИН Латвии, Азербайджана и Законе Эстонии. Среди семи законодательств об исполнении наказаний, содержащих подобные нормы, особое место занимает УИК Кыргызской Республики, в котором право осужденных на достойное обращение первоначально обозначено в перечне основных прав осужденных (ч. 1 ст. 16), а затем в отдельно выделенной ст. 18 раскрывается содержание этого права. Часть 1 данной статьи определяет запрет мер, приравненных к пытке (формулировка нами уже рассматривалась). В остальных шести Кодексах указанный запрет включен в число основных прав осужденных. Однако необходимо специально подчеркнуть, что в них обозначенное право не выделяется в отдельную часть статьи, а объединено с другими правами осужденного. Эта позиция, в свою очередь, подразделяется еще на две подгруппы. Чаще всего объединение исследуемого запрета проведено с правами, первично производными от термина «достоинство», т. е. этим производным определена доминирующая роль в сложносоставном праве (первая подгруппа). Этот вариант встречается в УИК Казахстана («осужденные имеют право на признание их человеческого достоинства»), УИК Украины («осужденные имеют право на гуманное отношение к ним и уважение их человеческого достоинства»), ИК Молдовы (осужденному гарантируется «право пользоваться защитой и уважением... достоинства личности»). Вторым вариантом объединения права на защиту от пыток и приравненных к ним мер с другими правами осужденных является отведение второстепенной роли производным от термина «достоинство» в сложносоставном праве. Так, в УИК РФ и Туркменистана, КИУН Таджикистана ведущее значение среди самостоятельных элементов права, включающем в том числе и запрет пыток и приравненных к ним мер, отводится «вежливому обращению со стороны персонала». В УИК Туркменистана раскрывается еще и цель вежливого обращения - укрепление у осужденных чувства собственного достоинства и сознания своей ответственности. Данные законодательные конструкции представляются дефектом юридической техники, а именно неверной расстановкой приоритетов внутри конкретного права осужденного. В этой связи нельзя не согласиться с В. А. Уткиным, справедливо критиковавшим позицию авторов, полагающих незаконное и необоснованное применение мер безопасности к осужденным «невежливым обращением» [10. С. 138]. В целом считаем совершенно неуместным объединение в одном праве осужденных требования на вежливое обращение со стороны персонала учреждения и запрета жестокого или унижающего человеческое достоинство обращения или взыскания как несопоставимых по степени возможного причинения вреда в случае нарушения этих прав. Совершенно очевидно, что невежливое обращение с осужденным еще далеко не пытка или жестокое унижающее человеческое достоинство обращение. Более того, на наш взгляд, консолидация в одном праве осужденного требований «вежливости» и запрета «пытки» выглядит, мягко говоря, некорректно. Четвертое направление исследования положений в законодательстве стран ПСП об исполнении наказаний является самым малочисленным, так как охватывает только два источника: Кодекс Грузии и УИК Казахстана, содержащие нормы о независимом контрольном механизме предупреждения мер, приравненных к пытке. Примечательно, что кроме Грузии и Казахстана Факультативный протокол 2002 г. к Конвенции ООН против пыток ратифицировали еще шесть государств ПСП: Армения, Азербайджан, Кыргызстан, Молдова, Украина, Эстония. Однако их законодательства об исполнении наказаний не содержат упоминаний о национальных превентивных механизмах. Российской Федерацией Факультативный протокол не подписан и не ратифицирован. Рассмотрение содержания Кодекса Грузии о заключении под стражу 2010 г. приводит к выводу, что все гарантии защиты осужденных от пыток и приравненных к ним мер (ст. 32) сведены только к возложению полномочий в этой сфере на специальную превентивную группу, порядок деятельности которой устанавливается Органическим законом Грузии от 16.05.1996 «О Народном Защитнике Грузии». Таким образом, нормы ст. 32 Кодекса Грузии являются бланкетными. Анализ полномочий народного защитника Грузии приводит нас к выводу, что он de facto является аналогом российского Уполномоченного по правам человека. Данное обстоятельство свидетельствует, на наш взгляд, о наличии в УИЗ Грузии только процедурных и институциональных гарантий защиты от рассматриваемых мер при отсутствии формально-юридических. Подобная ситуация, по нашему мнению, может привести к снижению эффективности защиты осужденных от пыток и приравненных к ним мер. Схожей позиции придерживается и Э. Беселия, которая также отмечала отсутствие системы эффективного расследования заявлений относительно пыток и других форм бесчеловечного обращения в Грузии [10. С. 227]. Гораздо более основательный подход применили законодатели Казахстана. В УИК этого государства присутствует целая гл. 9 «Национальный превентивный механизм» (далее - НПМ), состоящая из 10 статей (ст. 39-49). НПМ de jure полностью независим от органов всех ветвей власти, и незаконное вмешательство в деятельность его участников запрещено законом. Ежегодно готовится консолидированный доклад участников НПМ, который размещается на официальном сайте Уполномоченного по правам человека Республики Казахстан. Так, в период действия чрезвычайного положения в 2020 г. участниками НПМ, общественных наблюдательных комиссий и неправительственных правозащитных организаций осуществлено 1 071 посещение учреждений уголовно-исправительной системы (УИС) (за 2019 г. - 1 237) [11]. В результате принимаемых мер за 2019-2020 гг. было зарегистрировано 326 фактов подозрений в совершении противоправных действий в отношении осужденных (пыток), подтверждены - 3, к уголовной ответственности привлечены 9 сотрудников УИС, 319 дел прекращены по реабилитирующим основаниям [11]. Вместе с тем, несмотря на деятельность участников НПМ и других правозащитных организаций, Комитетом против пыток ООН неоднократно высказывались опасения по поводу соблюдения ряда направлений защиты от пыток и приравненных к ним мер в Республике Казахстан [12. С. 173175]. Эти опасения выглядят особенно странно, учитывая результаты деятельности НПМ в Республике Казахстан, которые количественно не впечатляют. В этой связи резонно встает вопрос о целесообразности создание данного специального субъекта предупреждения пыток. Подтверждением вышесказанного являются и показатели российской ведомственной статистики ФСИН России. Так, из 23 615 актов прокурорского реагирования, внесенных в 2021 г., ни одно напрямую не отражало факты пыток, насилия, другого жестокого или унижающего человеческое достоинство обращения или наказания с осужденными. Возможное нарушение запрета пыток и приравненных к ним мер могло быть последствием неправомерного применения физической силы и специальных средств, по фактам которого в 2021 г. было внесено 20 актов прокурорского реагирования [13. С. 76-78]. Однако численность сотрудников УИС, привлеченных к ответственности по результатам рассмотрения актов прокурорского реагирования за неправомерное применение физической силы и специальных средств в 2021 г. составило всего 4 человека (по 20 актам!!!) (курсив наш. - А.П.). Вместе с тем необходимо специально подчеркнуть, что еще 2 сотрудника УИС было привлечено к ответственности «за обращение с подозреваемыми, обвиняемыми и осужденными, унижающее человеческое достоинство». Это выглядит нелогичным, так как данное основание не фигурировало в прокурорских актах. Причем важно отметить, что из 20 664 сотрудников УИС, привлеченных к ответственности по результатам рассмотрения актов прокурорского реагирования в 2021 г., ни один не был привлечен к уголовной ответственности (368 - к административной и 20 296 - к дисциплинарной) [13. С. 79-80]. Соответственно, и за «обращение с подозреваемыми, обвиняемыми и осужденными, унижающее человеческое достоинство» последовала скорее всего дисциплинарная ответственность, что вызывает еще больше вопросов. Аналогичная ситуация отмечалась и в 2020 г.: из 22 755 внесенных актов прокурорского реагирования ни один напрямую не отражал факты пыток и приравненных к ним мер, а из 18 678 сотрудников УИС, привлеченных к ответственности (к уголовной также 0), всего 3 человека «за обращение с подозреваемыми, обвиняемыми и осужденными, унижающее человеческое достоинство» [14. С. 59-63]. Подводя итог, приходим к следующим общим выводам. Система формально-юридических и процедурных гарантий запрета пыток и бесчеловечного или унижающего достоинство обращения с осужденными к лишению свободы в законодательстве об исполнении наказаний стран СНГ представляется в целом достаточной. Опыт государств, создавших национальные превентивные механизмы (институциональные гарантии), а также практика КПП ООН свидетельствуют, во-первых, о том, что сам по себе факт создания НПМ еще не гарантирует эффективного механизма предупреждения пыток и приравненных к ним мер в конкретном государстве, что было отмечено выше на примере Грузии и Казахстана, а во-вторых, о низкой продуктивности уже созданных НПМ. Гарантии защиты осужденных от пыток и приравненных к ним мер, закрепленные в УИЗ стран СНГ, основываются на положениях Модельного УИК СНГ и, несмотря на отдельные терминологические различия, во многом схожи. В немалой степени это обусловлено и тем, что нормы ч. 3 ст. 3 Модельного УИК СНГ являются самыми лаконичными, так как содержат наименьший, по сравнению с национальными Кодексами, набор признаков пыток и приравненных к ним мер. В частности, из рассматриваемых признаков Модельный УИК СНГ ограничился лишь «другими бесчеловечными или унижающими видами обращения» с осужденными, а из терминологии данной сферы в нем присутствуют только термин «пытки». Таким образом, данный Кодекс, по нашему мнению, выступает в качестве «идеального скелета», на который национальные законодатели «прикрепляют» подходящие им элементы (термины и признаки) сферы пыток и приравненных к ним мер. Исключением из этого подхода является ИК Республики Молдова, структура которого концептуально отличается от иного законодательства об исполнении наказаний стран СНГ, что отмечала и О.В. Демидова [5. С. 139]. В целом структура книги второй «Исполнение решений уголовного характера» Исполнительного кодекса Республики Молдова и особенно конструкция основного правоприменительного документа в данной сфере - Устава отбывания наказания осужденными (утв. Постановлением Правительства Республики Молдова от 26.05.2006 № 583), максимально, по сравнению с УИК и КИН остальных стран СНГ, приближена к структуре Европейских пенитенциарных правил 2006 г., на что нами также указывалось [15. С. 96-97]. Специфика этих документов, естественно, отразилась и на построении пенитенциарной системы данного государства. В этой связи мы не можем согласиться с П.В. Тепляшиным, включающим пенитенциарную систему Молдовы в славянский тип европейских пенитенциарных систем [16. С. 94]. Вполне предсказуемо и то, что законы об исполнении наказаний стран ПСП, не входящих в СНГ (Грузия, Латвия, Эстония), кардинально отличаются от первых даже по названиям, не говоря уже о терминологии и внутренней структуре. Закрепление в законодательстве позитивных гарантий (необходимости совершения активных действий) представляется более действенным вариантом защиты осужденных от пыток и приравненных к ним мер. Такие действия подразумевают, по нашему мнению, более широкий спектр способов реагирования, включая и предупредительные механизмы защиты от рассматриваемых мер. При пассивном законодательном запрете мер, приравненных к пытке (негативные гарантии), защитные механизмы, на наш взгляд, предусмотрены преимущественно с момента начала посягательства на физическую и психическую неприкосновенность осужденного. Определение гарантий защиты от пыток и приравненных к ним мер в качестве целей, задач и принципов, а в ряде Кодексов еще и как основного права осужденного, в национальных УИЗ представляется избыточным, размывающим содержание этих мер, и несколько демонстративным. В отдельной работе, посвященной принципам УИЗ стран ПСП, нами уже отмечалось, что подобная ситуация обусловлена дефектами юридической техники формирования структур Общих частей ряда Кодексов об исполнении наказаний рассматриваемых государств [17. С. 63]. Также преувеличением значения данных мер полагаем их выделение в отдельную статью нормативных правовых актов. Крайне неудачным и даже некорректным представляется объединение в сложносоставном праве осужденного на запрет пыток и приравненных к ним мер «вежливого обращения со стороны персонала» и права, формулировка которого производна от термина «достоинство», с отведением ведущей роли первому элементу. Наиболее удачным вариантом закрепления рассматриваемых гарантий в Кодексах нам видится их расположения в качестве элементов принципа гуманизма. Далее обозначим специальные выводы, относящиеся к российскому законодательству. Прежде всего, необходимо отметить определенное несоответствие формулировок положений международных стандартов обращения с осужденными и национальных нормативных правовых актов в сфере запрета пыток и приравненных к ним мер. Думается, что это несоответствие потенциально может приводить к проблемам трактовки обозначенных мер, в том числе и судебными органами. Существующая в России система формальноюридических и процедурных гарантий защиты осужденных от пыток, насилия и другого жестокого или унижающего человеческое достоинство обращения с осужденными достаточно эффективна, что подтверждается и приведенными ранее данными ведомственной российской статистики. Неукоснительное соблюдение этих гарантий позволяет в полном объеме обеспечить соответствующие права осужденных. В этом контексте Ю.А. Реент абсолютно верно утверждает, что «в настоящее время в России сложилась весьма громоздкая система контроля за обеспечением прав осужденных, включающая в себя как государственные, так и общественные элементы, обладающие исчерпывающими контрольными полномочиями». Далее данный автор приходит к верному, по нашему мнению, заключению об отсутствии необходимости создания в России национального превентивного механизма [18. С. 376]. Дополнительно стоит подчеркнуть, что уже в упоминаемой Концепции развития уголовно-исполнительной системы на период до 2030 г. та
Скачать электронную версию публикации
Загружен, раз: 20
Ключевые слова
осужденные, пытки, насилие и другое жестокое или унижающее человеческое достоинство обращение, система международно-правовых гарантий защиты от пыток и приравненных к ним мер стран постсоветского пространства, национальный превентивный механизмАвторы
| ФИО | Организация | Дополнительно | |
| Павленко Андрей Анатольевич | Томский институт повышения квалификации работников ФСИН России | доцент, кандидат юридических наук, доцент кафедры исполнения наказаний, не связанных с лишением свободы и правового обеспечения деятельности уголовно-исполнительной системы | a.pav@list.ru |
Ссылки
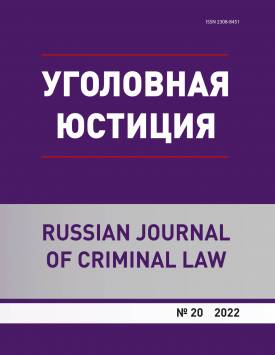
Законодательные гарантии защиты осужденных к лишению свободы от пыток, другого жестокого или унижающего достоинство обращения в постсоветских государствах | Уголовная юстиция. 2022. № 20. DOI: 10.17223/23088451/20/20
Скачать полнотекстовую версию
Загружен, раз: 228

 Вы можете добавить статью
Вы можете добавить статью