Рассмотрены философские начала принципа справедливости на основе произведений Вольтера, Руссо, Монтескье, Марата, Мелье и других просветителей XVIII столетия. Проанализировано понятие «справедливость» в немецком языке, для обозначения которого в зависимости от контекста обычно используются три различные лексические единицы: «die Gerechtigkeit», «die Fairness», «die Billigkeit». Обосновано отсутствие какого-либо одного универсального термина, который обозначал бы справедливость во всех трех рассматриваемых правопорядках. Изучены подходы к пониманию справедливости в немецкоязычных толковых словарях, а также высказывания Екатерины II, Готфрида Лейбница, Рудольфа Хагельштанге и других мыслителей и общественных деятелей об этом принципе. Рассмотрена реализация принципа справедливости в современном уголовном судопроизводстве Австрии, Лихтенштейна и Швейцарии на основе Уголовно-процессуальных кодексов данных государств.
The principle of justice in the criminal procedure of Austria, Liechtenstein, and Switzerland.pdf Принцип справедливости является одним из древнейших в юриспруденции. По словам римского юриста Ульпиана (170-228), «справедливость - это твердая и постоянная воля к тому, чтобы каждому воздать его право». Вспомним и о том, что «jus est ars boni et aequi» (право - это искусство добра и справедливости), что «соображения справедливости не позволяют осуждать кого-либо, не выслушав его дело» (здсь и далее курсив наш. - А.Т.) [1. C. 143], что «всякий раз, когда к тому побуждает справедливость, необходимо произвести допрос, в этом нет сомнения» [2. C. 573]. Данный принцип судопроизводства гораздо теснее всех остальных связан с философией, религией, моралью, со всеми сферами общественной жизни. В этой связи его рассмотрение не может быть односторонним и узконаправленным. В целях обеспечения комплексного характера исследования мы последовательно рассмотрим три основных вопроса: 1) философская основа принципа справедливости в трудах просветителей XVIII столетия - совершенно очевидно, что он возник в юриспруденции не на пустом месте, а в наиболее общих чертах был теоретически разработан мыслителями прошлого; 2) слово «справедливость» в немецком языке - при рассмотрении соответствующего правового принципа в германских правопорядках мы никуда не можем уйти от лексических единиц, с помощью которых он обозначается в законодательстве («die Gerechtigkeit», «die Fairness», «die Billigkeit»); 3) нормативное содержание принципа справедливости в уголовном процессе Австрии, Лихтенштейна и Швейцарии, а также право лица на справедливое судебное разбирательство, его реализацию на различных стадиях судопроизводства. I. Философская основа принципа справедливости в трудах просветителей XVIII столетия Жан-Жак Руссо (1712-1775), франкоязычный философ и мыслитель, родившийся и выросший в Женевской республике, рассуждает о том, что некоторым народам органически присущ рассматриваемый принцип: «... чувство справедливости у швейцарцев, как и у корсиканцев, заложено в крови» [3. C. 269]. Вместе с тем можно поинтересоваться у мыслителя, а существует ли этносы, у которых оно отсутствует? Пожалуй, у каждого народа религия, мораль, юриспруденция в процессе диалога культур словно конкурируют за то, чтобы считаться наиболее справедливыми по сравнению с теми, которые приняты у других народов. Вместе с тем высказывание Руссо в определенной степени объясняет, почему в уголовном процессе Швейцарии принцип справедливости рассматривается как самостоятельное начало судопроизводства (ст. 3 УПК 2007 г.) и его содержание даже расширено по сравнению с тем, которое изложено в ст. 6 ЕКПЧ 1950 г. Руссо в контексте принципа справедливости рассуждает о том, какие социальные ценности (блага) должен защищать адвокат в уголовном судопроизводстве. Он дает совет молодому юристу Луазо де Молео-ну: «Я предсказал ему, что если он будет строг в выборе своих дел и станет защищать только справедливость и добродетель, то его гений, возвышенный этим великим чувством, сравнится с гениями великих ораторов» [4. C. 579]. Таким образом, Руссо советует адвокатам не осуществлять защиту и представительство людей, которые злонамеренно преследуют аморальные или противоправные цели, и помогать только тем, кто действительно руководствуется в своем поведении требованиями общепринятых социальных норм. С одной стороны, мыслитель прав, ибо будет несправедливостью защищать несправедливость, с другой - право на юридическую помощь имеет каждый, и в случае участия в уголовном судопроизводстве защитника по назначению вполне возможен конфликт нравственных ценностей адвоката (справедливость, добродетель и др.) и его профессиональных обязанностей. Руссо также рассуждает о справедливости в контексте принципа состязательности. Об этом мыслитель пишет в работе «Эмиль, или О воспитании»: «Раз каждый утверждает, что только он прав, то чтобы выбрать среди стольких сторон, нужно выслушать всех, иначе поступим несправедливо» [5. C. 446]. Автор в данном случае полемизирует с античными стоиками, рассуждавшими так: «В случае противоречивого суждения бесполезно выслушивать обе стороны, так как или первый доказал свои слова, или не доказал; если доказал, то все решено и противоположная сторона должна быть осуждена, если не доказал, значит, он не прав и ему нужно отказать в иске». Высказывание Руссо представляется верным и применительно уголовному судопроизводству, ибо, как говорили еще римские юристы, audiatur et altera pars (пусть будет выслушана и другая сторона). Таким образом, по мнению данного философа, не может быть справедливым такой уголовный процесс, в котором нет состязательности (как минимум при рассмотрении дела в суде первой инстанции). Руссо затрагивает вопрос о соотношении таких категорий, как «истина» и «справедливость». Он пишет: «Будем всегда правдивы, к чему бы это не привело. Сама справедливость заключается в соответствии с действительностью; обман - всегда несправедлив» [6. C. 453]. Таким образом, данные понятия тесно взаимосвязаны между собой. Можно провести аналогию с уголовным процессом: если обстоятельства дела, установленные в приговоре, не соответствуют действительности (истине), то итоговый акт правосудия не может быть справедливым. Шарль Луи Монтескье (1689-1755), французский философ, неоднократно посещавший Швейцарию, попытался сформулировать определение понятия справедливость в контексте присущих ей признаков. Он писал: «Справедливость - это соотношение между вещами; оно всегда одно и то же, какое бы существо его не рассматривало» [7. C. 342]. Как мы видим, мыслитель выделяет два аспекта в данном понятии: 1) справедливость существует не сама по себе, а всегда представляет собой определенное отношение одного социального явления к другому; 2) она имеет объективный характер, т.е. не зависит от воли, мышления и сознания познающего субъекта; при такой формулировке справедливость лежит вне времени и не зависит от конкретно-исторических условий; иначе говоря, если я субъективно считаю справедливым что-либо объективно несправедливое, оно от этого не станет справеДливым (и, соответственно, наоборот). По мнению Монтескье, «самая жестокая тирания та, которая выступает под сенью законности, под флагом справедливости». Как мы видим, автор, во-первых, противопоставляет естественное и позитивное право; во-вторых, обращает внимание на возможные риски, связанные с попыткой прикрыть неправомерные действия государственных органов и его должностных лиц отсылками к указанному выше абстрактному принципу. Кроме того, в работах Монтескье можно обнаружить следующий догмат: «Мы не должны быть свободны от ига справедливости». Таким образом, мыслитель налагает на людей нравственную обязанность учитывать в своей деятельности основные требования, относящиеся к данной категории, и запрещает от них отклоняться. При этом подобное «иго» (выражение использовано им образно) необходимо самому обществу и оказывает на него благотворное влияние. Также философ пытается ответить на вопрос, почему люди игнорируют в своем поведении данный принцип. По мнению Монтескье, «люди будут совершать несправедливости, потому что они извлекают из этого выгоду и потому что собственное благополучие предпочитают благополучию других». Как мы видим, философ объясняет негативное отклоняющееся поведение в указанной выше форме преимущественно корыстными целями граждан и их личным эгоизмом. Рассуждая о судьях и иных должностных лицах, Монтескье отмечал: «Государство не может быть несправедливым, не имея в своем распоряжении рук, посредством которых эти несправедливости могли бы совершаться» [8. C. 446]. По мнению философа, граждане имеют дело с отдельными государственными служащими, а не с государством в целом. Следовательно, от поведения каждого из них зависит, может ли отдельно взятый правопорядок считаться справедливым. Затронутый Монтескье вопрос важен в контексте юридической и политической ответственности должностных лиц за их действия, нарушающие справедливость. Вольтер (1694-1778), французский философ и просветитель, долгое время живший в Женеве, рассматривал в качестве препятствия на пути к построению справедливой судебной системы торговлю государственными должностями. В повести «Мир, каков он есть» Вольтер пишет: «Купившие право судить несомненно торгуют своими приговорами. Я вижу здесь только бездны несправедливостей» [9. C. 446]. При этом «право отправлять правосудие у нас покупается точно так же, как участок земли». В тот период указанное явление во Франции было нередким. Вольтер возражает своему оппоненту, который полагал: «Вы знаете, что наши молодые офицеры дерутся превосходно, хотя они и купили свои должности. Может быть, вы убедитесь, что и наши молодые судьи судят неплохо, хотя они и заплатили за право судить». Данное негативное явление находит описание также в повести Вольтера «Жан-но и Колен». Отец семейства «горько пожалел о том, что мальчика не научили латыни, ибо тогда он купил бы ему важную должность в судебном ведомстве» [10. C. 353]. По мнению данного мыслителя, даже если постановленный приговор формально отвечает требованиям, установленным законом, он тем не менее не будет справедливым, если рассматривавший дело судья купил свою должность у чиновника, который его назначил. К этому уместно добавить слова Шарля Луи Монтескье: «Платон не терпел такой продажи. Это то же самое, говорил он, как если бы кого-либо приняли на корабль кормчим или матросом за его деньги». Жан-Поль Марат (1743-1793), французский революционер, родившийся и выросший в швейцарском кантоне Невшатель, считал, что социальная несправедливость является центральной причиной преступности. В 1790 г. уже после начала Великой французской буржуазной революции он, направил на конкурс, объявленный Экономическим обществом Берна, работу «План уголовного законодательства», в которой показал неразрывную связь преступности с условиями жизни общества, состоящего из «презренных рабов и повелевающих господ» [11. C. 20]. По мнению Марата, именно отсутствие у бедняков достаточных средств к существованию и утрата ими веры в справедливость являются основной причиной совершения уголовно наказуемых деяний. Таким образом, мыслитель и революционер показывает тесную взаимосвязь преступности и социальных условий, в которых она развивается и неизбежно воспроизводит сама себя. Жан Мелье (1664-1729), который в «Завещании» повествует о себе как о католическом священнике с атеистическими и коммунистическими убеждениями, эмоционально описывает то, что в течение жизни он наблюдал вокруг себя при исполнении профессиональных обязанностей: «Я видел - и это можно еще и теперь наблюдать на каждом шагу - как множество несчастных людей подвергается без всякой вины и основания преследованиям и несправедливому угнетению» [12. C. 71]. Далее мыслитель описывает ужасы французской уголовной юстиции начала XVIII в., особенно аресты и казни людей из-за их свободомыслия и религиозных убеждений. Как мы видим, творчество Жана Мелье, как и практически вся философия эпохи Просвещения, буквально пропитано отвращением: 1) к юстиции, не признающей право на защиту; 2) к нарушению естественных и неотчуждаемых прав человека органами уголовного судопроизводства; 3) к незаконному уголовному преследованию невиновных лиц на основе религиозных норм вопреки правовым и моральным. В настоящий период времени принцип справедливости не потерял значения в европейской философской мысли. Далее будет показано, что его содержание достаточно подробно рассматривают авторы авторитетного толкового словаря Gabler Wirtschaftslexikon, известной энциклопедии Enzyklopadie der Wertvorstel-lungen. Весьма обстоятельно он проанализирован также в юридическом словаре доктора права, профессора Карла Крайфельдса. Научные труды этих и других философов подготовили благоприятную почву для становления, развития и нормативного закрепления принципа справедливости в уголовном судопроизводстве, а также оказали заметное влияние на развитие процессуальной науки в XIX столетии и в дальнейший период. II. Понятие «справедливость» в немецком языке Разговор о принципе справедливости в германских правопорядках не будет полным, если обойти стороной само слово «справедливость» в немецком языке. Данной лексической единицей оперируют как юристы, так и философы, поэтому необходим системный подход. В немецком языке существует несколько слов, которые обозначают это понятие, но наиболее близким к русскому аналогу является «die Gerechtigkeit». Данное слово имеет исконно немецкое происхождение, и латинская основа в нем отсутствует. Обозначаемое им понятие многозначно. Согласно электронному словарю Multitran, оно имеет следующие основные значения: 1) справедливость; 2) законность; 3) праведность; 4) правосудие; 5) право; 6) привилегия; 7) правда; 8) правосудность; 9) управа; 10) сервитут; 11) Фемида (https://www.multitran.com). Заметим: перевод «справедливость» поставлен на первое место. Как мы видим, «Gerechtigkeit» обозначает достаточно широкий перечень категорий, которые можно разделить на две группы: юридические и философские (морально-этические). Само это слово изначально зародилось вне пределов юриспруденции и лишь впоследствии было принято на вооружение правоведами. Как бы то ни было, оно отражает идею тесной связи права и морали, ибо в немецком языке, как и в русском, слово «Recht» (право) образовано от «Gerechtigkeit» (справедливость). В этой связи даже с филологической (смысловой) точки зрения объективно не может быть правовым то, что является несправедливым. Категорию «Gerechtigkeit» Уголовно-процессуальные кодексы (УПК) Швейцарии, Австрии и Лихтенштейна не используют. Исключение составляет только образованное от него прилагательное gerecht (справедливый), которое можно обнаружить лишь в п. «с» ч. 2 ст. 3 швейцарского УПК: «das Gebot, alle Verfahrensbe-teiligten gleich und gerecht zu behandeln» (требование, состоящее в том, что со всеми участниками процесса необходимо обращаться, исходя из их равноправия и справедливости). Другое слово, обозначающее в немецком языке справедливость, - «die Fairness». Оно представляет собой англицизм и имеет явно выраженное британское происхождение. В немецком языке это слово также многозначно и, согласно электронному словарю Multitran, может переводиться следующим образом: 1) безупречное поведение; 2) корректное поведение; 3) порядочность; 4) благородство; 5) корректность; 6) справедливость (https://www.multitran.com). Обращает внимание то, что, во-первых, перевод «справедливость» поставлен на последнее место из перечисленных выше; во-вторых, вместе с тем именно оно обычно используется в уголовно-процессуальном законодательстве. УПК Швейцарии и Лихтенштейна не использует данную категорию, однако мы неоднократно встречаем ее в УПК Австрии. Параграф 5 напрямую закрепляет принцип справедливого судебного разбирательства («Grundsatz des fairen Verfahrens»). Кроме того, в данном кодексе несколько раз встречается речевой оборот «fur die Gewahrleistung eines fairen Verfahrens erforderlich» («для обеспечения справедливого судебного разбирательства») и близкие к нему выражения (§ 56, 281-345). Третье слово, обозначающее в немецком языке справедливость, - «die Billigkeit». Оно также представляет собой англицизм и имеет в немецком языке широкий перечень значений, которые приводит электронный словарь Multitran: 1) дешевизна; 2) примитивность; 3) уместность; 4) справедливость; 5) правомерность. Как мы видим, эти слова мало сочетаются друг с другом по своему смыслу, охватывая экономическую, философскую и в последнем случае юридическую лексику; перевод «справедливость» расположился ближе к концу списка. «Die Billigkeit» - единственный из терминов, обозначающих справедливость, который использован разработчиками всех трех рассматриваемых Уголовнопроцессуальных кодексов. УПК Швейцарии в § 404 предусматривает возможность отмены несправедливых решений («unbillige Entscheidungen»). В силу ст. 419, даже если подсудимый оправдан на него могут быть возложены судебные издержки, если это с учетом всех обстоятельств представляется справедливым («wenn dies nach den gesamten Umstanden billig erscheint»). Например, возложение на оправданное лицо судебных издержек возможно, если оно своими противоправными действиями вызывало начало уголовного судопроизводства (самооговор) или затягивало его ход. УПК Лихтенштейна в § 22с в главе об альтернативах уголовному преследованию предусматривает возможность предоставления подозреваемому отсрочки от уплаты денежной суммы сроком до 6 месяцев, если требовать с него всю сумму единовременно было бы слишком несправедливо («sofern dies den Verdachtigen unbillig hart trafeЭтот же речевой оборот использован также в § 200, 205 УПК Австрии. Далее посмотрим, какое определение справедливости предлагают немецкие толковые словари: 1. Согласно статье в немецкоязычной Википедии, «понятие справедливость (на греческом - oixaiOGnvp. на латыни - iustitia, на английском и французском -justice) со времен античной философии обозначает в своей основе человеческую добродетель. Справедливость, согласно этому классическому мнению, является эталоном индивидуального поведения личности. Основное условие для признания поведения человека справедливым заключается в том, что к равному он относятся одинаково, а к неравному - дифференцировано. Причем в этом базовом определении остается открытым, каковы критерии равного или неравного отношения к чему-либо. Как мы видим, авторы такого определения, во-первых, подчеркивают, что справедливость - одна из универсальных человеческих добродетелей, во-вторых, в определенной степени отождествляют ее с равенством (по сути, мы видим уравнительно-распределительное понимание справедливости). Также автор статьи в немецкоязычной Википедии подчеркивает оценочность данной категории, которую трудно раз и навсегда определить с помощью какой-либо однозначной дефиниции. 2. Согласно авторитетному толковому словарю Gabler Wirtschaftslexikon, «справедливость регулирует отношения людей с другими людьми, поэтому она касается их взаимодействий и всегда содержит момент равенства; центральный вопрос заключается в том, как определяется ius suum, то есть его право». В данной трактовке справедливость, во-первых, представляет собой универсальный регулятор человеческих отношений (социальная норма), с другой - она тесно связана с общеправовым принципом равенства всех перед законом и судом (возможность двух и более людей одинаковым образом осуществлять субъективные права). 3. Согласно еще одному авторитетному толковому словарю Enzyklopadie der Wertvorstellungen, «справеДливость - это оптимальное состояние социального взаимодействия, при котором всегда устанавливается справедливый баланс всех интересов, вознаграждений и возможностей. Чувство (осознание) справедливости отдельного человека или группы людей сопровождается определенными нормами и ценностями». Таким образом, авторы данного определения обращают внимание на то, что справедливость отражает определенный социальный комплаенс и, во-вторых, представляет собой психологическую эмоцию человека, его чувство (отсюда выражение «чувство несправедливости») и настроение. 4. Согласно толковому юридическому словарю доктора права, профессора Карла Крайфельдса (наиболее известное в Германии издание такого рода), «справедливость в объективном смысле - это идеал совершенного правопорядка в рамках определенной правовой системы», «справедливость в субъективном смысле -это принадлежащее отдельному лицу право, вследствие чего можно говорить об объективной справедливости» [13. С. 496-497]. Такое определение, на первый взгляд, может показаться российскому читателю непривычным. По всей видимости, немецкий ученый имеет в виду, что справедливость, с одной стороны, означает конечную цель, к которой стремится государство при построении своей системы права, а с другой - наиболее полное равноправие граждан, позволяющее говорить о построении справедливого общества, где каждый имеет столько же прав и свобод, сколько и любой другой человек (в последнем случае имеется в виду, скорее, право лица претендовать на справедливость в отношении себя). При этом справедливость в объективном и в субъективном смысле не может существовать друг без друга. Добавлю, что многие немецкие философы, ученые и общественные деятели обогатили данный язык своими лаконичными, но меткими высказываниями о справедливости. Коренная немка София Августа Фредерика Ангальт-Цербстская, более известная как Екатерина II (1729-1796), в «Наказе Уложенной комиссии» утверждала, что «всякое наказание есть несправедливое, как скоро оно не надобное»; «судьи и правительства не могут по справедливости наложить наказание, законами точно неопределенное». По утверждению Готфрида Лейбница (1646-1716), «справедливость есть не что иное, как милосердие мудрого». По словам писателя Рудольфа Хагельштанге (1912-1984), «даже праведник становится несправедливым, когда он превращается в самоуверенного человека». Данные высказывания, несомненно, обогащают речь человека и могут быть использованы им в самых разных жизненных ситуациях (например, в судебном заседании по уголовному делу). III. Реализация принципа справедливости в уголовном процессе зарубежных стран По справедливому мнению Л.В. Головко, «в каком-то смысле можно сказать, что речь идет о центральном принципе правосудия. Осознание этого происходит повсеместно - как на международном, так и на национальном уровнях» [14. С. 139]. Можно сказать, что в настоящее время данная тема находится на вершине своей популярности (как говорят, она в тренде). При этом рассматриваемый принцип «с одной стороны, совершенно непонятен, с другой - абсолютно очевиден» [15. С. 304]. Как бы то ни было, в большинстве современных правопорядков начало справедливости, относящееся к судопроизводству в целом, обычно рассматривается сквозь призму по меньшей мере трех институтов уголовно-процессуального права: 1) принципы уголовного процесса: справедливость, будучи одним из них, предопределяет их систему в целом; 2) статус подозреваемого, обвиняемого, подсудимого: данный участник имеет право требовать справедливого судебного разбирательства в отношении себя, особенно учитывая, что весь уголовный процесс разворачивается непосредственно вокруг него; 3) статус потерпевшего: не может быть справедливым уголовный процесс, не позволяющий данному участнику в полной мере воспользоваться своими правами для защиты собственных законных интересов и получить возмещение за причиненный ему вред. Кроме того, реализация данного принципа объективно обусловливает повышение доверия общества к суду, а его нарушение - к его снижению. Если граждане на уровне обыденного правосознания считают правосудие справедливым, то они будут обращаться в компетентные органы за судебной защитой. В обратном случае граждане либо начнут решать свои проблемы самостоятельно, в том числе незаконными средствами, либо проявят бездействие и их нарушенные права не будут восстановлены и надлежащим образом защищены. Австрия УПК Австрии 1975 г. в ч. 3 § 5 содержит прямую отсылку к Европейской конвенции по защите прав человека (ЕКПЧ) и основных свобод 1950 г., которая устанавливает принцип справедливости. Согласно ч. 1 ст. 6 ЕКПЧ, каждый в случае спора о его гражданских правах и обязанностях или при предъявлении ему любого уголовного обвинения имеет право на справеДливое и публичное разбирательство дела в разумный срок независимым и беспристрастным судом, созданным на основании закона. Австрия ратифицировала данную Конвенцию в 1958 г. (BGBL. № 210/1958), после чего данный акт стал обязательным для всех органов уголовного судопроизводства и УПК был дополнен указанной выше бланкетной нормой (изначально она отсутствовала в Кодексе). Повторять в УПК дословный текст ст. 6 ЕКПЧ австрийский законодатель счел излишним. В Австрии в качестве составной части принципа справедливости рассматривается запрет провокации преступления. Согласно ч. 3 § 5 УПК, недопустимо побуждать лицо к совершению уголовно наказуемых действий способом, противоречащим принципу справеДливого суДебного разбирательства, или к признанию вины с помощью законспирированных агентов [16. C. 32]. Считается, что правоохранительные органы должны бороться с преступностью, а не воспроизводить ее. Такой подход в полной мере соответствует практике Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ), который негативно оценивает факты провокации преступлений с целью искусственного создания доказательств вины лица: Постановление ЕСПЧ по делу «Малининас против Литвы» от 24 июня 2008 года; Постановление ЕСПЧ по делу «Тейксейра де Кастро против Португалии» от 15 июня 1992 г.; Постановление ЕСПЧ по делу «Еремцов и другие против России» от 27.11.2014 и др. Поскольку п. «а» ч. 3 ст. 6 ЕКПЧ наделяет обвиняемого правом быть незамедлительно и подробно уведомленным на понятном ему языке о характере и основании предъявленного ему обвинения и рассматривает это право как элемент справедливого судебного разбирательства, УПК Австрии уделяет большое значение реализации данной нормы. При этом соответствующие положения кодекса содержат прямую отсылку к принципу справедливости уголовного процесса: 1) согласно ч. 1 § 56 УПК, если это необходимо для обеспечения права на защиту и на справеДливое разбирательство, обвиняемый имеет право на письменный перевод основных документов, который должен быть выполнен в течение установленного срока; 2) согласно ч. 1 § 56 УПК, если выполнение устного перевода на язык обвиняемого не может быть произведено по месту допроса в течение разумного времени, то возможен перевод с использованием технических средств передачи слов и изображений, если для обеспечения справеДливого разбирательства не требуется личное присутствие переводчика; 3) согласно ч. 5 § 56 УПК, письменный перевод может быть заменен устным переводом или, если обвиняемый представлен защитником, устным обобщением, если такой устный перевод или устное обобще ние не противоречат справеДливому разбирательству; 4) согласно § 281 и § 345 УПК, одним из оснований для обжалования приговора является его недействительность, под которой понимается среди прочего его несоответствие принципу справеДливости уголовного суДопроизвоДства по смыслу ст. 6 ЕКПЧ. Интересно, что в первом, втором и третьем случае первоначальная редакция УПК Австрии не содержала отсылку к справедливому судебному разбирательству, однако по мере интернационализации и конституциа-лизации уголовного процесса законодатель счел необходимым отразить в соответствующих нормах международные стандарты. В качестве самостоятельного требования к приговору справедливость в УПК Австрии напрямую не устанавливается. Вместе с тем если ЕКПЧ предусматривает, что все уголовное судопроизводство должно быть справедливым, то вполне логично распространение данного начала и на приговор. Кроме того, в УК Австрии все санкции являются относительно определенными, т.е. предполагают нижний и верхний предел, в связи с чем суд назначает виновному справеДливое наказание на основе смягчающих и отягчающих вину обстоятельств. Таким образом, необходимо сочетание материально-правовой и процессуально-правовой справедливости, которые дополняют друг друга. При этом в австрийской уголовно-правовой доктрине в контексте принципа справедливости отмечается следующее положение, заслуживающее внимание российского читателя: «Тяжелейшей задачей суда является назначение меры наказания, потому что не поддается рациональному и доступному обос нованию, какой вид и какая мера наказания будут справедливыми в отдельно взятом случае. Лишение свободы и штраф в большинстве случае вообще не соизмеримы (inkommensurabel) с совершенным лицом деянием. Даже при конструировании санкций уголовноправовых норм законодателем точная привязка деяний к мерам ответственности за их совершение практически всегда будет иррациональна (irrationales)» [16. C. 59]. По сути, автор задает вопрос: какая может быть соразмерность между убийством и определенным количеством лет лишения свободы? На чем основан такой расчет? Где формула, где алгоритм? Почему в Австрии данное преступление наказывается лишением свободы до 10 лет, а, например, не до 12? Справедливо ли с точки зрения интересов всего человечества то, что в разных правопорядках нижний и верхний предел санкции за совершение убийства различаются? Задача облегчается, если за незаконное лишение свободы суд назначает законное лишение свободы, а за принудительное изъятие денег - денежный штраф. Вместе с тем в отношении большинства преступных деяний, например изнасилования, такая соразмерность была бы невозможна, иначе мы вернемся к ветхозаветному талиону. Таким образом, по мнению данного ученого, реализация принципа справеДливости является непростой задачей, за достижение которой одинаково ответственны и законодатель, и правоприменитель. При этом не будем забывать не потерявшую актуальность мысль И. Ф. Фойницкого (на примере Англии) о том, что хороший уголовный процесс может «подправить» плохое уголовное право, но не наоборот [17. C. 2-4, 26-59]. Лихтенштейн По сравнению с Австрией и Швейцарией, в УПК Лихтенштейна 1987 г. принцип справедливости разработан наименьшим образом. Хотя данный кодекс по своему содержанию и по своей структуре достаточно близок к австрийскому, в него не перешли раскрытые выше положения о справедливом судебном разбирательстве. Прямая отсылка к ЕКПЧ в нем также отсутствует, однако княжество ратифицировало данную Конвенцию и она имеет юридическую силу на его территории. Напрямую категория справедливость упоминается в УПК Лихтенштейна только один раз. Согласно ст. 310, «при определении размера гонорара суд не связан определенной суммой, а должен принять во внимание усилия, приложенные представителем, и в дальнейшем - имущественное положение представляемого лица в контексте со справедливостью». Таким образом, справедливость рассматривается в качестве ориентира, который суд принимает во внимание при определении размера вознаграждения за оказанные в уголовном судопроизводстве юридические услуги. УПК Лихтенштейна, как и австрийский кодекс, закрепляет запрет провокации преступлений (§ 2а). Данная норма появилась в кодексе лишь в 2010 г. Однако текст закона не позволяет сделать вывод о том, что она рассматривается законодателем как составная часть содержания принципа справедливости. В отмененном УПК Лихтенштейна 1913 г. данное положение излагалось более развернуто: «Органам безопасности, а также всем государственным служащим и сотрудникам учреждений под угрозой сурового наказания (strengster Ahndung) запрещается действовать с целью получения оснований для подозрения или изобличения подозреваемых таким образом, чтобы они побуждались к совершению, продолжению или окончанию уголовно наказуемого деяния или посредством определенных лиц склонялись к признанию, которое затем должно быть сообщено суду» (§ 9). В новый УПК оно изначально не перешло, однако впоследствии Кодекс был дополнен приведенным выше параграфом 2а. Предъявляется ли к приговору требование справедливости? Согласно ч. 2 ст. 95 Конституции 1921 г., судьи обосновывают свои решения и приговоры. Аналогичное положение предусматривалось еще в в § 37 отмененной Конституции 1862 г. («Sammtliche Gerichte haben ihren Entscheidungen und Urtheilen Grunde beizufugen»). Что касается законности и справеДливости приговоров по уголовным делам, то УПК Лихтенштейна напрямую их не упоминает, но в данном правопорядке, признающем приоритет международного права, они рассматриваются как общеправовые принципы, в том числе с учетом положений ЕКПЧ 1950 г. (ст. 6 и др.). Логика аналогична той, которой придерживается УПК Австрии. Швейцария Сохранившаяся фреска 1583 г. в бывшем здании Верховного суда Швейцарии в городе Викосопрано (немецкоязычный кантон Граубюнден) гласит: «Справедливость - наивысшая из всех добродетелей» («Gerechtigkeit ist die hochste aller Tugenden»). Таким образом, принцип справедливого судебного разбирательства укоренился в данном правопорядке задолго до принятия ЕКПЧ 1950 г. УПК 2007 г. напрямую закрепляет двуединый принцип, озаглавленный «Уважение человеческого достоинства и требование справедливости» («Achtung der Menschenwurde und Fairnessgebot»). Согласно ст. 3 УПК, органы уголовного судопроизводства на всех стадиях процесса уважают достоинство затрагиваемых лиц и обращают внимание, в частности: 1) на основные положения веры и религии; 2) требование, состоящее в том, что со всеми участниками процесса необходимо обращаться, исходя из их равноправия и справедливости, и предоставлять им право на судебные слушания; 3) запрет при собирании доказательств применять методы, унижающие человеческое достоинство. В ранее действовавших кантональных законодательствах принцип уважения человеческого достоинства был закреплен в качестве самостоятельного, в частности, в УПК Санкт-Галлена (мы рассматриваем УПК только немецкоязычных кантонов Швейцарии, коих в общей сложности 21). В данном контексте весьма необычно выглядит ст. 1 данного Кодекса, согласно которой на протяжении всего производства обвиняемый рассматривается в качестве человека (сравните с оригиналом: «Im ganzen Verfahren ist der Beschuldigte als Mensch zu achten»). Имеется ввиду, что необходимо с уважением относиться к его человеческому достоинству. Некоторые кантональные процессуальные кодексы закрепляли именно принцип справедливости, не желая его соединять с принципом уважения человеческого достоинства и другими началами уголовного процесса. Согласно ст. 4 УПК Фрибура («Faires Verfahren»), производство должно осуществляться по справедливости; государственные органы, в частности, следуют таким началам, как: а) презумпция невиновности; б) запрет повторного уголовного преследования; в) свободная оценка доказательств; г) требование, состоящее в предоставлении каждому права на заслушивание перед судом (права на судебные слушания); д) равенство возможностей сторон; е) соразмерность и субсидиарность; ж) основные положения веры и религии; з) требование ускорения. Данный подход представляет в компаративном отношении значительный интерес. Фрибурский законодатель предлагает рассматривать большинство основных положений уголовного процесса в качестве составных элементов принципа справедливости. Вместе с тем он отделяет от него законность, независимость, следственную максиму, имеющие самостоятельное значение наряду с ним. Добавим и то, что швейцарский принцип уважения человеческого достоинства и требование справедливости по своему содержанию близки к уважению чести и достоинства личности (ст. 9 УПК РФ). При этом в рассматриваемом правопорядке специально не выделяется принцип неприкосновенности личности и охрана прав и свобод человека и гражданина. Необходимость соблюдения данных начал в Швейцарии подразумевается, и законодатель не счел необходимым специально закреплять их. В Постановлении ЕСПЧ по делу Наит-Лимана против Швейцарии от 15 марта 2018 г. суд указал, что, хотя ЕКПЧ 1950 г. напрямую не говорит о праве на доступ к правосудию, тем не менее, оно входит в содержание права на справедливое судебное разбирательство. Это вполне логично, так как если правоохранительные органы необоснованно откажутся от открытия уголовного судопроизводства, то потерпевший не сможет реализовать свои права и добиться справедливости. Авторы Цюрихского комментария к УПК Швейцарии обращают внимание на то, что принцип справедливого судебного разбирательства касается не только обвиняемого, но и всех участников уголовного процесса, являющихся частными лицами: заявителя, потерпевшего, жертвы преступления и др. [18. C. 20]. По их мнению, остальные принципы и субъективные права, перечисленные в ст. 6 ЕКПЧ, в той или иной степени непосредственно направлены на реализацию fair trials. Авторы Базельского комментария к УПК Швейцарии утверждают, что гарантии справедливого судебного разбирательства адресуются прежде всего государству. Оно обязано создать такие условия, при которых рассмотрение уголовного дела будет наиболее справедливым [19. C. 35]. При этом, поскольку УПК Швейцарии однозначно запрещает злоупотребление правом (ст. 3 ч. 2 п. «b»), частные лица обязаны по меньшей мере не препятствовать органам уголовного судопроизводства в достижении этой задачи при производстве по делу. В швейцарской доктрине обращается внимание на тесную связь справедливого судебного разбирательства и разумных сроков судопроизводства. Показательно, что профессор Патрик Гуидон завершает статью с длинным названием «Уголовно-процессуальный кодекс Швейцарии. Основные идеи, новеллы и возможные практические последствия: взгляд из кантона Санкт-Галлен» в журнале Jusletter словами немецкого политика Манфреда Роммеля (1928-2013): «Это суеверие юриста, что справедливости тем больше, чем до
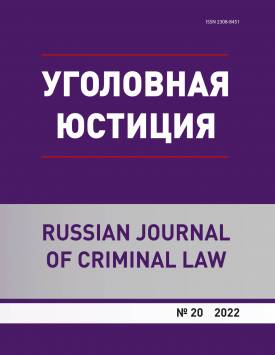

 Вы можете добавить статью
Вы можете добавить статью