Исходя из предпосылки, что звук каждого инструменталиста - явление сугубо индивидуальное, неповторимое, автор пытается объяснить причины появления «дурного» звука и определить условия для создания прекрасного и одновременно уникального звучания инструмента. Для этого предлагается рассматривать звучание арфы в момент игры на ней как результат закономерного взаимодействия многих компонентов. Из этих компонентов объективным характером обладают авторский текст, звуковые особенности и техническое состояние инструмента, а также волновая природа звука как физического явления, зависящего от акустики помещений и даже погодных условий во время исполнения. Субъективный характер при обучении в системе «учитель - ученик» имеет уровень компетентности педагога, его отношение к делу и к ученику.
The culture of the game, the sound production and the sound of harpists.pdf В современном мире в игре на музыкальных инструментах слушателем ценятся прежде всего виртуозность (скорость), яркость звучания (громкость), чистота интонации, игра без ошибок [1. С. 71], эффектность в поведении музыканта на сцене (подчеркивание движениями тела движения музыки). Реже ценятся высокие художественные достоинства самой музыки и адекватное им ее художественное исполнение. Хотя композиторы, создающие арфовые опусы (и не только арфовые, а для любого инструмента), прежде всего слышат внутри себя тембр этого определенного инструмента, его насыщенность и полноту звука в каждой ноте. Но арфисты, как и другие инструменталисты, преследуют другие цели: скорость игры и эффектность донесения нотного текста до слушателя, вне его музыкального содержания, которое передается чаще всего не через скорость, а через соотношение и связь между собой звуков по их силе, протяженности и окраске. В.Г. Дулова как-то раз сказала мне (после того, как я сыграла ей Прелюд до мажор С. Прокофьева): «Техникой теперь никого не удивишь». Действительно, у подавляющего большинства арфистов теперь с техникой все в порядке. И у этого же подавляющего большинства арфистов есть проблемы со звуком, которые невозможно прикрыть даже отличными акустическими качествами современных итальянских и американских арф. От чего же зависит волшебное звучание арфы в момент игры? От исполнителя? От инструмента? Или от каких-либо других внешних обстоятельств? Как и в какой степени проявляется такая зависимость? В данной статье сделана попытка найти ответы на эти вопросы. Автор пытается выявить взаимосвязь и взаимозависимость между плохим качеством звука, извлекаемого арфистом, низким уровнем культуры его игры на арфе и качеством самого инструмента независимо от устройства последнего. Но прежде всего он стремится найти причины появления этих недостатков, которые могут крыться в недостатках преподавания, в физиологи- 196 ческом строении рук, кистей и пальцев играющего, в низком уровне его общей культуры (в том числе культуры поведения), в равнодушии к звуку или в неумении слышать себя, в слабой музыкальной одаренности. Кроме того, еще важно выяснить соотношение малой триады (подсистемы) «культура игры - звукоизвлечение - звук» с большой триадой (системой) «музыка - исполнитель - инструмент». Не следует думать, что плохое звучание присуще игре только современных арфистов, что оно появилось после изобретения педалей, а в прошлом у тех, кто играл на простейших видах инструмента, был поистине волшебный звук. Хотя изменение тембра у арфы в сторону его ухудшения действительно произошло из-за появления в ее устройстве металлических частей, даже у однорядной педальной арфы системы И.Хр. Гохбруккера. А после нововведений С. Эрара, по свидетельству И. Бакофена и Фр. Надермана, тембр арфы ещё более исказился [2. С. 2]. Проще всего объяснить плохое звучание состоянием именно самого инструмента, тем более что его легче всего распознать слушателю. Примером такой реакции могут служить отзывы московской печати в 1831 г. на концерты «первой арфисты короля Франции» Алины Бертран. Ее игрой восхищались такие большие музыканты, как М.К. Огиньский [3. С. 17] и М. Шимановская [4. № 40], а ее приезд широко рекламировался русской прессой [5, 6]. После первого сольного концерта арфистки «Листок» отозвался так: «…посетителей было много, но посетители не были удовлетворены: дурной инструмент, невзирая на все старания и искусство Арфистки, не соответствовал блестящей игре ее… Инструмент дает важную разницу, и особенно арфа, в которой малейший недостаток заметен и неприятен» [5]. После второго концерта Бертран «Листок» снова отозвался: «Ловкость в движениях Арфистки и стройность участвуют много в произведении приятного впечатления… но не можем не заметить опять, что инструмент не соответствует игре г-жи Бертран» [5]. Что мог подразумевать рецензент под «дурным инструментом»? Скорее всего, стук педалей, дребезжание вилок, лязг басовых струн друг о друга и даже резкое звучание верхнего регистра арфы при игре в нюансе forte. Но эти недостатки, которые списывают обычно на счет «дурного» инструмента, относятся, на наш взгляд, именно к культуре игры на нем. Всего этого можно и должно избежать. Ведь нельзя же предположить, что у «первой арфисты короля Франции» Алины Спади Бертран инструмент был не в порядке, или чтобы в петербургских и московских домах Строгановых, Куракиных, Шереметевых держали неисправные инструменты. Или что в оперных театрах Петербурга и Москвы не было хороших арф. Про их «дурное» звучание непременно написали бы те же Ф. Булгарин или князь П. Шаликов, которые пристально следили за всеми гастролерами и всей музыкальной жизнью страны. Однако и более компетентный в делах искусства В.Ф. Одоевский тоже не смог одобрительно отозваться об арфе. В 1837 г. в Петербурге появился знаменитый французский арфист Казимир Беккер, игравший по пятипальцевой системе м-м де Жанлис. Причину его неуспеха Одоевский объясняет в письме к М.С. Волкову, который просил князя помочь гастролеру в устройстве концертов: «Я… не мог ничего сделать… для арфиста Беккера; впрочем, он 197 сам виноват; арфа - инструмент сухой в концерте и нелюбимый нашею публикою, а он пустил билеты по 25 рублей; но что всего хуже, собравши немногих слушателей, он не позаботился собрать оркестр, чего у нас также не любят; к большой беде певица, которая должна была петь, занемогла, скрипач Гауманн не приехал и таким образом Беккер явился в огромной зале с одною своею арфою, можете себе вообразить, какой эффект произвела ета проделка! С тех пор Беккер не приподнялся, но как он имеет истинный талант, то я с своей стороны употреблял все доступные10 мне средства для его поддержания; в газетах было помещено несколько статей, в гостинных было сказано несколько проповедей. К несчастью, талант его понятен только знатокам, его пиесы длинны, ему аплодировали, но вообще не нравился». [7. С. 803-804] Сравнительные характеристики крупнейших арфистов последней четверти XIX в. англичанина Джона Томаса и профессора Петербургской консерватории Альберта Цабеля находим в рецензии В. Соловьёва: «…в… своих пьесах г. Цабель доставил то удовольствие, которое может доставить такой перворазрядный солист, вполне обладающий техникою своего инструмента, умеющий выказывать свое мастерство и эффектно и музыкально. Если сравнить г. Цабеля с бывшим здесь в прошлую зиму, пользующимся громкою известностью лондонским арфистом г. Томасом, то пальма первенства принадлежит г-ну Цабелю. Г. Томас столько же играл, сколько настраивал11, в игре его, наряду с проблесками большой виртуозности, было много незаконченного, ему случалось спутываться, начинать сызнова, чего с таким солидным музыкантом, как г. Цабель, никогда не случается и случиться не может» [8]. А вот отзыв, пожалуй, наиболее профессионально ценный рецензента газеты «Morning Post» на игру Николая Петровича Девитте после первого выступления арфиста в Лондоне в марте 1844 г.: «Звучание де Витте совершенно великолепно, оно плавно и богато и не имеет ничего общего со стандартной „струнностью“. Его туше очень деликатно и в то же время энергично. Его трель - совершенство, особенно когда делается четырьмя пальцами, эффект совершенно электризующий. Его восходящие и нисходящие гаммы блестящи, его терции и квинты в быстрых пассажах производят сенсацию. …Мы восхищаемся главным образом его певучестью (cantabile)12 - оно действительно великолепно. В его стиле нет ничего от холодного вычисления профессора. Он вдохновлен своим инструментом, который в его руках не производит впечатления сухого, «жилистого» и враждебного, но он говорит, поет, полный живых звуков, он заставляет почувствовать силу мелодии и удовлетворяет музыкантов тем, что такие эффекты исполнены на наиболее неблагодарном инструменте» [9]. Как следует из отзывов современников на игру лучших арфистов Франции и Англии, стран с наиболее развитыми арфовыми школами в XIX в., у большинства из них были проблемы со звуком, а игра и звучание инструмента в руках русского арфиста были исключением. Каким же должен был быть идеал арфиста? Среди многих школ и метод, изданных в Европе в XVIII- XIX вв., он описан только в Школе Франсуа Надермана. Его эстетическое кредо: «…уверенность, ровность в звучании, точность в игре рук и ног, гиб- 198 кость, прелесть, сила и мощь без дранья струн - таковы трудности арфы, которые надо преодолеть, чтобы сформировать талант, полный вкуса и истины» [2. С. 7]. Во всех этих цитатах можно встретить определения «сухой», «жилистый», «враждебный», которым противопоставлены такие слова, как «певучий», «богатый», «ровность в звучании», «сила и мощь». Можно ли эти качества относить только к устройству арфы или к техническому состоянию инструмента? Или к содержанию музыки? Ведь нельзя думать, что в большой триаде «музыка - исполнитель - инструмент» именно инструмент занимает более важное место, чем сама музыка. Хотя они настолько связаны между собой и так зависят друг от друга, что крайне трудно в малой триаде вычленить, что относится к культуре игры, что к звуку и что к звукоизвлечению. В рецензии на игру Алины Бертран подчеркивалось, что состояние инструмента снижало общее впечатление от игры арфистки. Значит, инструмент должен быть всегда в порядке. А это относится к культуре игры. В письме В.Ф. Одоевского причиной провала гастролей К. Беккера стало неумелое составление программы и низкое качество музыки. В отзыве на игру Дж. Томаса претензии были к долгой настройке, недоученности музыкального текста, ошибкам и остановкам. Но и эти недостатки и огрехи относятся к культуре игры. К тому же такие требования, как содержание инструмента в порядке, его тщательная настройка, доученность текста и чистота исполнения, необходимы при игре на всех без исключения инструментах. Именно эти требования ставит во главу угла в своей книге «Искусство игры на арфе» замечательная советская арфистка В.Г. Дулова. Она пишет: «В заключение всего изложенного в этом разделе13 хочу подчеркнуть, что главную роль в развитии исполнителя играет самоконтроль над звукоизвле-чением, педализацией, ритмом, точностью передачи музыкального текста, не говоря уже о тщательной настройке инструмента. Все эти принципы, определяющие сложный путь формирования арфиста, объединены в лаконичную формулу: „порядок в игре“, которая, как девиз в современном исполнительском искусстве игры на арфе, должна быть поставлена на службу раскрытия музыкального образа произведения и выявлять выразительные и виртуозные свойства арфы» [10. С. 153]. Из этой цитаты понятно, что к игре на арфе уже в XX в. предъявляются те же требования, что и к игре на всех других инструментах. То есть В.Г. Дулова пишет о необходимости именно культуры игры, без которой адекватного исполнения музыки быть не может. В не меньшей степени (судя по цитате) ее заботит звукоизвлечение, т.е. постановка, от которой зависит и техническая составляющая игры, и качество звука. Это качество, вернее, сумма качеств, делающих звук арфы подлинно прекрасным, была дана уже при оценке игры Н.П. Девитте английским рецензентом: звучание должно быть плавно, богато, деликатно, энергично и главное - певуче. Еще ранее они были даны в Школе Фр. Надермана: в звуке должны быть гибкость, прелесть, сила и мощь без дранья струн. Оба этих определения качества звука в основных чертах - плавность и гибкость, богатство тембра и его прелесть, энергия, сила и мощь - совпадают. А так как от природы звука с такой суммой качеств 199 не бывает и проявляется он лишь в момент игры, то его надо добиваться в процессе обучения. Какие недостатки квалифицируют звук как «плохой» и как педагог может и должен это исправить? «Плохим» чаще всего называют звучание неровное, поверхностное, сухое, «с песком», с обилием призвуков, что связано непосредственно с физиологией и психофизиологией играющего [11. С. 57]. У начинающих недостатки, зависящие от физиологии, проявляются сразу. Причинами неровного звука могут быть слабые кончики пальцев, продавливание из-за их слабости последних фаланг, плохие «подушки» на пальцах и плохая растяжка между ними. Эти недостатки звука можно преодолеть, давая ученикам упражнения на укрепление последних фаланг пальцев и на растяжение между ними. При этом нельзя требовать от начинающих громкой игры, чтобы не вызвать появления напряжения в кистях и плечах ученика, пока не окрепнут его пальцы, не появятся подушки и не увеличится растяжка. Поэтому приходится мириться в первые годы обучения с тихим звучанием [12. С. 19]. Эти же особенности физиологического порядка могут быть причинами пестрого звука. Он возникает не только из-за разницы в величине и силе всех пальцев между собой, в разной степени развитости каждого пальца, но и в различном положении при игре 2-3-4-го пальцев на струнах и 1-го пальца, в разной удаленности их от струны (например, у 2-го и 4-го пальцев), в разных размерах подушек на пальцах. И этот недостаток возможно преодолеть в процессе музыкального развития ученика [10. С.147], при появлении у него способности слышать свою игру [1. С. 73]. К психофизиологическим причинам появления поверхностного звучания следует отнести боязнь боли. Дело в том, что при многократных нажимах на струну одним и тем же кончиком пальца действительно возникает болевое ощущение, и чтобы от него избавиться, перестают нажимать на струну с прежней энергией. Струну слегка отпускают, но при этом она выскальзывает из-под пальца, трется о его подушку и слышен (очень тихий) скрип. В этот момент струна теряет силу и издает неполноценный, поверхностный («серый», безтембровый) звук «с песком». Этот «недожим» на струну входит в привычку и, к сожалению, у большинства таких «боящихся боли» остается на всю жизнь вместе с «серым» звуком [12. С. 19]. Далее можно назвать причины плохого звучания, не зависящие от физиологических и психофизиологических особенностей играющего. К таким недостаткам относятся, прежде всего, призвуки различного происхождения. Именно в момент игры наиболее заметна связь этих недостатков между собой и взаимозависимость между культурой игры, звукоизвлечением и качеством звука арфиста, так как они определяются одновременно и общим уровнем его культуры, и преподаванием. Призвуки могут возникнуть от того, как ставятся пальцы на незвучащую струну (особенно на басовые струны), от ногтей играющего (которые всегда приходится стричь коротко), от прикосновения пальца к вибрирующей струне («дзиньканье»), от ползанья пальцами вверх и вниз по струнам (тихий свист). Все они («грязная игра») свидетельствуют о низкой культуре звукоиз-влечения, и педагог обязан предостеречь ученика от их появления. Если ученик все-таки играет «грязно», то виноват учитель. Значит, он сам был равнодушен к качеству звука своего воспитанника [1. С. 73-74]. 200 Непосредственно к культуре игры относятся призвуки, связанные с огрехами от передвижения педалей. Это стук от брошенной, рано отпущенной, не доведенной до упора педали, звук от перестановки каблуков [10. С. 144-145]. Педальные призвуки могут возникать от общей неловкости играющего (неуклюжесть), из-за его плохого вестибулярного аппарата, когда он не может быстро соотнести между собой движения рук и ног. Чаще они говорят о недоученности текста, тогда как необходимо заранее точно устанавливать, с каким движением рук в каком такте и даже на какой доли такта следует мгновенно и бесшумно приготовить ногу и переставить педаль. Одновременно к культуре звукоизвлечения и к культуре игры можно отнести технику гашения: всегда должна быть в «поле слышания» играющего чистота гармонии. Ее мешает услышать постоянное гудение струн арфы [13. С. 2-3]. Поэтому необходимы привычка и умение гасить ненужные звуки на паузах и даже ненужные отдельные ноты и звуки в аккордах во время игры отдельными пальцами, ладонями одной или обеих рук и - постоянно, как только освобождается левая рука от игры, - гасить вибрацию басовых струн. [10. С. 171] Все вышесказанное - хорошие руки, умение себя слышать, правильное звукоизвлечение, борьба с призвуками и педальной грязью - это предпосылки грамотной профессиональной игры. Однако продолжительность, окраска и объемность звука все-таки предопределяются постановкой рук. И тут на первый план выходят личность педагога и особенности школы, представителем которой он является. Существуют разные школы, воспитанников которых можно сразу определить по качеству звука. Легкий, в сущности, поверхностный звук - у представителей классической французской школы. Музыкально грамотная игра с быстро гаснущим не певучим звуком - качество арфистов Чехии. Зависимость от качества инструмента прослеживается у арфистов США и Англии. На «чужих» инструментах они перестают «звучать». Кроме того, всеобщее увлечение скоростью, для достижения которой в жертву, как правило, приносится звук, сказывается, к сожалению, на представителях всех школ мира. Постановка рук включает в себя разворот кисти по отношению к плоскости струн, степень близости пальцев к струнам, направление движения пальцев при щипке струны - вдоль плоскости струн или под углом к ней. Влияет на звук также то место, каким подушка пальца касается струны (ближе к ногтю или дальше от него), играют ли пальцем от его основания или только его последними фалангами («царапают» струны с получением соответствующего звука). Все это уже не относится ни к физиологии, ни к психофизиологии ученика, а лишь к компетенции преподавателя. Отклонения от данных условий (в пределах принципов постановки, принятой в определенной школе) возможны уже в силу субъективных особенностей играющего. Но соблюдение основных методических установок обучения дает в результате те качества звука, которые отличают национальные школы друг от друга, помимо их других характерных признаков. Все вышесказанное относилось к компетенции арфиста, где он - лишь один из компонентов большой системы «музыка - исполнитель - инструмент», в которой музыка является главной составляющей. Однако анализ особенностей исполняемой музыки не входит в задачи автора статьи, но через личность играющего эта система связывается с подсистемой «культура игры-звукоизвлечение-звук», которой и посвящено данное исследование. Третьим компонентом большой системы является сама арфа. Ее природа и ее качество, по нашему мнению, могут быть непосредственно связаны со звуко-извлечением и качеством звука независимо от физических и психофизиологических особенностей арфиста. Инструмент может быть в полном порядке и хорошо настроен. Но у разных арф бывает разная мензура (расстояние между струнами), разные высота, ширина деки, зависящие от размеров инструмента, слабая или тугая натяжка струн. Из-за особенностей каждой арфы может изменяться положение кисти на деке, сила нажима на струну (на тугих струнах она больше, что может вызвать излишнее напряжение у играющего). Существуют инструменты с тихим, глухим, звенящим или коротким звуком. Приспосабливаясь к арфе, исполнитель в чем-то вынужден менять манеру звукоизвлечения. Так, конкретный инструмент диктует свои правила игры на нем, которые в конечном счете влияют на звук в момент игры. На эту связь указывает в своей статье и В.Ю. Григорьев: «Инструментальное движение (т.е. звукоизвлечение. - Н.П.)… совершается в пределах самостоятельной сферы сознания и действия, в единой системе „человек - инструмент“ (в этом смысле неверно психологически говорить, что исполнитель играет НА инструменте (выделено В. Григорьевым. - Н.П.); это может создавать определенное ощущение „отчужде-ния“ инструмента от человека, нарушать целостную систему» [14. С. 70]. Казалось бы, при соблюдении всех условий, касающихся культуры игры и звукоизвлечения на отличном и хорошо настроенном инструменте, в результате все же должен появиться волшебный звук у каждого арфиста. Но и у звука как физического явления есть свои качества, с которыми музыканту приходится считаться. Это длина и скорость распространения звуковой волны, амплитуда (громкость) и частота ее колебаний (высота звука). И громкость, и высота прямо относятся к характеристикам музыкального звука, к которым еще следует отнести такую важную составляющую, как тембр. Как пишет английский физик Д. Тиндаль, звук зависит от плотности и температуры воздуха: «В воздухе определенной плотности и упругости известная длина волны всегда соответствует одинаковой высоте тона». Однако «при одинаковой длине волн высота тона могла бы быть выше в теплом воздухе, чем в холодном, потому что волны могли бы быстрее следовать одна за другою» [15. С. 53]. То есть сам звук зависит от условий, в которых он возникает, и эти условия сказываются на его продолжительности, высоте и даже тембре. Эти же условия влияют и на арфу, и ее настройку, так как арфа представляет собой, как акустический феномен, одновременно и гигантский барометр, и гигрометр. Ее деревянные части и все струны моментально реагируют на повышение и понижение давления (плотность атмосферы) и на влажность воздуха. Есть дни, когда арфу настроить невозможно. Это дни, когда резко меняется погода, прыгают атмосферное давление и температура воздуха. В сухом помещении она может звучать громче и звонче, и глуше - во влажном. А так как во время концертов в больших залах с большим числом публики температура и влажность заметно меняются, то даже хорошо настроенный инструмент расстраивается, а иногда и звук становится глуше. Например, во время дождя в концертах на открытых площадках. Все это говорилось о физических качествах музыкального звука - его громкости, продолжительности и специфической окраске. Но звуки, заключенные в музыкальном произведении, несут на себе печать авторской личности, а при исполнении - и личности играющего. Поэтому звук в момент игры - это не просто акустические достоинства инструмента плюс авторский замысел, но еще и сумма навыков, умений, одаренности, труда исполнителя и его духовной культуры. А низкий уровень общей и музыкальной культуры, неправильное звукоизвлечение, низкая культура игры и даже условия исполнения сразу сказываются на качестве звука, и музыка не получает своего адекватного воплощения.
Тиндаль Д. Звук. М. : Гос. изд-во, 1922. Изд. 3. 327 с.
Григорьев В.Ю. Некоторые проблемы специфики игрового движения музыканта-исполнителя // Вопросы музыкальной педагогики. М. : Музыка, 1986. С. 65-81.
Доброхотов Б.В., Доброхотова В.Б. Введение // Сонаты, вариации и фантазии для арфы. М. : Музыка, 1964. Вып. 2. С. 2-7.
Покровская Н.Н. О качестве звука у арфистов // Вестник Новосибирского музыкального колледжа им. А.Ф. Мурова. Новосибирск, 2012. С. 56-58. С. 12.
Покровская Н.Н. Практическая методика обучения игре на арфе. Новосибирск : Изд-во НГТУ, 2012. 172 с.
Дулова В.Г. Искусство игры на арфе. М. : Сов. композитор, 1975. 229 с.
Соловьёв Н.Ф. Концерты Ауэра, Цабеля, Есиповой // Новое время. 1875. № 38: Музыкальное обозрение.
Morning Post. 1844. 12 March.
Одоевский В.Ф. Письмо к Волкову М.С. от 14 мая 1837 г. // Русская старина. 1880. С. 803, 804.
Московские ведомости. 1831. № 17, 21, 24. Объявления.
Листок (газета). Москва, 1831. Январь-февраль.
Дамский журнал. 1830. Ч. 32, № 40.
Огиньский М.К. Письма о музыке. 1828 г. [Lettres sur musique] // ЦГАДА. Раздел «Польша». Ф. 12. Е. х. 301. Письмо 11.
Nadermann F.J. École ou Méthode raisonnee pour la Harpe. Œ 91. Introduction. Paris : Richault, s.a. I partie. 129 p.
Нейгауз Г.Г. Об искусстве фортепьянной игры. М. : Госмузиздат, 1961. Изд. 2. 319 с.
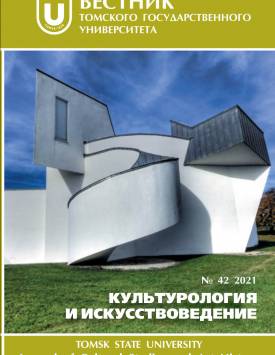

 Вы можете добавить статью
Вы можете добавить статью