Рассматривается проблематика определения современности как культурно-исторической тотальности на материале исследований известного теоретика Бориса Гройса. Важным вкладом философа являются дальнейшая разработка тезиса о художественном языке как основе конструирования современности и «естественный отбор» художественных конструкций современности, который не сводится к постмодернистскому варианту «полилога», а предполагает своего рода ниши и «стабилизации» инвариантов современности, становящихся естественным образом комплементарными в силу простого столкновения/наложения в общем временном контексте. Это не мешает различным политическим силам превращать их в локально доминирующие образы современности (как в случае Gesamkunstwerk Сталина). Современное искусство дает нам некоторый «крючок» простого опыта, чтобы оставалась иллюзия переживания какой-то единой и как будто тотальной современности.
The issue of contemporaneity as cultural and historical totality in the works of Boris Groys.pdf Проблема современности в целом, как и аспект ее возникновения в области художественных практик, вызывает интерес множества исследователей и получила широкое толкование в научных и философских трудах. В общефилософском контексте понятие современности традиционно сопоставляется с исторической ситуацией (О. Шпенглер), освобождением от диктата патернализма и традиций (Г. Гегель, Ф. Ницше), а также субъективным восприятием реальности индивидом (М. Хайдеггер). С нашей точки зрения, эти подходы требуют также поворота к проблеме современности через осмысление тех средств, которыми конструируются и осмысляются координаты современного мира. Кроме того, раскрытие проблемы требует соединения некоего концепта актуального физического времени, не являющегося чисто индивидуальным, с его ценностным содержанием, значимым для многих. На этом основании возникает вопрос языка описания современности, каким, по нашему мнению, может быть искусство. Современность характеризуется через призму формирования представлений о ней в области искусства, как своеобразная художественно-эстетическая реакция культуры на преобладание в ней устаревших тенденций с помощью уникального языка художественных форм (Ш. Бодлер, Ю. Хабермас, Дж. Агамбен, Б. Гройс). Принципиально важной представляется нам в этом аспекте позиция теоретика и историка современного искусства Бориса Гройса, поскольку он, со 6 свойственной ему порой категоричностью, формулирует аргумент следующим образом: идея современности не просто раскрывается через переоценку ценностей и смену состояния в текущий момент, но и конструируется в искусстве через его способность улавливать и передавать «присутствие наличного» таким образом, что это наличное не обусловливается традициями прошлого или стратегиями, нацеленными на успех в будущем [1]. Вместе с тем, утверждая, что «искусство как таковое является социально кодифицированной манифестацией фундаментального равенства между всеми существующими визуальными формами и медиа» [2], Б. Гройс приводит нас к мысли, что в сфере искусства формируется важная рефлексивная дистанция по отношению к различным социально-историческим ситуациям, позволяющая художнику из позиции автономии осмыслить происходящее максимально комплексно в языке художественного образа. Однако важнее всего, на наш взгляд, то, что Б. Гройсу не только удалось провести параллель между культурными и социально-историческими процессами, анализируя влияние художественных стратегий в искусстве на динамику процессов в обществе, но и обозначить контуры одной из самых важных проблем теории и истории культуры - возможности мыслить современность как некую культурноисторическую тотальность. Речь идет о его теории модернизма, согласно которой истоки современности следует искать в манифестации искусства авангарда. Он интерпретирует, по сути, утопический модернистский дискурс, получивший развитие в области художественных практик, через ницшеанскую волю к власти, как переопределяющий логику нового времени. Цель данной статьи заключается в том, чтобы проанализировать разработку проблемы современности в философии Б. Гройса и эксплицировать проблематичность постановки вопроса о современности как культурноисторической тотальности. Авторы считают, что внимательное рассмотрение феномена тотального произведения искусства (Gesamtkunstwerk) как советского сталинского проекта и анализ аргументов критиков Гройса позволяют выстроить аргументы, демонстрирующие важные ограничения на трактовку современности как тотальности. Современность на стыке реальности и изобретающего ее искусства К проблематике современности, включая аспект ее конструирования, Борис Гройс приходит через интерпретирование эстетики и философии модернизма. Он, прежде всего, развивает идеи Ш. Бодлера, наряду с П. Верленом, А. Рембо и С. Малларме входившего в четверку наиболее видных представителей французского символизма, и одним из первых пришедшего к определению современного в области искусства. Поэтическое наследие символистов, в основе которого лежит пересмотр значения и смысла художественных форм, и искусства в целом, сформировало структуру, впоследствии определившую новый стиль европейского искусства рубежа XIX-XX вв., ставшего одним из ярчайших феноменов мировой культуры. Проявившиеся в большей или меньшей степени в их творчестве деструктивные нигилистические тенденции внесли новые оттенки в содержание европейской социокультурной традиции в целом. Развивая нигилистические настроения и определяя современность через формирование представлений о новом в искусстве, Ш. Бодлер 7 отвергал возможность сравнения современности с чем-либо в прошлом. Утверждая, что искусство должно быть по сути современным, он наделял современность императивностью [3]. У Гройса эта мысль трансформируется в представление о современности искусства, основанной на его аутентичности, т.е. оно должно улавливать и передавать присутствие наличного таким образом, что это наличное не коррумпируется традициями прошлого или стратегиями, нацеленными на успех в будущем [4]. Но гораздо важнее, на наш взгляд, что философ связывает нигилистические тенденции символистов с концептуальными основами авангарда ХХ в. и присваивает последнему инициативу в конструировании языка современности на том основании, что оно сумело продемонстрировать переходный характер современного мира, его нестабильность и является «одной из самых ярких исторических манифестаций модернистской интенции» [5. С. 21], характеризуемой принципом индивидуальности, отрицанием традиционных основ и признанием приоритета современного над традиционным. Авангардисты утверждали, что в основе их искусства «лежит ничто» и что они «вышли за нулевую точку, за которой искусственное полностью освобождается от естественного» [5. С. 9]. Основной своей целью они видели переход от созерцания к действию, считая задачей искусства преобразование мира, создание Нового Человека и нового общества [5. С. 9]. Проект русского авангарда в целом подразумевал строительство нового мира, «избавившись от балласта прошлого - прошлых слов и прошлых изображений» [5. С. 9], и требовал перехода от изображения мира к его преображению. Революция понималась как полный разрыв с прошлым, включая прошлое тех медиа, посредством которых авангард собирался «сформулировать свое представление о будущем» [5. С. 9]. Преображение же подразумевало выразительные средства сродни техническим. Например, конструктивизм А.М. Родченко, в котором супрематические конструкции интерпретируются как прямое выражение организующей, «инженерной» воли художника, или «инженерная» поэзия В. Хлебникова (в определении Б.И. Арватова, одного из теоретиков конструктивизма) [5. С. 36]. При этом немаловажным значением обладает тот факт, что намерение преобразить мир подразумевало обновление воспринимающей стороны, т.е. публики. Р.С. Осминкин отмечает, что «в раннем советском авангарде творческие и жизненные установки после разрыва с миметизмом и отказа от станковизма были радикально перенаправлены на десакрализацию уже самого „культового пространства искусства“ и сопряжение форм искусства с формами жизни» [6. С. 112]. Советский авангард напрямую включился в культурную политику по «возделыванию» социальной ткани: общество «перековывалось» по-новому через организацию демонстраций и массовых постановок, революционные пьесы и пролетарские суды, архитектуру и обобществление быта. Этот далеко не простой процесс сопровождался острой печатной полемикой и дебатами между разными группами левого крыла авангарда, а также все нарастающим - от критики к прямым репрессиям - вмешательством партийных органов в культурную политику. Борис Гройс явно указывает на смещение вектора с искусства как культурного производства на искусство как жизнетворчество и созидание нового 8 человека: русский авангард ставил перед собой задачу не создать искусство, которое нравится или не нравится элите или массам, а создать массы, которым нравится хорошее, т.е. авангардное, искусство [5. С. 6]. Художники-авангардисты не пытались предложить публике свою художественную продукцию с тем, чтобы та вынесла эстетическое суждение по ее поводу - сама эта публика «должна была стать предметом его собственного эстетического суждения». И его целью было «не критиковать власть, но учредить собственную власть и осуществлять ее максимально радикальным способом» [7. С. 47]. «Русский авангард рассматривал себя не как искусство критики, а как искусство власти, способное управлять жизнью российских граждан и всего мира» [7. С 47]. Можно сказать, что с целью построения нового мира и нового человека в нем, авангард привнес в мышление радикальное утверждение доминанты подсознательного над сознательным в человеке и возможности логического и технического манипулирования этим подсознательным [8. С. 24]. Взяв за основу бескомпромиссную и одновременно влиятельную позицию художников русского авангарда, направленную против природы и естества, стремившихся к радикальному преобразованию человеческого сознания средствами искусства, которые включали все виды творчества, Гройс приходит к определению средств, описывающих современность. Согласно его позиции, современность возникает на стыке реальности и изобретающего ее искусства, как реакция культуры на устаревшие репрезентативные формы. При этом идея современности не просто раскрывается через переоценку ценностей и смену состояния в текущий момент, но и конструируется в искусстве через его способность улавливать и передавать «присутствие наличного» таким образом, что это наличное не обусловливается традициями прошлого или стратегиями, нацеленными на успех в будущем [1]. Таким образом, можно сделать вывод, что Б. Гройс интерпретирует по сути утопический модернистский дискурс, получивший развитие в области художественных практик русского авангарда через ницшеанскую волю к власти, как переопределяющий логику нового времени, включая пересмотр системы общественных и индивидуальных ценностей [8. С. 334]. При этом очевидно, что модернизм с его основаниями и логикой обновленного мировоззрения, применительно ко всем сферам культуры, создал условия для формирования прогрессивных концепций и точек зрения относительно природы нового, впервые связывая его именно с областью искусства. Gesamtkunstwerk - художественно-политический проект И. Сталина В работе «Gesamtkunstwerk Сталин» (1987) Борис Гройс раскрывает одну из своих главных блем в трактовке созидания нового ственной жизни в своеобразного Gesamtkunstwerk, в основе которого культивируется идея искусственного органического единства средств выразительности и образных элементов различных видов искусства в рамках самостоятельного художественного произведения, конституируемого по законам гармонии, целостности, синхронности. Такая синтетическая форма изящного искусства является отражением действительности и постоянно переносится в будущее, как прообраз преодоления разорванности человеческого общества и культуры. Он утверждает: теоретических интуиций и одновременно ключевых просовременности - современности как тотального проекта мира. Он проводит параллель между организацией обще-России в ХХ в. и реализацией художественного проекта - «Художественный проект, следуя своей собственной имманентной логике, становится художественно-политическим проектом» [5. C. 42]. В первые годы советской власти авангард не только пытался политически реализовать на практике свои художественные проекты, но и сформировал специфический тип художественно-политического дискурса, где каждое решение относительно эстетической конструкции художественного произведения оценивалось как политическое решение, и наоборот, каждое политическое решение оценивалось, исходя из его эстетических последствий. Например, конструкции В. Татлина, А. Родченко рассматривались ими самими не как самодостаточные произведения искусства, а как модели новой организации мира, как лабораторная разработка единого плана овладения мировым материалом. В своих рассуждениях Б. Гройс отождествляет эту практику непосредственно с формированием языка описания современности. Согласно Б. Гройсу, развитие дискурса авангарда привело к его же гибели, однако сменившая его сталинская эпоха осуществила главное требование авангарда о переходе искусства от изображения жизни к ее преображению методами тотального эстетико-политического проекта, сформировав новый тип отношения к действительности. Гройс видит сходство в целях и политических стратегиях авангарда и соцреализма: оба движения стремились к построению нового общества, созданию нового человека, новой формы жизни и для достижения этого претендовали на политическую власть. В рамках эстетики сталинского периода за искусством признавали не только конструктивную, организующую, но и агитационную функцию, поскольку и в этой своей функции оно не просто отражает жизнь, а реально способствует ее перестройке. «Изобразительное искусство как искусство фантазии можно считать тогда оправданным, когда оно играет для его создателей, равно как и для всего общества, роль предварительной подготовки к переделке всего общества» [5. С. 48]. Место художника-авангардиста, преображающего мир и конструирующего современность как тотальное произведение искусства, в конце 1920-х занимает партийное руководство, а затем лично И. Сталин, для которого вся страна и человек вместе с его мышлением и «внутренним миром» стали художественным материалом, подлежащим упорядочиванию. Создание новой реальности, «современной», отличной от прежней, устаревшей, стало детерминироваться как всеобщий социально-политический проект, некий Gesamtkunstwerk. Таким образом, Б. Гройс приводит нас к представлению о том, что в основе современности лежит тотальность. Можно сказать, что советская современность рассматривается им как единое тотальное произведение искусства (Gesamtkunstwerk), создаваемое в сталинскую эпоху из реальности в процессе преобразования сознания индивида и общества средствами искусства. В этой связи вполне оправданно рассматривать объекты советского искусства (например, живопись, архитектуру) как элементы, части пропагандисткой медиальной машины, своего рода тотальной социальной инсталляции. Таким образом, удается сопоставить концептуальный пафос эстетики авангарда и сталинский тоталитаризм, связывая формирование советской реальности с завершением проекта авангарда, стремившегося к созданию нового общества и нового человека. Инструментом реализации данной идеи подразумевается тотальность, которая, в соответствии с этой логикой, становится основой возникновения (определения) современности. Теория обмена и искусство постсовременности По сути, эта тотальность с ее ссылкой на «волю к власти» и потенциалом к преобразованию сути вещей трактуется Б. Гройсом как основа инновационного обмена, характеризующего постсовременность. Речь идет о расширении области искусства за счет внесения в нее профанных элементов, спровоцированном концептуально-философскими практиками радикального авангарда. Уже для Нового времени существенной становится не оппозиция «прекрас-ное/безобразное», а оппозиция «искусство/неискусство» или, даже точнее, «культура / профанный мир», так как именно внесение (перенесение) профанного элемента через границу между ними и объявляется актом искусства. Теория «инновационного обмена» позволяет философу соединять общетеоретический дискурс с критическими замечаниями по поводу ситуации современного искусства, близкими разоблачительному пафосу и констатации кризиса радикального постмодернизма. В соответствии с лаконичным определением Ж. Деррида, который характеризует ситуацию постмодерна как «конец конца», Гройс приходит к заключению, что постмодернистский период не предполагает завершения. В своих более поздних работах Борис Гройс указывает на наличие признаков тотального произведения у менее значимых форм, таких, например, как кураторский проект в современном искусстве. Как замечает философ, кураторский проект «инструментализирует все выставленные произведения, заставляя их служить сформулированной куратором общей цели» [9. С. 14]. Все элементы в составе инсталляции, созданной куратором или художником (как процессуальные произведения искусства (фильмы, видео, музыка и т.д.), так и повседневные предметы, документы, тексты), а кроме того архитектура пространства, наполняющие его звуки и свет лишаются своей автономии и начинают работать на ту целостность, в которую включены также зрители. Таким образом, любой кураторский проект в конечном счете демонстрирует свой случайный, контингентный, событийный, конечный характер - свою временность [9. С. 14]. «Новый куратор выступает как новый диктатор, который стирает следы предыдущей диктатуры» [9. С. 14]. В этой связи каждый кураторский проект приобретает природу временного Gesamtkunstwerk'а [9. С. 14] и основан на противоречии предыдущим, традиционным историкохудожественным нарративам (в противном случае, при отсутствии такого противоречия, кураторский проект лишен смысла и теряет легитимность). При этом основная цель этих временных кураторских диктатур, с точки зрения Б. Гройса, заключается в том, чтобы погрузить художественный музей в поток - сделать искусство текучим, синхронизировать его с течением времени [9. С. 14]. 11 Исторический контекст формирования Gesamtkunstwerk. Теория Г. Зедльмайера Многие исследователи (по преимуществу традиционные историки искусства) критикуют Гройса за спекулятивную отвлеченность и пренебрежение реальным художественным материалом, за попытку радикализировать и максимально расширить поле действия описанного им механизма и, как следствие, глобализацию теории инновации (М.Ю. Берг), подмену значений культурно-исторических факторов (М.А. Колеров), обобщение понятий искусства и его восприятия, отрицание специфической ценности искусства с целью придания уникального значения процедуре переоценки ценностей (М.Н. Липовецкий), вызванной внесением ненормативного элемента в поле традиционной культуры, излишне критический пафос замечаний по поводу ситуации современного искусства, параллельно предлагаемые взаимоисключающие способы интерпретации художественных достижений (теоретизирование современного искусства и его ироничное обличение). Однако, как справедливо замечает В. Мизиано, книги Б. Гройса - это не историко-художественные исследования, а скорее концептуально-теоретические эссе, и являют собой не столько исследования, сколько интеллектуальную провокацию. В этом контексте Б. Гройс предстает мыслителем, который обращается к прошлому для обсуждения исключительно актуальных проблем. Он показывает сегодня, что советское прошлое было фактом современности, причем одним из наиболее ярких и радикальных ее проявлений, опровергая существующее представление, что советский опыт лишен исторического статуса. Признание модернизационного смысла за семидесятилетним советским опытом (в том числе и за опытом художественным), по мнению В. Мизиано [10], возвращает мощный ресурс актуальности. Следовательно, актуально-провокационные жесты Гройса обращают нас к тому дискурсивному инструментарию, в котором теоретики и художники приучают нас говорить о современности. Ухватить советскую современность, столь отличную от ее западной или азиатской версии, позволяет аргумент о вторичном раскрытии модернизма как авангарда через сталинский художественно-политический проект. Очевидно, что философская позиция Б. Гройса обладает серьезным концептуальным потенциалом, и вариант интерпретирования современности как единого тотального произведения искусства (Gesamtkunstwerk), создаваемого в сталинскую эпоху из реальности в процессе преобразования сознания индивида и общества средствами искусства, безусловно, впечатляет своей категоричностью и кажущейся убедительностью. Кроме того, представляется логичным сопоставление искусства русского авангарда с более поздней сталинской культурой вместе с попыткой Б. Гройса радикально изменить точку зрения на художественный авангард ХХ в. с его отношением к так называемой тоталитарной эстетике. Однако, несмотря на кажущуюся очевидность приводимых доводов и исторических фактов, возникает сомнение в первичности и справедливости некоторых утверждений философа. Например, согласно М. Колерову, Б. Гройс умалчивает, что образ Gesamtkunstwerk, идущий от «синтетического искусства» Р. Вагнера, до него применил к сфере искусства, культуры и общества Г. Зедльмайр [11. С. 4], с которым Б. Гройс даже вступает в полемику в отношении его исторического применения, не называя при этом имени автора. При этом на основании трудов Г. Зедльмайера можно увидеть, что в основании сталинского тоталитаризма лежит более широкое явление, чем русский авангард с его эстетикой отрицания и разрушения, и, следовательно, выводы о возможности сопоставления современности с тотальностью с философии авангарда кажутся поверхностными. ее истоками в концепцию в анализа в ис- Ганс Зедельмайер, разрабатывавший структуралистскую искусствоведении и ставший основоположником структурного кусстве, вкладывал в определение тотального произведения искусства несколько иной смысл. Он пытался оценить искусство XX в., определяя его как антиискусство нового столетия, которое открыло зрителю глаза на деформированные формы и в целом на дестабилизирующие силы истории [12. С. 61]. Искусство представляет для Г. Зедльмайера инструмент для глубинной интерпретации духовных процессов. Он отыскивает в истории искусства так называемые критические, т.е. радикально новые, формы, в которых можно распознать симптомы невидимых духовных сдвигов кризисного характера [13. С. 29]. Зедльмайер проводит аналогию симптоматических процессов современного искусства с душевной болезнью, сближая экспрессионизм с депрессивными, футуризм - с маниакально-психотическими состояниями, кубизм и конструктивизм - с утратой чувства реальности, сюрреализм - с шизофренией. Ученый определяет эти процессы как «потерю душевного равновесия эпохи» [14. С. 105]. В работе «Утрата середины» (1948) он прослеживает признаки «скрытой революции» на материале европейского искусства ХХ и ХХI вв. Утрата середины - образ, объединяющий и упадочные явления искусства, и те бытийные сдвиги, симптомом которых выступают современная архитектура и живопись. Утрата середины происходит во многих смыслах. Искусство лишается своего объединяющего средоточия, перестает быть необходимым средним звеном между духовной и чувственной сферами, становится «эксцентрическим». Наконец, искусство и человек лишаются опоры в человеческой природе как таковой, всегда бывшей всеобщей мерой, центром мира, серединой между верхом и низом. Модернизм ХХ в., эмансипируясь от этической миссии и содержательного смысла, приходит к рабству неорганических форм; бетонно-стальные конструкции, которыми окружает себя человек, символизируют неограниченную власть над веществом, обретенную ценой распада человеческого существа на функции [14. С. 128]. Доводы Г. Зедельмайера очевидно свидетельствуют, что для современности характерно соединение художественной практики с серьезной фундаментальной теорией, часто в одном лице (В.В. Кандинский, М. Дюшан, А. Бретон, Лe Корбюзье) [12. С. 44]. Хорошим примером, в частности, является художественная практика К.С. Малевича, основоположника концепции супрематизма, который в рамках своей философской теории определял всякое творчество как «конструирование способа преодолеть бесконечный прогресс» [5. С. 31]. Основываясь на представлении, что «процесс разрушения, редукции должен быть доведен до конца, чтобы таким образом найти далее нередуцируемое, внепространственное, вневременное и внеисторическое, на чем можно было бы закрепиться» [5. С. 31], К.С. Малевич приходит к супрематизму с его редукцией в картине любого возможного конкретного содер- 13 жания, т.е. знаком чистой формы созерцания, предполагающей трансцендентальный, а не эмпирический субъект. Предметом этого созерцания является для К.С. Малевича абсолютное ничто (то ничто, к которому и стремится, с его точки зрения, всякий прогресс), совпадающее с космической первомате-рией, или, иначе говоря, чистой потенциальностью всякого возможного существования, раскрывающейся за пределами любой наличной формы. «Урон, нанесенный миру техникой, должен, таким образом, и компенсироваться технически, причем хаотический характер технического развития должен смениться единым тотальным проектом реорганизации всего космоса, в котором Бога должен сменить художник-аналитик» [5. С. 32]. Движение супрематизма, возглавляемое К.С. Малевичем, основывалось на постулировании необходимости преодоления человечеством телеологического принципа разума и отказа от предметного мира вещей в пользу чистой беспредметности [15. С. 106]. Так, он призывал двигаться к «cупрематиче-ской конструктивности, обеспечивающей Новую форму», заявляя, что «мы сейчас проникаем в будущее и чувствуем Новый физический вид мира» [16. С. 189]. По мнению Р.С. Осминкина, это свидетельствует о присутствии «продуктивного эстетико-политического напряжения» в раннем советском авангарде, где супрематизм стал главным конструктивным фактором как художественного формотворчества, так и социального жизнестроения» [6. С. 113]. Модернизация и современность. Духовные сдвиги кризисного характера Рассматривая аргументы Гройса выше, мы уже обращали внимание, что подведение фундаментально-теоретической основы под явление тоталитаризма становится связующим звеном между авангардом, пострадавшим от собственного стремления к абсолютному отрицанию, и сталинским тоталитаризмом, реализовавшимся через волю к власти, в теории Б. Гройса. Вместе с тем М.А. Колеров отмечает, что на основании трудов того же Г. Зедельмайера можно увидеть в сталинизме «нечто более масштабное, широкое и интернациональное, нежели простое умозрительное родство с русским авангардом, а именно его исторический контекст - общеевропейский индустриализм, рационализм и позитивизм» [11. С. 4]. По мнению М.А. Колерова, возникновению сталинизма скорее способствовали капиталистическая индустриализация, военно-экономический опыт Первой мировой войны, индустриальная «политика населения» (биополитика), традиционная для российских государственных деятелей задача углубления стратегической безопасности России, а также мировая практика соединения репрессий и мобилизации принудительного труда. В таком контексте рассматривать феномен сталинизма только в масштабах России кажется неправильным. Он скорее основывается на философии западного модерна, став его продолжением, отразив основные принципы европейской политики. Вместе с тем кажется неубедительной попытка определить современность как идею через тотальность, характеризующую эпоху всеобщей индустриализации. Если внимательнее рассмотреть процесс создания современной промышленности (техническая модернизация) и индустриального общества, основанного на специализации и управлении человеком не только в политической, но 14 также в производственной и других сферах, то можно прийти к заключению, что он, во-первых, значительно шире понятия сталинизма, характеризующего авторитарный режим. И, во-вторых, требуя масштабных ресурсов и затрат на реформирование общества и производства, индустриализация не подразумевает тотального подчинения, а наоборот - оставляет за индивидом и обществом право выбора. В широком смысле - это глубокое обновление социально-экономических, политических, культурно-духовных основ жизни общества путем различных нововведений и усовершенствований. Модернизация подразумевает сложные, глобальные, взаимообусловленные социокультурные процессы, которые протекают во всех сферах жизнедеятельности общества и определяют степень его готовности и способности к эволюции. Это всеобъемлющее явление, включающее в себя различные инновационные мероприятия по структурной и функциональной дифференциации общества, профессионализации, бюрократизации, рационализации, стандартизации, урбанизации, индустриализации и т.д., что должно привести к переходу от традиционного общества к современному. Необходимо учитывать, что совокупность инновационных мероприятий не является суммой самостоятельных, отдельно протекающих в историческом времени и иерархично устроенных актов. Они представляют собой взаимосвязанный, взаимовлияющий и взаимодействующий механизм модернизации. В настоящее время термин чаще всего употребляется в связи с переходом ряда стран в постиндустриальное состояние. Из критических аргументов Колерова следует, однако, важный вывод не против, а скорее за аргументы Гройса. Толкуя Зедельмайера, он апеллирует к еще более масштабной универсальной тотальности индустриального модерна как фундаменту сталинского проекта. Тогда как Гройс, напротив, в итоге демонстрирует смещение акцента на сам инструмент толкования и раскрытия модернистского проекта в культурно-исторической ситуации советского союза, специфика которого в том, что о нем не получится говорить на языке индивидуалистического и потребительского дискурса капиталистической индустриализации. И если мы имеем дело с инвариантом советской современности как тотальным произведением искусства, то разговор о современности требует обращения к искусству как инструменту ее конструирования. Именно поэтому в теории современности всегда всплывает имя Ш. Бодлера. Его попытка характеризовать современность через область модернистского искусства и придать ей свойство императивности («искусство не может не быть современным») кажется в этой связи оправданной и получила развитие в европейской философии. В частности, представитель «второго поколения» теоретиков Франкфуртской школы, Ю. Хабермас, также считает идею современности неотделимой от сферы искусства, отождествляя при этом современность с незавершенностью и характеризуя качественную определенность современного общества и культуры как процесс «незавершенного модерна» [17. С. 128]. Как следствие, он называет модерн «проектом современности» [18. С. 22]. В этой связи, как отмечает Н. Фархатдинов, искусство модерна ХХ в. отличается от искусства предшествующих эпох тем, что оно перестало выполнять какую-то одну определенную функцию, которую требовала от художника социальная ситуация (система патронажа, религиозное предназначение произведений искусства и т.д.). Согласно Р. Уиткину, модернист- 15 ское искусство обозначает свою позицию относительно общества, стремясь изменить окружающий мир, вторгаясь в повседневность и расширяя сферу эстетического, а также критикуя общество путем утверждения и защиты права художника на независимое и непредвзятое высказывание, его автономию и дистанцию по отношению к обществу [19. С. 81]. Те фундаментальные координаты современности, о которых неоднократно сказано в философских и культурно-исторических исследованиях, складываются вместе именно через осмысление искусства, вместе с определением сложных, глобальных, взаимообусловленных социокультурных процессов, которые протекают во всех сферах жизнедеятельности (модернистского) общества и степенью его готовности к эволюции. И если для модернизма сущностно характерно совпадение разрушения с созиданием, то как раз такую логику предлагают искусство (футуризм) и его политическая версия сталинского режима. Модернизм, как утверждал Ж. Бодрийяр вслед за В. Бенбямином, приводит нас в мир знаковых симулякров и симуляций. И это также исходит из логики художественных практик, когда за художником остается право решать, что будет оригиналом, а что - копией. Модернизм развивается в логике освобожденного художественного знака, преодолевая разделение на сферу искусства и жизни (прежде всего, в дизайне), разрушая антидемократичную иерархию искусств, основанную на более высоком статусе одной культуры и низком статусе - других. Благодаря развитию технологий в ХХ в. копии (посредством технических средств и позднее - цифровых и электронных устройств) в искусстве получили возможность приобретать статус оригиналов, позволяя непрофессионалу приобретать статус творца. Согласно Б. Гройсу, это объясняется тем, что перевод в новый формат не является копированием, а условно - исполнением. Поскольку исполнение всегда индивидуально, неповторимо, копия приобретает статус оригинала, неповторимого образа. В связи с тем, что искусстве модернизма происходит освоение актуального физического времени через переход от создания объекта искусства к созданию художественного события, которое интенционально задает для себя поле, ключевое значение приобретает контекст художественного пространства, в соответствии с чем возникает необходимость ответить на вопрос: где кончается искусство и где начинается реальность? Этим принципом пронизана вся современная цифровая культура, структуры которой построены на глобальном производстве реального времени сетевых технологий. Нематериальный цифровой мир фундаментально идентичен такому искусству, в котором нет необходимости в самом произведении - его физическом наличии. Именно с эпохи модерна в искусстве появляется некий комментарий к тому, что делает художник (или, как принято говорить, к художественному жесту), к самому художественному действию, формализующий (оправдывающий) его существование и разъясняющий волю художника. Событие и комментарий, действие и текст: перейдя от создания произведения к художественному жесту, современный художник как бы пропускает момент создания произведения, произведение не становится столь важным, а важным становится именно то, что художник предлагает какую-то новую практику, которая выводит этот объект (признаваемый за объект искусства) за пределы уже признанного поля, но таким образом поле расширяется и объект, тем не 16 менее, принимается этим полем. Это отражает важный тренд, характеризуемый как движение от пространства ко времени. Он привел к тому, что современное искусство движется от вещи к процессу, от материального, идентичного образа - в область перформанса. Нет визуального - есть визуализация. Искусство дематериализуется и все больше тематизирует время. Заключение Борис Гройс знаменит не только как теоретик, но и как куратор художественных проектов и открыватель миру творчества советского/российского художника Ильи Кабакова (обычно его имя упоминают вместе с супругой и соавтором Эмилией). Основные работы Кабаковых представлены в жанре тотальных инсталляций. Например, в работе «Туалет» (1992) произведена реконструкция школьного туалета, в котором какое-то время приходилось жить его матери. Здесь тотальность советского/сталинского проекта как-бы выворачивается наизнанку, превращаясь в ничтожный миф, демонстрируя ложность и фальшивость громких лозунгов и претензий, разбиваясь о бытовую экзистенциальную драму простого человека. Тотальная инсталляция выступает в качестве иллюзии реальности и сконструированной критической модели современности. Сталинский проект провален. Но современность снова здесь - в новом языке нового искусства. Кабаковы рушат сталинизм и созидают новые псевдохристианские утопии спасения, как в работе «Человек, улетевший в космос» (1985). Они копируют советский быт с его кухнями и туалетами и лишают оснований вопрос о подлинности и копии. Художники перезапускают язык современности, а проблема тотальности остается проблемой инварианта тотального описания. Оно, как мы видим у Гройса, неизбежно, но и инвариантно и вписано в логику культуры как художественного конструирования. Означает ли это, что современностей и современных времен много? По нашему мнению, аргументы Гройса приведут нас к политическому ответу на этот вопрос, имея ввиду «естественный отбор» художественных конструкций современности, который, однако, не сводится к постмодернистскому «полилогу», а предполагает своего рода ниши и «стабилизации» инвариантов современности, становящихся естественным образом комплементарными в силу простого столкновения/наложения в общем временном контексте. Что не помешает, тем не менее, различным политическим силам превращать их в локально доминирующие (как в случае Сталина). И именно искусство (современное) дает нам некоторый крючок простого опыта, чтобы оставалась иллюзия пе
Хабермас Ю. Модерн - незавершенный проект // Политические работы. М., 2005. С. 16-19, 22-28.
Фархатдинов Н.Г. Роберт Уиткин. Разжевывая Клемента Гринберга. Абстракция и два лика модернизма // Социологическое обозрение. 2010. Т. 9, № 2. С. 81-86.
Фурс В.Н. Философия незавершенного модерна Юргена Хабермаса. Минск, 2000.
Малевич К. Собрание сочинений : в 5 т. М. : Гилея, 2004. Т. 5: Произведения разных лет: Статьи. Трактаты. Манифесты и декларации. Проекты. Лекции. Записи и заметки. Поэзия.
Малевич К. Собрание сочинений : в 5 т. М. : Гилея, 2000. Т. 3: Супрематизм. Мир как беспредметность, или Вечный покой: с приложением писем К.С. Малевича к М.О. Гершензону (1918-1924).
Зедльмайр Г. Искусство и истина. О теории и методе истории искусства / пер. с нем. С.С. Ванеяна. М. : Искусствознание, 1999.
Ельшевская Г. История искусства как логическая система: обзор переводов книг классиков зарубежного искусствознания. М. : НЛО, 2002. № 53. С. 28-35.
Тасалов В.И. Ганс Зедльмайр. Дилемма хаоса и порядка в постмодернизме 50-70-х гг. // Искусствознание Запада об искусстве ХХ в. М. : [Б.и.], 1988. С. 43-71.
Колеров М.А. Большой стиль Сталина: Gesamtkunstwerk Alsindustriepalast // Философско-литературный журнал Логос. 2015.Т. 25, № 5 (107). С. 1-32.
Гройс Б. Политика поэтики. М. : Ад Маргинем Пресс, 2012.
Гройс Б. Утопия и обмен. М. : Знак, 1993.
Гройс Б. В потоке. М. : Ад Маргинем Пресс, 2016.
Мизиано В. Gesamtkunstwerk Гройс // Художественный журнал. 2004. № 55. URL: http://xz.gif.ru/numbers/55/28/ (дата обращения: 20.06.2018).
Осминкин Р.С. Политики раннесоветского авангарда: от «беспредметности» к «жизне-строению» // Вестник культуры и искусств. 2016. № 4 (48). С. 111-117.
Гройс Б. Gesamtkunstwerk Сталин. М. : Ад Маргинем Пресс, 2013.
Гройс Б. Товарищи времени // Художественный журнал. 2011. № 81. URL: http://moscowartmagazine.com/issue/16/article/218 (дата обращения: 15.07.2020).
Калинеску М. Идея современности // Художественный журнал. 2016. № 98 URL: http://moscowartmagazine.com/issue/31/article/541 (дата обращения: 03.10.2018).
Гройс Б. Топология современного искусства // Художественный журнал. 2006. № 61/62. URL: http://moscowartmagazine.com/issue/36/article/696 (дата обращения: 5.10.2018).
Гройс Б. Логика равноправия // Художественный журнал. 2005. № 58-59. URL: http:// http://moscowartmagazine.com/issue/30/article/508 (дата обращения: 10.04.2021)
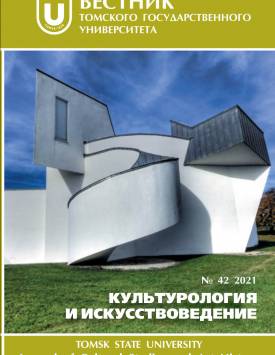

 Вы можете добавить статью
Вы можете добавить статью