Проблема социально-экономической дифференциации пространства в аспекте региональной неолиберальной политики
В работе, основываясь на методах качественного ретроспективного и причинно-следственного анализа текстов научных статей, опубликованных по тематике исследования в реферативных базах данных публикаций отечественных и зарубежных учёных, установлено, что к настоящему времени неолиберальная концепция стала глобальной парадигмой универсального (экономического, социально-демографического, культурного, экологического и др.) развития большинства государств мира. При этом было определено, что одним из ключевых положений данной концепции является дерегулирование процесса распределения ресурсов (государственного невмешательства в экономику), что на практике, в процессе реализации государственной региональной политики, привело к повсеместному росту социально-экономической дифференциации территорий. Последнее, в свою очередь, вступает в противоречие с заявленными целями глобального (в документах ООН, Всемирного банка и других международных организаций) и регионального развития, предполагающих сокращение уровня неравенства между странами и внутри них. Исходя из результатов проведенного анализа, авторы исследования предполагают, что в настоящее время, в рамках господствующей неолиберальной парадигмы, решение приоритетов выравнивания социально-экономического пространства является спорным. Теоретическая значимость результатов выполненного исследования состоит в расширении теоретико-методологических представлений о процессе социальноэкономической дифференциации территорий, рассматриваемой в аспекте реализуемой неолиберальной политики.
The Problem of Socioeconomic Differentiation of Space in the Aspect of Regional Neoliberal Policy.pdf Введение Как на глобальном (ЦУР ООН), так и региональном (государственные нормативно-правовые акты) уровнях одной из приоритетных целей социально-экономического развития является сокращение уровня дифференциации между странами и внутри них. Выполнение данной цели должно способствовать повышению качества экономического роста (путем более рав- 1 Статья подготовлена в рамках государственного задания ФГБУН «Институт экономики УрО РАН» на 2021-2023 гг. К. С. Гончарова 22 номерного распределения его результатов между экономическими агентами), стабильности государственного развития (в том числе благодаря сплоченности общества), а также уровня жизни населения. Однако, как показывает практика, декларируемая цель, вследствие непрерывного роста дифференциации, находится в противоречии с глобальной парадигмой неолиберального развития, принятой в качестве модели государственного управления в большинстве стран мира. Ключевым положением последней является невмешательство государства в функционирование рынка, в том числе и условия распределения его результатов - основы неравенства. Таким образом, целью настоящего исследования являлось раскрытие проблемы роста социально-экономической дифференциации локальных территорий в аспекте приоритезации на глобальном и региональном уровнях неолиберальной модели пространственного развития. Основным методом, используемым в работе, являлся качественный ретроспективный и причинно-следственный анализ текстов научных статей, опубликованных по тематике исследования в реферативных базах данных, публикаций отечественных и зарубежных учёных (eLIBRARY, Scopus, Web of Science). Используемые методы позволили раскрыть основные закономерности и следствия развития рассматриваемых в работе процессов и явлений: с одной стороны, концепции неолиберализма, с другой - явления социально-экономической дифференциации территорий (в контексте рассматриваемой концепции). Также информационной базой исследования выступали данные Федеральной службы государственной статистики, представленные в статистическом бюллетене «Формирование местного самоуправления в Российской Федерации» за 2007-2020 гг. (максимальный период, за который бюллетени выложены на сайте rosstat.gov.ru), содержащем сводную информацию о муниципальных образованиях, сформированных в субъектах Федерации в соответствии с ФЗ от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» [1]. Результаты В исторической ретроспективе становления неолиберализма, ставшего к настоящему времени доминирующей на глобальном уровне мировоззренческой парадигмой, можно выделить ряд этапов, представленных на рис. 1. Первый этап, охватывающий первую половину XX в., характеризуется формированием теоретико-методологических основ неолиберализма. Так, принято считать, что основные принципы неолиберализма были обозначены в качестве реакции научного сообщества на кризисные явления в политике и экономике - Великой депрессии и надвигающейся Второй мировой войны [2], которые уже не могли быть объяснены и разрешены в рамках прежней теоретической парадигмы. При этом сам термин «неолиберализм» был введен в научный оборот в 1938 г. на «Коллоквиуме Липпмана» Проблема социально-экономической дифференциации 23 по одной версии французским промышленником и экономистом Л. Марлио [3], по другой - немецким социологом и экономистом А. Рюстовым [4]. Коллоквиум был организован философом Л. Ружье на базе Международного института интеллектуального сотрудничества для обсуждения направлений обновления ключевых идей либерализма [3]. Тот факт, что коллоквиум проводился в Институте, созданном Комиссией международной интеллектуальной кооперации Лиги Наций (в 1926 г.) [5], преобразованном в 1945 г. в ЮНЕСКО [6], говорит о изначально глобальном подходе предлагаемой концепции. 3. Установление глобальной неолиберальной парадигмы о реализация неолиберальной политики в странах бывшего социалистического блока 1. Формирование теоретикометодологических основ о коллоквиум Липпмана (1938 г.); о открытие «Международного исследовательского комитета по реновации либерализма» (1939 г.); о основание общества «Мон Пелерин» (1947 г.) Первая половина XX в. «■ Начало 70-х - 90-е гг. XX в. - настоящее время конец 80-х гг. XX в. 2. Становление и продвижение идеи о правительственная хунта Чили (1973 г.); о «тэтчеризм» (1979-1990 г.); о «рейганомика» (1981-1989 гг.). Рис. 1. Этапы формирования неолиберальной концепции развития Помимо У. Липпмана, Л. Марлио, А. Рюстова, в коллоквиуме также приняли участие ведущие философы и экономисты Европы и Америки: Ф. фон Хайек (Австрия, Великобритания), В. Ойкен (Германия), В. Рёпке (Германия) [4], Л. фон Мизес (Австро-Венгрия, США), Р. Арон (Франция), Л. Ружье (Франция), Ж.Л. Рюэф (Франция) [7], Л. Боден (Франция) [8] и др. Результатами коллоквиума стали формулировка ключевых положений неолиберализма, а также открытие в июле 1939 г. «Международного исследовательского комитета по реновации либерализма» (CIRL) [8] и основание в апреле 1947 г. Ф. фон Хайеком общества «Мон Пелерин». В то же время, по замечанию A. Brennetot, до начала 1950-х гг. «”неолиберализм” в основном оставался французским термином, используемым для обозначения авторов, связанных с этим движением» [3, с. 32]. Следующий заметный этап становления и продвижения концепции «неолиберализма» в литературе часто ограничивается периодом с начала 70-х по конец 80-х гг. XX в. [9, 10]. Он характеризуется началом практической реализации неолиберальных идей в государственной политике отдельных стран мира. В обозначенный период неолиберальная политика К. С. Гончарова 24 пришла на смену социальному интернационализму и концепции государства всеобщего благосостояния [11]. Данный этап связан, с одной стороны, с возникшими в 1970-1980-х гг. кризисами (нефтяного кризиса (1973 г.) и отказом от Бреттон-Вудского соглашения (1971-1978 гг.)), с другой - началом практического внедрения сформулированных ранее теоретико-методологических положений неолиберализма в реализуемую социально-экономическую политику стран - Чили (Правительственная хунта Чили, 1973-1990 гг.), Великобритании («тэтчеризм», 1979-1990 гг.), США («рейганомика», 1981-1989 гг.). В более умеренном виде (в отличие от Великобритании и США) неолиберальная социально-экономическая политика также была проведена в Канаде, Новой Зеландии, Германии, Нидерландах, Франции, Италии и Швеции [12]. Помимо названных развитых капиталистических стран, идеи неолиберального государственного управления активно внедрялась и в странах третьего мира. Как отметил в своём исследовании N. Brenner, «после долгового кризиса начала 1980-х годов неолиберальные программы реструктуризации были распространены во всем мире благодаря усилиям США и других государств “большой семерки” по подчинению периферийных и полупе-риферальных государств дисциплине рынков капитала. Бреттон-Вудские учреждения, такие как Генеральное соглашение по тарифам и торговле (ГАТТ) - Всемирная торговая организация (ВТО), Всемирный банк и Международный валютный фонд (МВФ), впоследствии были преобразованы в агентов транснационального неолиберализма и были мобилизованы для институционализации этого расширения рыночных сил и коммерциализации в третьем мире посредством различных программ структурной перестройки и жесткой бюджетной экономии» [12, р. 350]. Третий этап, начавшийся в 90-х гг. XX в. и действующий по настоящее время, характеризуется установлением глобальной неолиберальной парадигмы. Этап связан с распадом СССР и активным внедрением неолиберальной политики в странах бывшего социалистического блока («План Бальцеровича» в Польше (1990 г.), приватизация государственных и муниципальных предприятий РСФСР (1991 г.), либеральные реформы РСФСР (1992 г.) и т.д.). Таким образом, на протяжении всего XX в. неолиберальная концепция активно эволюционировала от абстрактно-утопической идеи, представляющей альтернативу кейнсианству, до глобальной системы социальноэкономического развития большинства государств мира. В настоящее время неолиберализм в различной степени и формах преобладает в стратегических программах действий национальных правительств и международных организаций. Более того, современный неолиберальный подход охватывает также сферы права [13, 14], культуры [15, 16], образования [17] и пр. Рассмотрим основные положения неолиберальной парадигмы. Первоначально они касались, с одной стороны, финансово-экономического дерегулирования [18] при активной государственной поддержке и защите конкуренции [4, 12, 19], с другой - масштабной приватизации государственной и муници- Проблема социально-экономической дифференциации 25 пальной собственности [10], и, как следствие, отказа государства от прямого предоставления значительной части социальных услуг (полная передача услуги или передача услуги на аутсорсинг) [11, 20]. Со временем указанные положения трансформировались и расширились, приоритезирововав финансовую сферу над экономической (т.е. уход от экономической модели развития, основанной на производстве, к инвестиционно-спекулятивной модели) [18]; интересы крупных компаний над общественными [21]; прибыль как оценку деятельности всех сфер жизни общества: политической, экономической, социальной и духовной [12, 21]. К настоящему времени исследователи выделяют следующие последствия реализации обозначенных выше положений неолиберализма (рис. 2). Во-первых, формирование глобальной вертикально ориентированной идеологии национального развития отдельных государств (следствие активной поддержки ценностей и идей неолиберальной концепции международными организациями и руководством транснациональных корпораций) [3, 10] при сохранении и дальнейшем усилении полицентрических тенденций в системе международных отношений [12]. Во-вторых, постепенное изменение, включая сокращение функций государства. В настоящее время данный аспект уже затронул экономикоорганизационную, социальную и охранную функции (в различных государствах в разной степени) [11]. В-третьих, коммерциализация всех сфер жизнедеятельности общества [12, 18], в том числе и дегуманизация человеческой деятельности, её сведение к матерально-производственным возможностям конкурирующего между собой человеческого капитала. В данном аспекте W. Brown замечает, что «все участники рынка превращаются в небольшие капиталы (а не в собственников, работников и потребителей), конкурирующие друг с другом» [21, р. 36]. В свою очередь, из-за необходимости постоянной оценки конкурирующих между собой объектов и структур образовалась тотальная ориентация на показатели (подмена онтологического гносеологическим) [3, 21]. Рис. 2. Основные положения и следствия неолиберальной политики К. С. Гончарова 26 В-четвертых, вместе с процессами глобализации и повсеместной конкуренции усиливаются антагонистические процессы фрагментации социально-экономического пространства. Это касается населения в целом [22], политических партий [19], городов [18] и т.д. Причиной указанных процессов являются, с одной стороны, увеличение форм и количества самоорганизованных локальных обществ и рост зависимости от них индивидов и их групп, с другой - прогрессирующий рост дифференциации [23, 24]. Согласно докладу о мировом неравенстве, подготовленному международной лабораторией неравенства (world inequality lab), «в 2016 году доля национального дохода, приходящаяся на 10% лиц с самыми высокими заработками (верхняя дециль по уровню доходов), составляла 37% в Европе, 41% в Китае, 46% в России, 47% в США и Канаде и около 55% в Африке южнее Сахары, Бразилии и Индии. На Ближнем Востоке, являющемся, по нашим оценкам, регионом с самым высоким уровнем неравенства, верхняя дециль получала 61% национального дохода» [25]. В докладе отмечается, что в большинстве стран мира рост дифференциации населения по уровню доходов начался в 80-х гг. XX в. - в период практической реализации неолиберальных идей в социально-экономической политике отдельных государств. Следует заметить, что оба процесса - самоорганизации и дифференциации - находятся во взаимосвязи, а их следствием является рост социального напряжения и уязвимости населения [3, 10, 24]. Как замечает в данном аспекте J. McGuigan, комментируя работу М. Фуко «Рождение биополитики», «неолиберализм не ограничивается экономикой и государственной политикой в общепринятом смысле, но он представляет собой схему социального переустройства и дизайн для изменения поведения личности» [26, р. 7]. Вообще в социально-гуманитарных исследованиях проблема фрагментации социально-экономического пространства в последнее время стала одной из центральных. При этом особое внимание уделяется локальным территориям как основополагающей форме самоорганизации населения. В большинстве работ, исследующих обозначенную проблему в аспекте неолиберального подхода (исследования W. Brown [21], S. Musterd и W. Ostendorf [9], P. Smets и T. Salman [27] и других авторов), под пространственной фрагментацией понимается процесс возрастающей дифференциации социально-экономического развития внутри территории или между их группами, возникшими вследствие реализуемой на федеральном уровне политики сокращения, полного прекращения или перенаправления в отдельные типы поселений (например, приоритезация развития городских поселений перед сельскими) государственных расходов и услуг. Одним из ключевых следствий пространственной фрагментации МО является стимулирование развития процессов их конкуренции за необходимые для выживания ресурсы (включая и нематериальные, например, трудовые). Отметим, что указанное следствие имеет решающее значение в анализе сущности явления «локальная территория» (административно-территориальное образование), которая в результате развития неолиберальной идеологии становится хозяйствующим субъектом и товаром [18, 26, 28]. Проблема социально-экономической дифференциации 27 Следует заметить, что дифференциация между локальными территориями рассматривается в литературе, в основном, в контексте классической дихотомии различий уровней жизни в городских и сельских поселениях [9, 29], а исследования дифференциации внутри них направлены на анализ степени раздробленности пространства, чаще городского, достигающей в настоящее время отдельных жилых комплексов («gated community») [27]. В первом случае (межтерриториальной дифференциации), анализируя реализуемую политику, учёные указывают на приоритезацию городского развития в ущерб развитию сельских территорий, в данном аспекте N. Brenner и N. Theodore говорят о процессе урбанизации неолиберализма (the Urbanization of Neoliberalism) [12]. При этом ключевое значение в последнем придаётся региональной социально-экономической политике, направленной на создание и активную поддержку развития агломераций -одного из важнейших элементов неолиберальной системы. Так, например, в России необходимость решения подобной задачи неоднократно ставилась на уровне высших органов государственной власти (предложения о создании «полюсов модернизации» (высказаны Президентом Д.А. Медведевым [30]), «точек роста.», концепции «агрессивного развития инфраструктуры» (заместителя Председателя Правительства М.Ш. Хуснуллина [31, 32]), приоритетной поддержке 20 городов (председателя Счётной палаты А. Л. Кудрина [33]), новых городов в Сибири (министра обороны С.Х. Шойгу [34]), а также закреплена в нормативно-правовых актах [35-37]. При этом следует отметить, что одним из следствий обозначенной пространственной политики стало перманентное сокращение сельских территорий. С 2010 г. удельный вес последних в общем объеме муниципальных образований сократился на 1,3%. В наибольшей степени это коснулось регионов Северо-Западного и Центрального федеральных округов ((-) 7,2 % и (-) 3,4 % соответственно) [1]. В то же время за рассматриваемый период удельный вес городских округов в МО увеличился: в среднем по России -на 0,9 % (в СЗФО - 1,8 %, ЦФО - 1,6 %, ПФО - 0,8 %, СКФО - 0,7 %, УрФО - 0,6 %, СФО - 0,4 %, ЮФО - 0,4 %; только в ДВФО удельный вес городских округов сократился на 0,05 %) [1]. Аналогичные результаты (нарастающей урбанизации) реализуемой неолиберальной политики получены и в других странах мира - Украине, Японии, Мексике, Чили [38-41]. Во втором случае авторы акцентируют внимание на том, что дифференциация внутри территориальных образований объясняется не только и не столько объективной необходимостью обеспечения безопасности (путём создания закрытых домовых территорий), сколько фактическими различиями в уровнях доходов групп населения (и, соответственно, различиями между возможностями оплаты жилищно-коммунальных услуг). Так, по замечанию P. Smets, «увеличение числа закрытых сообществ может быть объяснено растущей важностью частной собственности на жилье, растущей социокультурной дифференциацией и переносом ответственности правительства на более низкие и более высокие уровни городского К. С. Гончарова 28 управления, а также на полугосударственных и частных субъектов и субъектов гражданского общества» [23, р. 3]. Результатом указанного процесса являются: социально-культурная сегрегация населения и его анкловизация [10, 23, 27, 42]; углубление проблемы диспропорциональности городского развития, заключающейся, с одной стороны, в уходе от городского планирования, ориентированного на открытость и взаимодействие сообществ, с другой - в росте спекулятивных мероприятий в сферах градостроительства и землепользования [12, 18]. Также в рамках исследований внутритерриториальной социальноэкономической дифференциации осуществляется анализ участия граждан в бюджетном процессе локальных территорий - партиципаторного (инициативного) бюджетирования. Принято считать, что данная практика впервые была реализована в конце 80-х гг. XX в. в Бразилии, в муниципалитетах Санту-Андре (штат Сан-Паулу) и Ипатинга (штат Минас-Жерайс), а также городах Порту-Алегри, Сантус, Пирасикаба и Жуан-Монлевади [43]. Несмотря на то, что положительных результатов в Бразилии удалось добиться только в одном городе - Порту-Алегри, в конце 90-х гг. XX в. на Конференции по населенным пунктам (Хабитат II), организованной ООН, данная практика получила международное признание [44] с рекомендацией её широкого распространения в других странах, в том числе при помощи средств Всемирного банка [45]. В опубликованной в 1997 г. работе советника по городскому финансированию Центра ООН по населенным пунктам К.-Х. Кима [46] указывались следующие ключевые преимущества внедрения данной практики: активизация процесса привлечения частного бизнеса в управление городским хозяйством; децентрализация и сокращение бюджетных расходов центрального правительства; мобилизация дополнительных средств (домохозяйств) в сферу жилищно-коммунального хозяйства; эффективное, справедливое и оперативное предоставление жилищно-коммунальных услуг, исходя из финансовых возможностей граждан [47]. Всё перечисленное в работе К.-Х. Кима вполне соответствует основным положениям неолиберальной модели успешного развития территории, соответственно, в аспекте практики партиципаторного бюджетирования уровень дифференциации территорий также обусловливается различиями в финансовых возможностях их жителей выделять дополнительные (сверх уплачиваемых налогов) средства на поддержание и развитие объектов инфраструктуры. Таким образом, на основе проведенного исследования можно сделать следующие выводы. Во-первых, неолиберальная концепция была предложена как альтернатива кейнсианскому подходу к решению глобальных социальноэкономических и политических кризисов первой половины XX в. Несмотря на то, что её основные положения были сформулированы в рамках Французской классической либеральной школы, её основное развитие в середине XX в. связано, прежде всего, с австрийской (Л. фон Мизес, Ф. фон Хайек) и западногерманской (В. Ойкен, В. Рёпке, А. Рюстов) шко- Проблема социально-экономической дифференциации 29 лами. Начиная со второй половины XX в. ключевые теоретические положения концепции стали реализовываться на практике первоначально в странах Запада и третьего мира, затем, после распада СССР, - в странах бывшего социалистического блока. К настоящему времени неолиберальную парадигму можно обозначить как глобальную, так как её основные положения реализуются в социально-экономической политике большинства государств мира. Во-вторых, в результате практической реализации основных положений неолиберализма парадигма пространственного развития территорий была преобразована, как на глобальном, так и локальном уровнях. В первом случае она заключалась в формировании глобальной вертикально ориентированной идеологии национального развития отдельных государств (в виде деятельности международных организаций и транснациональных корпораций), во втором - в процессе фрагментации социально-экономического пространства внутри стран (вплоть до локальных территорий). В-третьих, реализуемая государственная неолиберальная политика, заключающаяся в максимизации полномочий органов местного самоуправления по фактическому жизнеобеспечению и развитию локальных территорий без обеспечения соответствующего данным задачам финансирования, привела в большинстве стран мира к деградации и исчезновению части городов и еще большего количества сельских поселений. Однако часть территорий (в основном, агломеративного типа) получила дополнительные ресурсы для своего развития (миграционный приток из соседних поселений, связанное с этим развитие инфраструктуры и привлечение средств из федерального бюджета и т.д.). В-четвертых, одним из наиболее опасных последствий неолиберальной пространственной политики, заключающейся, помимо прочего, в дерегулировании процесса распределения ресурсов, является рост социальноэкономической дифференциации территорий и стран. Несмотря на то, что решение данной проблемы (усиления степени дифференциации) заявлено как один из приоритетов глобального развития, в рамках неолиберальной парадигмы, на наш взгляд, его реализация представляется весьма сомнительной.
Ключевые слова
социально-экономическая дифференциация,
фрагментация пространства,
неолиберализм,
неолиберальная политика,
«тэтчеризм»,
«рейганомика»,
цели устойчивого развитияАвторы
| Гончарова Ксения Сергеевна | Институт экономики УрО РАН | кандидат экономических наук, младший научный сотрудник | ksenia.gon4arowa@gmail.com |
Всего: 1
Ссылки
Формирование местного самоуправления в Российской Федерации. Электронная версия статистического бюллетеня. URL: https://rosstat.gov.ru/folder/11110/document/13263 (дата обращения: 14.09.2021).
Lynch C.R. «Vote with your feet»: Neoliberalism, the democratic nation-state, and utopian enclave libertarianism // Political Geography. 2017. Vol. 59. P. 82-91. DOI: https://doi.org/10.1016/j.polgeo.2017.03.005
Brennetot A. The geographical and ethical origins of neoliberalism: The Walter Lippmann Colloquium and the foundations of a new geopolitical order // Political Geography. 2015. Vol. 49. P. 30-39. DOI: https://doi.org/10.1016/j.polgeo.2015.06.007
Невский С.И. Политика порядка для послевоенной экономики: немецкая экономическая наука и теория ордолиберализма в 1939-1945 гг. // Terra Economicus. 2021. № 19 (2). Р. 58-76. DOI: 10.18522/2073-6606-2021-19-2-58-76
Боголюбова Н.М., Николаева Ю.В. СССР и Международный институт интеллектуального сотрудничества. К вопросу о становлении многостороннего культурного взаимодействия (по материалам Архива внешней политики Российской Федерации) // Клио. 2013. № 6 (78). С. 108-111.
ЮНЕСКО. РИА Новости. URL: https://ria.ru/20171012/1506718911.html (дата обращения: 09.09.2021).
Jennings J. Beacon of Liberty Amid Depression. Standpoint. 2009. URL: https://standpointmag.co.uk/beacon-of-liberty-amid-depression-february-09-jeremy-jennings-liberalism-paris/(дата обращения: 09.09.2021).
Фуко М. Рождение биополитики: курс лекций, прочитанных в Коллеж де Франс в 1978-1979 учебном году / пер. с фр. А.В. Дьякова. СПб. : Наука, 2010. 446 с.
Sako M., Ostendorf W. Cities of Europe: Changing Contexts, Local Arrangements, and the Challenge to Urban Cohesion / еd. by Yuri Kazepov. P. 342. DOI: 10.1002/9780470694046.CH8
Калдор М. Новые и старые войны: организованное насилие в глобальную эпоху / пер. с англ. А. Апполонова, М. Дондуковского; ред. перевода А. Смирнов, В. Софронов. М. : Изд-во Института Гайдара, 2015. С. 180.
Wendy L., McLean H. Neoliberalism, Urban. International Encyclopedia of Human Geography (Second Edition) / ed. Audrey Kobayashi. Elsevier, 2020. P. 359-364. DOI: https://doi.org/10.1016/B978-0-08-102295-5.10675-4
Brenner N., Theodore N. Cities and the Geographies of “Actually Existing Neoliberalism” // Antipode. Project: Neoliberal Urbanism. 2002. Vol. 34 (3). P. 349-379. DOI: 10.1111/1467-8330.00246
Дзуриндин И. Гуманитарная интервенция - инструмент неолиберализма и глобализма // Обозреватель - Observer. 2009. № 2(229). С. 84-94.
Овчинников А.И. Новеллы ювенальной юстиции в контексте идеологии глобализма и неолиберализма // Юридический мир. 2011. № 2. С. 26-30.
Ильин А.Н. Потребительская культура и неолиберализм // Свободная мысль. 2020. № 6 (1684). С. 125-138.
Поломошнов А.Ф., Поломошнов П.А. Неолиберализм как дегуманистическая идеология // Вестник Донского государственного аграрного университета. 2021. № 1-2 (39). С. 38-45.
Романов П.С. Высшее образование и академические библиотеки США в переходный период неолиберализма // Инновационные технологии в современном образовании : сборник материалов VII Международной научно-практической интернетконференции. Королев, 12 декабря 2019 года. Королев : Общество с ограниченной ответственностью «Научный консультант», 2019. С. 433-437.
MacLaran A., Kelly S. Neoliberalism: The Rise of a Bad Idea // Neoliberal Urban Policy and the Transformation of the City. London : Palgrave Macmillan, 2014. DOI: https://doi.org/10.1057/9781137377050_1
Kashwan P., MacLean L.M., Garcia-Lopez G. A. Rethinking power and institutions in the shadows of neoliberalism: (An introduction to a special issue of World Development) // World Development. 2019. Vol. 120. P. 133-146. DOI: https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2018.05.026
Cahill D. «Actually existing neoliberalism» and the global economic crisis // Labour & Industry: a journal of the social and economic relations of work. 2010. Vol. 20, is. 3. Pp. 298-316. DOI: 10.1080/10301763.2010.10669405
Brown W. Undoing the Demos: Neoliberalism’s Stealth Revolution. Cambridge, Massachusetts. London : Zone Books, 2015. DOI: 10.2307/j.ctt17kk9p8
Adduci M. Neo-Liberalism, Mining and Labour in the Indian State of Odisha: Outlining a Political Economy Analysis // Journal of Contemporary Asia. 2017. DOI: 10.1080/00472336.2016.1277252
Peer S. Gated «communities» - their lifestyle versus urban governance // 45th Congress of the European Regional Science Association: «Land Use and Water Management in a Sustainable Network Society». 23-27 August 2005. Amsterdam. The Netherlands, European Regional Science Association (ERSA). Louvain-la-Neuve.
Jessop B. Liberalism, neoliberalism and urban governance: a state-theoretical perspective // Antipode. 2002. Vol. 34 (3). P. 452-472. DOI: 10.1111/1467-8330.00250
Alvaredo F., Chancel L., Piketty T., Saez E., Zucman G. Доклад о неравенстве в мире. Основные положения. 2018. С. 5. URL: https://wir2018.wid.world/(дата обращения: 19.09.2021).
McGuigan J. The Neoliberal Self // Culture Unbound: Journal of Current Cultural Research. Capitalism: Current Crisis and Cultural Critique. 2014. Vol. 6, is. 1. P. 223-240. DOI: https://doi.org/10.3384/cu.2000.1525.146223
Peer S., Salman T. Countering Urban Segregation: Theoretical and Policy Innovations from around the Globe // Urban Studies. 2008. Vol. 45, is. 7. P. 1307-1332. DOI: http://www.jstor.org/stable/43197827
Bislev S. Globalization, State Transformation, and Public Security//International Political Science Review // Revue international de science politique. Vol. 25, № 3: The NationState and Globalization: Changing Roles and Functions. Les Etats nationset la globalisation: Roles et fonctions en mutation. 2004. P. 281-296. DOI: https://www.jstor.org/stable/1601668
Spoor M. From Interventionism to Neo-Liberalism. 1995. DOI: 10.1007/978-1-349-23864-4_8
Заседание президиума Государственного совета «О повышении роли регионов в модернизации экономики России». 11 ноября 2011 года. Хабаровск. URL: http://www.kremlin.ru/events/state-council/13477/work (дата обращения: 20.09.2021).
Хуснуллин посчитал избыточным число регионов в России // РБК. 27.04.2021 г. URL: https://www.rbc.ru/politics/27/04/2021/60880a649a7947fb20699662 (дата обращения: 20.09.2021).
В правительстве планируют потратить на «агрессивное развитие инфраструктуры» около 22 трлн рублей за 9 лет. 26.04.2021. Forbes Media. URL: https://www.forbes.ru/finansy-i-investicii/427779-v-pravitelstve-planiruet-potratit-na-agressivnoe-razvitie-infrastruktury (дата обращения: 20.09.2021).
Кудрин: России необходимо создать 20 крупнейших агломераций // ТАСС. ПМЭФ. 2.06.2021 г. URL: https://tass.ru/pmef-2017/articles/4308990 (дата обращения: 20.09.2021).
Сергей Шойгу - о новых городах в Сибири // РБК. 6.09.2021 г. URL: https://www.rbc.ru/politics/06/09/2021/6131fab69a79471a71a0b412 (дата обращения: 20.09.2021).
Указ Президента РФ от 21 июля 2020 г. № 474 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года». URL: http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&firstDoc=1&lastDoc=1&nd=102792289 (дата обращения: 20.09.2021).
Распоряжение Правительства РФ от 13.02.2019 № 207-р (ред. от 23.03.2021) «Об утверждении Стратегии пространственного развития Российской Федерации на период до 2025 года». URL: http://government.ru/docs/all/120647/ (дата обращения: 20.09.2021).
Проект Федерального закона «О городских агломерациях» (подготовлен Минэкономразвития России, ID проекта 01/05/09-20/00107906) (не внесен в ГД ФС РФ, текст по состоянию на 04.09.2020). URL: https://www.economy.gov.ru/material/news/minekonomrazvitiya_razrabotalo_paket_zakonoproektov_o_razvitii_gorodskih_aglomeraciy_i_mezhmunicipalnogo_sotrudnichestva.html (дата обращения: 20.09.2021).
Наролина Ю.В. Социально-экономическое положение и тенденции развития сельских территорий Воронежской области // Регион: системы, экономика, управление. 2018. № 4 (43). С. 61-67.
Hisano S., Akitsu M., McGreevy S. R. Revitalising rurality under the neoliberal transformation of agriculture: Experiences of reagrarianisation in Japan // Journal of Rural Studies. 2018. Vol. 61. P. 290-301. DOI: https://doi.org/10.1016/j.jrurstud.2018.01.013
Pena-Azcona I., Garcla-Barrios R., Garcla-Barrios L., Ortega-Argueta A., Elizondo C. The unruly complexity of conservation arrangements with Mexican rural communities: Who really funds the game? // Journal of Rural Studies. 2021. Vol. 87. P. 112-123. DOI: https://doi.org/10.1016/j.jrurstud.2021.08.027
Torres R., Azocar G., Rojas J., Montecinos A., Paredes P. Vulnerability and resistance to neoliberal environmental changes: an assessment of agriculture and forestry in the Biobio region of Chile (1974-2014) // Geoforum. 2015. Vol. 60. P. 107-122. DOI: https://doi.org/10.1016/j.geoforum.2014.12.013
Lesutis G. Spaces of extraction and suffering: Neoliberal enclave and dispossession in Tete, Mozambique // Geoforum. 2019. Vol. 102. P. 116-125. DOI: https://doi.org/10.1016/j.geoforum.2019.04.002
Abers R. From Ideas to Practice. The Partido dos Trabalhadores and Participatory Governance in Brazil // Latin American perspectives. 1996. Is. 91, vol. 23, № 4. P. 35-53.
25 вопросов об инициативном бюджетировании : учеб. пособие / В.В. Вагин, Е.А. Тимохина и соавт. М., 2017. 46 с.
Предварительный доклад Конференции Организации Объединенных Наций по населенным пунктам (ХАБИТАТ It). Стамбул, 3-4 июня 1996 г. С. 218. URL: https://undocs.org/ru/A7CONF.165/14 (дата обращения: 08.09.2020).
The United Nations Conference on Housing and Sustainable Urban Development. HABITAT III. 17-20 October 2016. Speakers. Kyung Hwan Kim. URL: http://habitat3.org/the-conference/programme/speakers/kyung-hwan-kim/ (дата обращения: 09.09.2020).
Kim K.-H. Improving local government finance in a changing environment // Habitat International. 1997. Vol. 21, is. 1. P. 17-28. DOI: https://doi.org/10.1016/S0197-3975(96)00037-9
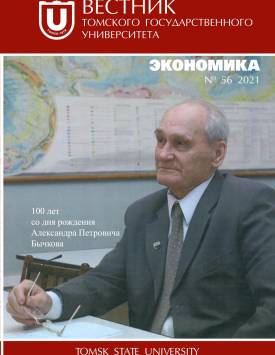

 Вы можете добавить статью
Вы можете добавить статью