Механизмы мантийно-корового взаимодействия на поздних стадиях развития Алтайской коллизионной системы герцинид
На поздних стадиях эволюции Алтайской коллизионной системы герцинид (296-280 млн лет назад) синхронно происходили процессы мантийно-корового взаимодействия по двум различающимся механизмам. Первый - непосредственное взаимодействие мантийных магм с коровыми субстратами и анатектическими выплавками, включая контаминацию базитовых расплавов, сосуществование контрастных по составу магм, химическое смешение магм с образованием гибридных пород. Второй - термальное и флюидное воздействие базитовых магм на коровые субстраты и привнос с ювенильных флюидов, влияющих на процессы анатексиса коровых субстратов или дифференциации гранитоидных магм в коровых очагах.
Mechanisms of mantle-crust interaction at the late stages of evolution of Hercynian Altai collision system.pdf Введение Процессы мантийно-корового взаимодействия играют существенную роль в преобразовании литосферы, формировании и эволюции континентальной коры, определяют закономерности размещения и металлоге-ническую специфику месторождений полезных ископаемых. Исследование их эволюции особенно актуально при реконструкции истории развития аккреционно-коллизионных складчатых поясов, где пространственно совмещены разновозрастные магматические комплексы, образованные в разных геодинамических обстановках и за счет различных (как мантийных, так и коровых) магмообразующих субстратов. Наиболее масштабным примером является Центрально-Азиатский складчатый пояс (ЦАСП), формировавшийся с конца протерозоя до мезозоя в ходе причленения Казахстанского, Таримского и Северо-Китайского континентальных блоков и множества террейнов различной природы к южному (в современных координатах) краю Сибирского палеоконтинента [Моссаковский и др., 1993; Jahn B-M. et al., 2004; Xiao et al., 2010 и др.]. Мантийно-коровое взаимодействие в аккреционно-коллизионных структурах ЦАСП привело к возникновению широкого спектра магматических ассоциаций: гигантских гранитоидных батолитов, сложных габбро-гранитных ассоциаций, бимодальных вулканических серий, массивов специфических щелочных и редкоме-талльных пород [Litvinov-sky et al, 2002; Владимиров и др., 2013; Ярмолюк, Кузьмин, Козловский, 2013; Яр-молюк, Козловский, Кузьмин, 2016 и др.]. Алтайская коллизионная система герцинид была сформирована в позднем палеозое при коллизии Сибирского и Казахстанского континентов [Зоненшайн, Кузьмин, Натапов, 1990; Щерба и др., 1998; Владимиров и др., 2003, 2008]. Процессы коллизионного взаимодействия Сибирского и Казахстанского континентов привели к деформированию осадочных толщ и формированию орогенного сооружения в конце раннего карбона, что фиксируется появлением среднекаменно-угольных (нижний пенсильваний, по международной шкале) континентальных молассовых отложений в отдельных впадинах. Наиболее молодые осадки датируются средним - поздним карбоном, а с начала перми территория развивалась во внутриконтинентальном режиме. Именно на этой стадии, в возрастном интервале 300-280 млн лет, во всех структурно-форма-ционных зонах фиксируется масштабный разнообразный магматизм (рис. 1), представленный субщелочными габброидами и пикритоидами с Cu-Ni-орудене-нием, габбро-гранодиорит-гранитными (андезит-дацит-риодацитовыми) сериями, плагиогранитоидами, щелочными гранитоидами, крупными массивами гра-нодиорит-гранит-лейкогранитов и, наконец, дайковы-ми поясами лампрофиров, редкометалльных гранит-порфиров (онгонитов) и редкометалльных (Li, Be, Cs, Nb, Ta, Sn) гранитных пегматитов [Лопатников и др., 1982; Ермолов и др., 1983; Дьячков и др., 1994; Наво-зов и др., 2011; Хромых, Куйбида, Крук, 2011; Хромых и др., 2013, 2014, 2016; Котлер и др., 2015; Соколова, Смирнов, Хромых, 2016]. Разнообразие магматических ассоциаций свидетельствует о значительном термическом градиенте в литосфере, существенной роли мантии и активном проявлении мантийно-корового взаимодействия. В настоящей работе обобщены результаты петрологических исследований некоторых из перечисленных магматических ассоциаций, выявлены различные механизмы мантийно-корового взаимодействия, приведшие к их формированию. Габбро-гранитоидные интрузии В пределах Чарской структурно-формационной зоны (рис. 1) проявлены относительно крупные Преображенский и Тастауский габбро-гранитоидные массивы. © Хромых С.В., Котлер П.Д., Соколова Е.Н., 2017 DOI: 10.17223/25421379/2/8 Рис. 1. Геологическая схема Алтайской коллизионной системы герцинид 1 - серпентинитовый меланж и сопутствующие породы Чарского офиолитового пояса (G-O); 2 - осадочные и вулканогенные отложения (G-O-S) в Жарма-Саурской зоне; 3 - осадочные и вулканогенные (базальтоиды) отложения (O3-S-D2-3) в Чарской зоне; 4 - вулканогенные отложения средне-кислого состава в Жарма-Саурской зоне (D1-2); 5 - вулканогенные отложения ба-зальт-андезитового состава в Жарма-Саурской зоне (D3); 6 - вулканогенно-осадочные отложения в Калба-Нарымской зоне (кыставкурчумская свита D2gv); 7 - терригенные отложения в Калба-Нарымской зоне (такырская серия, D3-Q); 8 - терриген-ные отложения С1; 9 - вулканогенные базальт-андезитовые отложения Q; 10 - молассовые отложения с базальными конгломератами С2-3; 11 - вулканогенные отложения C2-P1 в мульдах: базальт-андезитовые (а) и дацит-риолитовые (б); 12 - интрузии габброидов саурского комплекса (С1?) в Жарма-Саурской зоне; 13 - интрузии габброидов суровского (таловского) комплекса (С2-3) в Калба-Нарымской зоне; 14 - интрузии габброидов и пикритоидов аргимбайского и максутского комплексов (P1); 15 - интрузии гранитоидов (С1-Р1) нерасчлененные; 16 - постбатолитовые дайки миролюбовского комплекса (P1-2?); 17 - разломы; 18 - рыхлые отложения (N-Q). Цифры в кружках - объекты исследования. Габбро-гранитоидные интрузии: 1 - Преображенский массив; 2 - Тастауский массив. Гранитоиды Калба-Нарымского батолита: 3 - гранодиорит-гранитная ассоциация (кал-бинский и каиндинский комплексы); 4 - гранит-лейкогранитная ассоциация (монастырский комплекс). Редкометалльное ору-денение: 5 - месторождения редкометалльных гранитных пегматитов; 6 - Чечекский и Ахмировский дайковые пояса онгонитов. Составлена на основе Геологической карты СССР м-ба 1:500 000, серия Восточно-Казахстанская, работ [Лопатников и др., 1982; Ермолов и др., 1983; Дьячков и др., 1994; Щерба и др., 1998], и с учетом новейших геологических, петрологических и геохронологических данных [Владимиров и др., 2008; Крук, Хромых, Куйбида, 2008; Хромых и др., 2011, 2013, 2014, 2016; Ермолов, 2013; Котлер и др., 2014, 2015; Соколова, Смирнов, Хромых, 2016] Fig. 1. Geological scheme of Hercynides Altai collision system 1 - serpentinite melange and associated Charsky ophiolitic complex rocks (G-O); 2 - sedimentary and volcanogenic rocks (G-O-S) at Zharma-Saur zone; 3 - sedimentary and volcanogenic (basaltoids) rocks (O3-S-D2-3) at the Chara zone; 4 - intermediate-felsic volcanogenic rocks at Zharma-Saur zone (D1-2); 5 - volcanogenic rocks with basalt-andesitic composition at the Zharma-Saur zone (D3); 6 - volcanogenic sedimentary rocks at Kalba-Narym zone (Kystavkurchum suite D2gv); 7 - terrigenous sediments at the Kalba-Narym zone (Takyr series, D3-Q); 8 - terrigenous sediments Сь 9 - volcanogenic basalt-andesitic rocks Q; 10 - molasse sediments with basal conglomerate С2-3; 11 - volcanogenic sediments C2-Pi in synclines: basalt-andesitic (а) and dacite-rhyolitic (б) ones; 12 - gabbroids of Saur complex (Q?) at the Zharma-Saur zone; 13 - gabbroids of Surov (Talov) complex (С2-3) at the Kalba-Narym zone; 14 - gabbroids and picritic rocks of Argimbay and Maksut complexes (Pi); 15 - granitoids (Q-Pi) undivided; 16 - postbatholitic dikes of Mirolyubov complex (P1-2?); 17 - faults; 18 - incoherent sediments (N-Q). Numbers within circles mark the objects of the study. Gabbro-granitoid intrusive bodies: 1 - Preobrazhensk massif; 2 - Tastau massif. Kalba-Narym batholith granitoids: 3 - granodiorite-granitic assemblage (Kalba and Kaindin complexes); 4 - granite-leucogranitic assemblage (Monastery complex). Rare-metal mineralization: 5 - rare-metal granitic pegmatites occurrences; 6 - Chechek and Akhmir dike belts of ongonites. Composed on the base of Geologic map of USSR (1:500 000), East-Kazakhstan series, works [Lopatnikov et al., 1982; Ermolov et al., 1983; D'yachkov et al., 1994; Shcherba et al., 2016], with taking newest geological, petrological and geochronological data into consideration [Ermolov et al., 1983; Vladimirov et al., 2008; Kruk, Khromykh, Kuybida, 2008; Khromykh, Kuybida, Kruk, 2013; Khromykh et al., 2013, 2014, 2016; Kotler et al., 2014; 2015; 2015; Sokolova, Smirnov, Khromykh, 2016] Они характеризуются разнообразием слагающих их магматических пород (от оливиновых габбро до лейкогранитов), а также их сложными взаимоотношениями между собой. Наиболее детальные исследования были проведены на Преображенском массиве, который характеризуется хорошей обнаженностью и наибольшим разнообразием магматических пород на современном эрозионном срезе. В ходе экспедиционных работ были уточнены внутреннее строение и последовательность интрузивных фаз (рис. 2). В истории становления Преображенского интрузива наблюдается сложная последовательность внедрения фаз: 1) монцониты и кварцевые монцониты 1-й фазы; 2) габбронориты 2-й фазы; 3) биотит-амфиболовые граниты главной (3-й) фазы; 4) внедрение гетерогенной 4-й фазы монцодиоритов и порфировидных граносиени-тов; 5) завершающие дайки 5-й фазы, заполнившие контракционные трещины после остывания массива. Между монцодиоритами и порфировидными граноси-енитами наблюдаются специфические взаимоотношения, которые принято классифицировать как результат взаимодействия в подвижном состоянии и/или смешения магм (процессы минглинга и миксинга). Как мон-цодиориты, так и порфировидные граносиениты встречаются в форме округлых нодулей в гранитах размерами до десятков сантиметров (см. рис. 2); ноду-ли монцодиоритов могут достигать 1-2 м, при этом крупные тела диоритов практически повсеместно окружены ореолом более мелких нодулей, иногда наблюдаются вытянутые рои меланократовых включений. Форма контакта монцодиоритов с граносиенита-ми - фестончатая, характерная для пограничных поверхностей двух жидкостей с разной вязкостью. Мон-цодиоритовые нодули характеризуются средне-мелкозернистой структурой, причем на контакте с гранитоидами размерность зерен заметно уменьшается, свидетельствуя о быстром остывании магмы в контакте с относительно низкотемпературным гранитным расплавом. В порфировидных граносиенитах уменьшение зернистости не отмечается даже в контакте с диоритами. Все породы сохраняют на всех участках первичные магматические структуры и массивные текстуры. Наблюдаемые взаимоотношения хорошо соответствуют признакам внедрения базитовой магмы в магму кислого состава или слабоконсолидированные гранитоиды, сформулированным для случаев взаимодействия магм [Литвиновский и др., 1992; Скляров, Федоровский, 2006; Бурмакина, Цыганков, 2013]. Все породы Преображенского массива характеризуются повышенными содержаниями щелочей, относятся к субщелочному петрохимическому ряду и к породам высококалиевой известково-щелочной и шошо-нитовой серий. Содержания кремнезема варьируют от 48 до 74 мас. %, что свидетельствует об активном проявлении процессов дифференциации. Для всех пород наблюдается закономерное снижение концентраций FeO и TiO2 со снижением магнезиальности и ростом кремнекислотности. Рассмотрение особенностей поведения MgO, CaO, Al2O3, SiO2 свидетельствует, что для габброидов, включая монцодиориты, главным фактором эволюции составов являлось фракционирование оливина и клинопироксена; для гранитоидных пород главную роль играло фракционирование плагиоклаза. Петрохимические данные позволяют предполагать, что ближе всего по составу к родоначальным базитовым магмам биотит-содержащие оливиновые долериты, слагающие дайки, внедрившиеся с сред-некоровых уровней. Фракционирование оливина в субщелочных родоначальных магмах привело к формированию монцогаббро, а их дальнейшая дифференциация с фракционированием клинопироксе-на - к образованию монцодиоритов. Вместе с тем некоторые анализы диоритов демонстрируют наряду с постепенным снижением концентраций MgO, CaO, Al2O3 существенное увеличение кремнекислотности, что обусловлено не только фракционированием кли-нопироксена, но и контаминацией диоритовых магм при взаимодействии с гранитоидами. Это подтверждается и минералого-петрографическими наблюдениями: на контакте с гранитоидами и граносиенита-ми в диоритах увеличивается количество калиевого полевого шпата и кварца, а состав плагиоклаза становится более кислым. Редкоэлементый состав бази-товых пород подтверждает их происхождение из единой первичной магмы: как для габбро, так и для диоритов отмечается преобладание легких лантаноидов над тяжелыми, отмечены максимумы в концентрациях K и Zr (для габбро - также в концентрациях Ba и Ti), что сближает изученные породы с базальтами океанических островов (OIB) и свидетельствует об обогащенном геохимическом характере мантийного источника. Рассмотрение трендов составов гранитоидных пород позволяет предположить, что первичные гра-нитоидные магмы могли по составу отвечать мон-цогранитам или граносиенитам, а их дифференциация, сопровождавшаяся фракционированием плагиоклаза, а также Fe- и Ti-содержащих фаз (ильменита, амфибола, биотита), привела к формированию гранитов и лейкогранитов. Данные по редкоэле-ментному составу подтверждают эти предположения: от кварцевых монцонитов и граносиенитов до гранитов и лейкогранитов наблюдаются последовательное обеднение тяжелыми лантаноидами и углубление минимумов в концентрациях Ba, Sr, Eu, Ti. В редкоэлементных спектрах кварцевых мон-цонитов не наблюдается Eu-минимума, но заметно преобладание легких лантаноидов над тяжелыми. Для кварцевых монцонитов характерны выраженные максимумы в концентрациях Ba, K, Zr; а в целом гранитоиды (за исключением наиболее фракционированных лейкократовых разностей) демонстрируют повышенную железистость, щелочность и высокие содержания Zr, Nb, Ce и Y, что является основанием для классификации их как А-гранитоидов [Whalen, Currie, Chappell, 1987; Eby, 1992], формирование которых связывается с частичным плавлением материала нижней коры при существенном влиянии ба-зитового источника. Совокупность минералогических и петрогеохими-ческих данных позволяет сделать вывод, что все многообразие пород массива может быть разделено на две группы: габброидную и гранитоидную, произведенные при дифференциации принципиально разных первоначальных магм. Габброидные породы массива образованы из первичной трахибазальтовой магмы в ходе ее дифференциации и контаминации коровыми анатекти-ческими выплавками. Гранитоидные породы массива произошли из первичных граносиенитовых магм, сформированных при плавлении нижнекоровых субстратов в результате теплового воздействия базитовых магм. На основании анализа полученных данных сформулирована общая модель мантийно-корового взаимодействия, приведшего к формированию Преображенского интрузива (рис. 3). Первичные трахиба-зальтовые магмы были образованы при плавлении обогащенных мантийных субстратов, а затем сформировали подкоровый базитовый очаг. При кристаллизации этого очага состав базитовых магм вследствие фракционирования оливина эволюционировал до мон-цо-габброидных. Первое внедрение монцогабброидной магмы произошло из этого очага на нижнекоровые уровни, что способствовало плавлению метаморфизованных в условиях гранулитовой или амфиболитовой фации субстратов. При этом происходило взаимодействие монцо-габброидной магмы и анатектических выплавок с взаимной контаминацией расплавов. В результате над камерой с монцогабброидной магмой был сформирован очаг магмы кварцевых монцонитов. Расплавы монцонитового состава, как гравитационно неустойчивые, внедрились в верхние горизонты коры и образовали кварцевые монцониты 1-й фазы массива. Вслед за этим по унаследованным путям миграции произошло внедрение и базитовых магм - кварцевые монцогабб-ронориты 2-й фазы. Дальнейшее прогревание нижнекоровых субстратов в результате термического воздействия базитов привело к их более масштабному плавлению и появлению граносиенит-гранитных выплавок. Их сегрегация и позволила сформировать крупный очаг гранитоид-ной магмы, которая внедрилась (вероятно, наследуя пути миграции ранних расплавов) в верхние горизонты коры, сформировав главную фазу массива (биотит-амфиболовые граниты 3-й фазы). Остывание массива сопровождалось тепловым воздействием на вмещающие слабометаморфизованные породы и дифференциацией остаточных расплавов в сторону лейкогранитов с накоплением летучих компонентов. Рис. 2. Схема геологического строения Преображенского интрузива 1 - вмещающие породы (роговики по песчаникам и алевролитам Ci, вулканические породы C2-3); 2 - монцониты и кварцевые монцониты 1-й фазы; 3 - габбро 2-й фазы; 4 - граносиениты и граниты 3-й фазы; 5 - диориты 4-й фазы; 6 - послегранитовые дайки долеритов (а), граносиенит-порфиров (б), гранит-порфиров и аплитов (в). Кружками обведены обнаруженные проявления минглинг-взаимоотношений диоритов и порфировидных граносиенитов. Фотографии на врезках иллюстрируют характер взаимодействия магматических пород в Преображенском интрузиве. Вверху - нодули монцодиоритов (темно-серые) и порфи-ровидных граносиенитов (светло-серые) в гранитах 3-й фазы; внизу - контакт монцодиоритов и порфировидных граносиени-тов, обнажение и скан среза образца. Составлена по [Ермолов и др., 1983] с авторскими уточнениями Fig. 2. Geological structure scheme of the Preobrazhensk intrusive body 1 - host rocks (hornfels upon sandstones and aleurolites Cb volcanic rocks C2-3); 2 - monzonites and quartz monzonites of the 1st phase; 3 - gabbro of the 2nd phase; 4 - granosyenites and granites of the 3rd phase; 5 - diorites of the 4 phase; 6 - postgranite dikes of dolerites (а), granosyenite-porphyrites (б), granit-porphyrites and aplites (в). Blue circles mark occurrences of mingling relation between diorites and porphyraceous granosyenites, which had been found. Incut photographs show character of interaction between igneous rocks at Preobrazhensk intrusion. Nodules of monzodiorites (dark grey) and porphyraceous granosyenites (light grey) of 3rd phase granites are shown at the top; Monzodiorites and porphyraceous granosyenites contact, outcrop and scan cut sample are shown at the bottom. Composed according to [Ermolov et al., 1983] with author's refinements На этой стадии произошло второе внедрение ба-зитовых (монцо-габброидных) магм в кору, причем по уже имеющимся путям миграции - до корневых частей гранитного массива. Очевидно, что гранито-иды находились в вязкопластичном неостывшем состоянии, поскольку в случае остывших гранитои-дов возникли бы лишь хрупкие трещины и образовалась серия габброидных даек. Базитовая магма остановилась под вязкопластичным горизонтом гра-нитоидов. Рис. 3. Модель мантийно-корового взаимодействия и формирования Преображенского интрузива а - ранние стадии, взаимодействие трахибазальтовых магм и коровых анатектических выплавок, внедрение и становление кварцевых монцонитов 1-й фазы и кварцсодержащих монцо-габброноритов 2-й фазы; б - главная стадия, масштабное плавление коровых субстратов, внедрение и становление биотит-амфиболовых гранитов 3-й (главной) фазы, внедрение в корневые части гранитного массива монцогаббро и взаимодействие магм; в - завершающая стадия, остывание гранитного массива, внедрение гетерогенной смеси монцодиорито-вой и граносиенитовой магм, даек монцогаббро и оливино-вых долеритов. 1-3 - коровые субстраты, деление условное: 1-2 - нижняя и средняя кора, метаморфизованные породы грауваккового состава, 3 - верхняя кора (неметаморфизован-ные песчаники, алевролиты и сланцы); 4 - глубинный очаг трахибазальтовой магмы; 5 - монцогабброидная магма; 6 -монцониты и кварцевые монцониты 1-й фазы; 7 - граносие-ниты (первичные магмы) и биотит-амфиболовые граниты 3-й фазы; 8 - монцогаббро-монцодиориты, взаимодействовавшие с гранитоидной магмой; 9 - гетерогенная смесь магм монцодиоритового и граносиенитового состава (4-я фаза); 10 - завершающие дайки монцогаббро и оливиновых долеритов (5-я фаза) Fig. 3. Model of mantle-crust interaction and Preobrazhensk intrusion formation а - early stage: interaction between trachybasaltic magma and crustal anatectic melts, intrusion and formation of 1st phase quartzy monzonites and 2nd phase quartz-containing monzogab-bronorites; b - main stage: large melting of crustal substrata, intrusion and formation of 3rd phase (the main one) biotite-amphibole granites, injection of monzogabbro to root parts of granitic massif and magmas interaction; c - final stage: granitic massif cooling, injection of heterogeneous mixture of monzodio-ritic and granosyenitic magmas, monzogabbro dikes and olivine dolerites. 1-3 - crustal substrata (conditional dividing): 1-2 -lower and middle crust, metamorphic rocks with graywacke composition; 3 - upper crust (non-metamorphic sandstones, aleuro-lites and slates); 4 - abyssal spot of trachybasaltic magma; 5 -monzogabbroidic magma; 6 - monzonites and quartzy monzo-nites of the 1st phase; 7 - granosyenites (initial magmas) and bio-tite-amphibole granites of the 3rd phase; 8 - monzogabbro-monzodiorites, interaction with granitoidic magma; 9 - heterogeneous mixture of monzodioritic and granosyenitic magmas (4 phase); 10 - last dikes of monzogabbro and olivine dolerites (5 phase) Со стороны маловязкой базитовой магмы происходило прежде всего тепловое воздействие на почти закристаллизованную гранитную магму. Можно предполагать, что в гранитоидном очаге оставалось некоторое количество остаточного расплава, обогащенного несовместимыми летучими компонентами. Из-за значительного градиента в содержаниях летучих компонентов началось насыщение пограничных горизонтов базитовой магмы летучими, что вместе с процессами фракционирования клинопироксена, могло привести к изменению состава кристаллизующегося расплава от габброидного до монцодиори-тового. Это привело к возникновению на границе габброидной и гранитоидной магм "пограничного" слоя монцодиоритового расплава, который и вступил в дальнейшее взаимодействие с гранитоидами. Оно сопровождалось активным переносом компонентов - Ca, Al, Ti и Mg из монцодиоритов в граниты, а K, Si и Na - из гранитов в монцодиориты. Подтверждением активного химического взаимодействия являются наблюдаемые изменения состава и соотношений минералов вблизи контактов монцоди-оритов и гранитов. Результатом такого химического переноса явилось образование магм гибридных пород - порфировидных граносиенитов. Граносиени-товая и монцодиоритовая магмы существовали одновременно, но не гомогенизировались в силу разной плотности, обусловленной разным составом и, по-видимому, температурой. Именно между двумя этими магмами и происходили процессы минглинг-взаимодействия: фестончатые контакты, взаимопроникновения, нодули диоритов в граносиенитах. Таким образом, процесс взаимодействия магм происходил на уровне основания гранитного очага. Оценки давления по составам амфиболов (0,7-0,8 кбар) позволяют предполагать глубину процесса в 22,5 км. Сформированная гетерогенная смесь монц-одиоритов и граносиенитов оставалась достаточно горячей и при этом значительно флюидонасыщен-ной, вследствие чего эта смесь оказалась менее плотной по сравнению с нижележащей базитовой магмой и более подвижной по сравнению с вмещающими вышележащими практически закристаллизованными гранитами. Остывание массива, распространяющееся сверху, способствовало появлению в нем хрупких трещин, которые заполнились находившимися снизу магмами: вначале гетерогенной смеси монцодиоритов и граносиенитов 4-й фазы, монцогаббро 4-й фазы и, наконец, наиболее глубинными оливиновыми доле-ритами 5-й фазы (см. рис. 3). Таким образом, в истории формирования массива постоянно происходило активное взаимодействие ба-зитовых магм с коровыми субстратами. На нижнеко-ровом уровне это привело к взаимной контаминации базитовых и гранитоидных магм, результатом которой являются кварцевые монцониты и кварцсодержащие монцогаббронориты. На среднекоровом уровне (корневые части гранитного массива) взаимная контаминация не играла определяющей роли и были сформированы минглинг-структуры. На верхнекоровом уровне базитовые магмы не взаимодействовали с уже остывшими гранитоидами, а образовали секущие дайки. Возраст образования Преображенского массива был оценен на основе U-Pb датирования единичных зерен магматических цирконов. U-Pb геохронологические исследования выполнены методом LA-SF-ICP-MS на масс-спектрометре высокого разрешения Element XR (Thermo Fisher Scientific) с системой пробоотбора лазерной абляцией UP-213 (New Wave Research) в Геологическом институте СО РАН (г. Улан-Удэ), согласно методике, описанной в работе [Хубанов, Буянтуев, Цыганков, 2016]. Для цирконов из кварцевых монцонитов первой фазы установлено значение возраста по 38 точкам в 290,7±1,8 млн лет; для цирконов из биотит-амфиболовых гранитов третьей фазы по 39 точкам - 290,4±1,3 млн лет. Учитывая последовательную эволюцию минералогических и химических составов магм, можно с уверенностью предполагать, что формирование Преображенского интрузива - результат однократного проявления процесса мантийно-корового взаимодействия, включающего внедрение в литосферу и остывание базитовых магм, плавление коровых субстратов, внедрение в верхнекоровые уровни и остывание гранитоидных и базитовых магм. При этом последовательное внедрение базитовых расплавов из одного и того же очага свидетельствует о реализации тектонического режима растяжения литосферы. Гранитоиды Калба-Нарымского батолита Один из актуальных для понимания эволюции геодинамических процессов в западной части Центральной Азии вопросов - время, источники и причины формирования крупнейшего Калба-Нарымского гранитоидного батолита. Традиционно [Ло-патников и др., 1982; Дьячков и др., 1994; Щерба и др., 1998] он рассматривался как неотъемлемая часть Алтайской коллизионной системы и происхождение гранитоидов связывалось с утолщением коры и последующим плавлением коровых субстратов с формированием гранитов S-типа. Однако полученные в последние годы изотопно-геохимические и геохронологические данные позволили пересмотреть продолжительность формирования гранитоидов батолита, а также рассматривать его формирование в постколлизионной геодинамической обстановке [Котлер и др., 2015; Хромых и др., 2016]. Гранитоидный батолит протягивается с северо-запада на юго-восток по всей Калба-Нарымской зоне (см. рис. 1), его расположение определялось простиранием турбидито-вого бассейна, заполненного толщами осадочно-вулканогенной природы, накопленными в девонском краевом прогибе вблизи Рудно-Алтайской окраины Сибирского палеоконтинента [Ротараш, Самыгин, Гредюшко, 1982; Зоненшайн, Кузьмин, Натапов, 1990; Крук, Хромых, Куйбида, 2008; Ермолов, 2013; Котлер и др., 2015]. В строении батолита наибольшее распространение имеют гранодиориты и граниты калбинского комплекса, которые образуют крупные пластообраз-ные плутоны мощностью до 4-5 км. Их формирование отражает главную стадию батолитообразования. Гранитоиды калбинского комплекса содержат 6377 мас. % SiO2, 2-7 мас. % K2O, принадлежат к высококалиевой известково-щелочной серии. В редкоземельном спектре пород LREE преобладают над HREE, в большинстве изученных проб наблюдается отрицательная Eu аномалия (Eu/Eu* от 0,7 до 0,3). Мультиэлементные графики демонстрируют отрицательные аномалии по Ba, Sr, Eu, Ti, положительные по Th, P, при разнонаправленном поведении U и Ta. Близкими по составу являются порфировидные био-титовые граниты каиндинского комплекса, которые слагают несколько крупных многофазных субизо-метричных интрузивов с концентрически-зональным строением. Гранитоиды каиндинского комплекса содержат 66-77 мас. % SiO2, 1-6 мас. % K2O, принадлежат к высококалиевой известково-щелочной серии. В редкоземельном спектре пород LREE преобладают над HREE, отношение (La/Yb)N варьирует в интервале 3-26, в большинстве изученных проб наблюдается отрицательная Eu аномалия (Eu/Eu* от 0,9 до 0,3). Мультиэлементные графики демонстрируют ярко выраженные отрицательные аномалии по Ba, Sr, Eu, Ti, положительные по Th и Ta, при разнонаправленном поведении U и P. Совокупность пет-рогеохимических данных позволяет предполагать, что гранитоиды калбинского и каиндинского комплексов близки к S-гранитам. Возраст формирования гранитоидов калбинского и каиндинского комплексов был оценен на основании U-Pb датирования единичных зерен магматических цирконов LA-ICP-MS методом [Хубанов, Буянтуев, Цыганков, 2016]. Возраст первой фазы калбинского комплекса оценен на основе двух датировок: 297±1 и 293±2 млн лет. Возраст второй фазы калбинского комплекса оценен на основе двух датировок: в 286±1 и 286±3 млн лет. Возраст гранитов каиндинского комплекса оценен на основе трех датировок: 292±1, 290±1, 288±2 млн лет [Хромых и др., 2016]. Общность вещественного состава и геохронологические данные дают все основания объединить ранее выделенные гранитоиды каин-динского комплекса с гранитоидами калбинского комплекса и рассматривать их в составе единой гра-нодиорит-гранитной ассоциации, отвечающей грани-тодам S-типа. Иное геологическое положение занимают граниты и лейкограниты монастырского комплекса, которые слагают цепочку крупных обособленных многофазных интрузивов в юго-западной части Калба-Нарымского батолита (см. рис. 1). Породы комплекса содержат 7278 мас. % SiO2, 2,5-6,5 мас. % K2O, принадлежат к высококалиевой известково-щелочной серии. В редкоземельном спектре пород LREE слабо преобладают над HREE, во всех изученных пробах ярко выражена отрицательная Eu аномалия (Eu/Eu* от 0,4 до 0,03). Муль-тиэлементные графики демонстрируют ярко выраженные отрицательные аномалии по Ba, Sr, P, Eu, Ti, положительные - по Th и Ta. По содержаниям Zr, Nb, Ce, Y, соотношению FeO*/(FeO*+MgO) граниты монастырского комплекса отчетливо могут быть классифицированы как граниты A-типа, формирование которых связывается с частичным плавлением материала нижней коры при существенном влиянии бази-тового источника. Возраст формирования монастырского комплекса был оценен на основании датирования единичных зерен магматических цирконов U-Pb методом по трем датировкам: 284±4 млн лет (SHRIMP-II), 283±2 млн лет, 276±1 млн лет (LA-ICP-MS) [Хромых и др., 2016]. Таким образом, согласно проведённому U-Pb изотопному датированию, Калба-Нарымский грани-тоидный батолит был сформирован в узком временном интервале - не более 20 млн лет (296276 млн лет), при этом можно выделить два этапа его становления: 1) главный объем батолита слагают породы гранодиорит-гранитной ассоциации S-типа (калбинский и каиндинский комплексы), сформированные в интервале 296-286 млн лет; 2) второй этап эндогенной активности связан с формированием гранит-лейкогранитной ассоциации А-типа (монастырский комплекс) в интервале 284-276 млн лет. Различия в вещественном составе и вариации составов для выделяемых ассоциаций представлены на диаграммах Харкера (рис. 4). Для пород гранодиорит-гранитной ассоциации характерны широкие вариации составов (SiO2 = 6475 мас. %), а также тренды по уменьшению всех элементов, кроме К2О, при увеличении содержаний кремнезема. Для пород гранит-лейкогранитной ассоциации характерны более узкие вариации составов по кремнезёму (73-76 мас. %), а также тренды по обогащению железом, REE, HFSE (Ta, Nb, Zr, Hf) с увеличением кремнекислотности. Также для гранит-лейкогранитной ассоциации характерны повышенные относительно гранодиорит-гранитной ассоциации содержания F и Li. Кроме того, для пород гранит-лейкогранитной ассоциации более ярко выражены минимумы по Ba, Eu, Sr, P, Ti, а редкоземельные спектры характеризуются более слабым наклоном за счёт повышенного содержания HREE (рис. 5). Рис. 4. Составы пород гранодиорит-гранитной ассоциации Красные кружки, тренды изменения составов - серые стрелки) и гранит-лейкогранитной ассоциации (зелёные квадраты, тренды изменения составов - белые стрелки) на двухкомпонентных диаграммах Харкера Fig. 4. Compositions of rocks of granodiorite-granite assemblage Red points; grey arrows show composition change trends) and granite-leucogranite assemblage (green squares; white arrows show composition change trends) at two-component Harker diagrams La С'.- Pi Nd Pm Sm Eli Pr 5r P Nd Zr SmEu Ti Py Y Yt>l.u Рис. 5. Составы спектров распределения редкоземельных (слева, нормированы по хондриту [Boynton, 1984]) и редких (справа, нормированы по примитивной мантии [Sun, McDonough, 1989]) элементов для пород гранодиорит-гранитной ассоциации (сверху, красные) и гранит-лейкогранитной ассоциации (снизу, оранжевые) 1, 2, 3 - составы пород 1-, 2- и 3-й фаз соответственно Fig. 5. REE (on the left, normalized to chondrite [Boynton, 1984]) and trace (on the right, normalized to primitive mantle [Sun, McDonough, 1989]) patterns for granodiorite-granite assemblage rocks (at the top, red) and granite-leucogranite assemblage rocks (at the bottom, orange) 1, 2, 3 - 1st, 2nd and 3rd phases rocks compositions respectively Изотопный состав неодима в породах гранодиорит-гранитной ассоциации варьирует в интервале eNd(t) =+0,8 - +3,3 (по 9 анализам), также для этих пород характерны низкие изотопные значения Rb-Sr (87Sr/86Sr(T) = 0,70487-0,70590). Для пород гранит-лейкогранитной ассоциации характерны относительно высокие значения eNd^) = +3,5 - +4,3, повышенные изотопные значения Rb-Sr (87Sr/86Sr = 0,70726). Учитывая разрыв во времени формирования и то, что массивы А-гранитоидов монастырского комплекса слагают преимущественно крупные самостоятельные интрузии, можно предполагать, что их появление явилось результатом нового импульса плавления субстратов. На основании анализа минерального и вещественного составов гранитоидов S- и A- типа и оса-дочно-метаморфических субстратов Калба-Нарым-ской зоны с привлечением данных по экспериментальному плавлению было предпринято петролого-геохимическое моделирование состава источников и условия выплавления гранитоидных магм, сформировавших Калба-Нарымский гранитоидный батолит. Согласно современным представлениям о формировании гранитоидов различных геохимических типов, формирование гранитов S-типа является результатом частичного плавления осадочных пород, т. е. ко-ровых пород, прошедших цикл выветривания, тогда как природа гранитоидов А-типа наиболее дискуссионна, по данным [Frost, Frost, 2011] породы этого типа могут формироваться в результате как дифференциации базитовых расплавов, так и плавления различных коровых источников. Данные по обобщению петрологических экспериментов [Patino Douce, 1999] показывают, что непосредственно («чистое») плавление метапелитовых субстратов приводит к формированию лейкогранитного расплава, тогда как формирование гранодиорит-гранитных серий, скорее всего, является результатом смешанного плавления различного состава (метапелитовых и метабази-товых) или вовлечения перитектических фаз [Clemens, Stevens, 2012]. Данные по петрологии высокоглиноземистых гранитов [Sylvester, 1998] позволяют оценить возможные субстраты для гранитоидов. Исходя из этих данных, предполагается, что потенциальным источником для гранит-лейкогранитов монастырского комплекса являлись метапелитовые породы Калба-Нарымского террейна, тогда как для гранодиорит-гранитов калбинского и каиндинского комплекса характерно смещение составов в сторону базитового источника, т.е. предполагается, что их формирование происходило в результате смешанного плавления метапелитового субстрата с некой долей метаба-зитовых пород. Масс-балансовые расчеты по петрогеохимиче-скому составу и численное моделирование поведения редких элементов в процессах плавления субстратов, основанное на составах гранитоидов [Хромых и др., 2016] и осадочно-метаморфических пород [Котлер и др., 2015], с привлечением экспериментальных данных [Patino Douce, Beard, 1995; Patino Douce, Harris, 1998; Castro et al., 1999; Lopez, Castro, 2001] позволили прийти к выводам, что составы гранитоидов S-типа Калба-Нарымского батолита (калбинский и каиндинский комплексы) располагаются на линии смешения составов между выплавками из метабазитовых и метапелитовых субстратов. Таим образом, формирование гранитоидов S-типа происходило в результате совместного плавления метабазитового и метапелитового субстратов. Дополнительным подтверждением этого являются данные по изотопии неодима, также вынесенные на диаграммы Харкера: для гранитоидов ближе всего отвечающих выплавкам из метабазитов, характерны самые положительные значения eNd(T), и это значение уменьшается по мере увеличения доли расплава, полученного из метапелитов. Для реконструкции источников гранитоидных магм для пород монастырского комплекса (гранит-лейкогранитов А-типа) также использованы масс-балансовые расчеты и численное моделирование поведения редких элементов с привлечением экспериментальных данных [Vielzeuf, Montel, 1994; Patino Douce, Beard, 1995; Montel, Vielzeuf, 1997; Castro et al., 1999; Koester et al, 2002]. Результаты моделирования позволяют утверждать, что при плавлении метапелитовых пород Калба-Нарымского террейна при давлениях меньше 5 кбар возможно выплавление высококалиевого гранитного расплава с содержанием SiO2 более 72 мас. % и пералюминиевыми и железистыми характеристиками, которым соответствуют граниты А-типа. Однако редкоэлементное моделирование формирования гранитоидов А-типа можно считать удовлетворительным только по Rb, Sr, Ba, Th, U, HREE. По большинству других редких элементов (Ta, Nb, Y, La, Ce, Nd, Sm, Tb, Dy (HFSE и REE) даже при самых низких степенях плавления их концентрации в модельных расплавах не соответствуют минимальным в составах гранитов монастырского комплекса. Следовательно, при наличии только метаосадочных пород невозможно получить расплавы, отвечающие по уровню накопления редких элементов А-гра-нитам Калба-Нарымской зоны. Кроме того, немаловажным аргументом являются характерные для А-гранитов положительные значения eNd(T), тогда как для метаосадочных пород значения eNd(T) слабоотрицательные. Формирование высококремнистых пералюмини-евых гранитоидов А-типа путём плавления коровых субстратов возможно лишь при дополнительном привносе высокозарядных и редкоземельных элементов из источника, обладающего резко положительными значениями eNd(T). Возможными источниками с положительными изотопными значениями неодима являются либо породы океанического основания Калба-Нарымской зоны, либо верхнемантийное вещество. Вариант с метабазитовыми породами основания не может являться действительным по следующим причинам: 1) показано, что формирование лейкогранитов происходило без участия депле-тированного материала, т. е. отсутствует механизм взаимодействия метабазитов, позволяющий изменить изотопные характеристики гранитов и произвести обогащение HFSE без изменения петрогенного состава выплавок; 2) для метабазитов в субстратах Калба-Нарымского террейна характерны низкие содержания LREE. Таким образом, наиболее вероятным источником привноса HFSE и REE является вещество верхней мантии, а транспортом - ювенильные флюиды, взаимодействующие метаморфическими субстратами на стадии их плавления. Исходя из состава гранитоидов, данные флюиды могли содержать существенные количества F и Li. Согласно экспериментальным работам [Keppler, 1993; Абрамов, 2004; Aseri, et al., 2015] в присутствии флюида с высокими концентрациями фтора происходит прогрессивное плавление акцессорных фаз, таких как танталит, колумбит, гафнон, циркон, что приводит к возможности транспортировки высокозарядных и редкоземельных элементов флюидом в виде фторидных соединений. Именно эта модель плавления субстратов метапелитового состава в присутствии высокофтористого флюида позволяет объяснить геохимическ
Ключевые слова
габбро,
граниты,
Центральная Азия,
Таримский плюм,
gabbro,
granites,
Central Asia,
Tarim mantle plumeАвторы
| Хромых Сергей Владимирович | Институт геологии и минералогии им. В.С. Соболева СО РАН; Новосибирский государственный университет | кандидат геолого-минералогических наук, старший научный сотрудник, лаборатория петрологии и рудоносности магматических формаций; доцент, кафедра минералогии и петрографии | serkhrom@mail.ru |
| Котлер Павел Дмитриевич | Институт геологии и минералогии им. В.С. Соболева СО РАН; Новосибирский государственный университет | младший научный сотрудник, лаборатория петрологии и рудоносности магматических формаций | |
| Соколова Екатерина Николаевна | Институт геологии и минералогии им. В.С. Соболева СО РАН; Новосибирский государственный университет | кандидат геолого-минералогических наук, научный сотрудник, лаборатория термобаро-геохимии; старший преподаватель, кафедра геологии рудных месторождений | |
Всего: 3
Ссылки
Абрамов С. С. Образование высокофтористых магм путем фильтрации флюида через кислые магмы: петрологические и геохимические свидетельства метамагматизма // Петрология. 2004. Т. 12, № 1. С. 22-45
Бурмакина Г.Н., Цыганков А. А. Мафические включения в позднепалеозойских гранитоидах Западного Забайкалья (Бур-гасский кварцевосиенитовый массив): состав, петрогенезис // Петрология. 2013. T. 21, № 3. C. 309-334
Виноградов А. П. Средние содержания химических элементов в главных типах изверженных горных пород земной коры // Геохимия. 1962. № 7. С. 555-565
Владимиров А.Г., Крук Н.Н., Руднев С.Н., Хромых С.В. Геодинамика и гранитоидный магматизм коллизионных ороге-нов // Геология и геофизика. 2003. T. 44, № 12. С. 1321-1338
Владимиров А.Г., Крук Н.Н., Хромых С.В., Полянский О.П., Червов В.В., Владимиров В.Г., Травин А.В., Бабин Г. А., Куйбида М.Л., Хомяков В.Д. Пермский магматизм и деформации литосферы Алтая как следствие термических процессов в земной коре и мантии // Геология и геофизика. 2008. T. 49, № 7. C. 621-636
Владимиров А.Г., Изох А.Э., Поляков Г.В., Бабин Г.А., Мехоношин А. С., Крук Н.Н., Хлестов В.В., Хромых С.В., Травин А.В., Юдин Д. С., Шелепаев Р.А., Кармышева И.В., Михеев Е.И. Габбро-гранитные интрузивные серии и их индикаторное значение для геодинамических реконструкций // Петрология. 2013. Т. 21, № 2. С. 177-201
Добрецов Н.Л., Борисенко А. С., Изох А.Э., Жмодик С.М. Термохимическая модель пермотриасовых мантийных плюмов Евразии как основа для выявления закономерностей формирования и прогноза медно-никелевых, благородно- и редкометалль-ных месторождений // Геология и геофизика. 2010. T. 51, № 9. C. 1159-1187
Дьячков Б. А., Майорова Н.П., Щерба Г.Н., Абдрахманов К. А. Гранитоидные и рудные формации Калба-Нарымского пояса (Рудный Алтай). Алматы, 1994. 208 с
Дьячков Б. А. Генетические типы редкометалльных месторождений Калба-Нарымского пояса. Усть-Каменогорск : ВКГТУ, 2012. 130 с
Ермолов П.В. Актуальные проблемы изотопной геологии и металлогении Казахстана. Караганда : Изд.-полиграф. центр Казахстанско-Российского университета, 2013. 206 с
Ермолов П.В., Владимиров А.Г., Изох А.Э., Полянский Н.В., Кузебный В. С., Ревякин П. С., Борцов В.Д. Орогенный магматизм офиолитовых поясов (на примере Восточного Казахстана). Новосибирск : Наука, 1983. 207 с
Загорский В.Е., Перетяжко И. С. Типы и средний состав миароловых пегматитов Малханского хребта // Геология и геофизика. 1992. № 1. С. 87-97
Загорский В.Е., Владимиров А.Г., Макагон В.М., Кузнецова Л.Г., Смирнов С.З., Дьячков Б.А., Анникова И.Ю., Шокальский С.П., Уваров А.Н. Крупные поля сподуменовых пегматитов в обстановках рифтогенеза и постколлизионных сдви-гово-раздвиговых деформаций континентальной литосферы // Геология и геофизика. 2014. № 2. С. 237-251
Зоненшайн Л.П., Кузьмин М.И., Натапов Л.М. Тектоника литосферных плит территории СССР. М. : Недра, 1990. Т. 1. 326 с
Котлер П.Д., Хромых С.В., Смирнов С.З., Дьячков Б.А., Травин А.В., Владимиров А.Г., Юдин Д.С., Крук Н.Н. Ar-Ar изотопное датирование редкометалльных пегматитов Калба-Нарымского батолита (Восточный Казахстан). Граниты и эволюция Земли: граниты и континентальная кора : материалы II Междунар. геол. конф. 17-20 августа 2014 г. Новосибирск : Изд-во СО РАН, 2014. С. 101-103
Котлер П.Д., Хромых С.В., Владимиров А.Г., Навозов О.В., Травин А.В., Караваева Г.С., Крук Н.Н., Мурзинцев Н.Г. Новые данные о возрасте и геодинамическая интерпретация гранитоидов Калба-Нарымского батолита (Восточный Казахстан) // Доклады Академии наук. 2015. T. 462, № 5. C. 572-577
Котлер П.Д., Крук Н.Н., Хромых С.В., Навозов О.В. Вещественный состав и источники осадочных толщ Калба-Нарымского террейна (Восточный Казахстан) // Вестник Томского государственного университета. 2015. № 400. C. 345-353
Крук Н.Н., Хромых С.В., Куйбида М.Л. Гранитоидный магматизм турбидитовых палеобассейнов: состав, источники, механизмы формирования // Граниты и эволюция Земли: геодинамическая позиция, петрогенезис и рудоносность гранитоидных батолитов : материалы I Междунар. геол. конф. (Улан-Удэ, 26-29 августа 2008 г.). Улан-Удэ : Изд-во БНЦ СО РАН, 2008. С. 207-208
Литвиновский Б.А., Занвилевич АН., Калманович М.А., Шадаев М.Г. Синплутонические базитовые интрузии ранних стадий формирования Ангаро-Витимского батолита (Забайкалье) // Геология и геофизика. 1992. № 7. C. 70-80
Лопатников В.В., Изох Э.П., Ермолов П.В., Пономарева А.П., Степанов А. С.. Магматизм и рудоносность Калба-Нарымской зоны Восточного Казахстана. М. : Наука, 1982. 248 с
Моссаковский А.А., Руженцев С.В., Самыгин С.Г., Хераскова Т.Н. Центрально-Азиатский складчатый пояс: геодинамическая эволюция и история формирования // Геотектоника. 1993. № 6. С. 3-33
Навозов О.В., Соляник В.П., Клепиков Н.А., Караваева Г.С. Нерешенные вопросы пространственной и генетической связи некоторых видов полезных ископаемых с интрузиями Калба-Нарымской и Западно-Калбинской зон Большого Алтая // Геология и охрана недр. Алматы : КазГео, 2011. № 4. С. 66-72
Ротараш И.А., Самыгин С.Г., Гредюшко Е.А. Девонская активная континентальная окраина на Юго-Западном Алтае // Геотектоника. 1982. № 1. С. 44-59
Скляров Е.В., Федоровский В. С. Тектонические и геодинамические аспекты механического смешения магм (магматического минглинга) // Геотектоника. 2006. № 2. С. 47-64
Соколова Е.Н., Смирнов С.З., Хромых С.В. Условия кристаллизации, состав и источники редкометалльных магм при формировании онгонитов Калба-Нарымской зоны Восточного Казахстана // Петрология. 2016. Т. 24, № 2. С. 168-193
Хромых С.В., Куйбида М.Л., Крук Н.Н. Петрогенезис высокотемпературных кремнекислых расплавов в вулканических структурах Алтайской коллизионной системы герцинид, Восточный Казахстан // Геология и геофизика. 2011. T. 52, № 4. С. 529-540
Хромых С.В., Владимиров А.Г., Изох А.Э., Травин А.В., Прокопьев И.Р., Азимбаев Е., Лобанов С. С. Петрология и геохимия габброидов и пикритоидов Алтайской коллизионной системы герцинид: свидетельства активности Таримского плюма // Геология и геофизика. 2013. T. 54, № 10. C. 1648-1667
Хромых С.В., Соколова Е.Н., Смирнов С.З., Травин А.В., Анникова И.Ю. Геохимия и возраст редкометальных дайко-вых поясов Восточного Казахстана // Доклады Академии наук. 2014. T. 45, № 5. C. 612-617
Хромых С.В., Цыганков А. А., Котлер П.Д., Навозов О.В., Крук Н.Н., Владимиров А.Г., Травин А.В., Юдин Д. С., Бурмакина Г.Н., Хубанов В.Б., Буянтуев М.Д., Анциферова Т.Н., Караваева Г.С. Позднепалеозойский гранитоидный магматизм Восточного Казахстана и Западного Забайкалья: тестирование плюмовой модели // Геология и геофизика. 2016. T. 57, № 5. C. 983-1004
Хубанов В.Б., Буянтуев М.Д., Цыганков А.А. U-Pb изотопное датирование цирконов из PZ3-MZ магматических комплексов Забайкалья методом магнитно-секторной масс-спектрометрии с лазерным пробоотбором: процедура определения и сопоставление с SHRIMP данными // Геология и геофизика. 2016. T. 57, № 1. C. 241-258
Щерба Г.Н., Беспаев Х.А., Дьячков Б. А., Мысник А.М., Ганженко Г. Д., Сапаргалиев Е.М. Большой Алтай (геология и металлогения). Алматы : Гылым, 1998. 395 с
Ярмолюк В.В., Кузьмин М.И., Козловский А.М. Позднепалеозойский-раннемезозойский внутриплитный магматизм Северной Азии: траппы, рифты, батолиты-гиганты и геодинамика их формирования // Петрология. 2013. T. 21, № 2. C. 115-142
Ярмолюк В.В., Козловский А.М., Кузьмин М.И. Зональные магматические ареалы и анорогенное батолитообразование в Центрально-Азиатском складчатом поясе: на примере позднепалеозойской Хангайской магматической области // Геология и геофизика. 2016. T. 57, № 3. C. 457-475
Aseri A.A., Linnen R.L., Xu D.Ch., Thibault Y., Holtz F. Effects of fluorine on the solubilities of Nb, Ta, Zr and Hf minerals in highly fluxed water-saturated haplogranitic melts // Ore Geology Reviews. 2015. V. 64. Р. 736-746
Boynton W.V. Cosmochemistry of the rare earth elements: meteorite studies // Rare earth element geochemistry / ed. by P. Henderson. Amsterdam : Elsevier, 1984. Р. 63-114
Castro A., Patino Douce A.E., Corretge L.G., de la Rosa J.D., El-Biad M., El-Hmidi H. Origin of peraluminous granites and granodiorites, Iberian massif, Spain: an experimental test of granite petrogenesis // Contributions to Mineralogy and Petrology. 1999. V. 135. Р. 255-276
Chen J.F., Han B.F., Ji J.Q., Zhang L., Xu Zh. He G.Q., Wang T. Zircon U-Pb ages and tectonic implications of Paleozoic plu-tons in northern West Junggar, North Xinjiang, China // Lithos. 2010. V. 115. Р. 137-152
Clemens J.D., Stevens G. What controls chemical variation in granitic magmas? // Lithos. 2012. V. 134-135. P. 317-329
Eby G.N. Chemical subdivision of the A-type granitoids: petrogenetic and tectonic implications // Geology. 1992. V. 20. Р. 641-644
Frost C.D., Frost B.R. On Ferroan (A-type) Granitoids: their Compositional Variability and Modes of Origin // Journal of Petrology. 2011. V. 52, № 1. Р. 39-53
Gao R., Xiao L., Pirajno F., Wang G., He X., Yang G., Yan Sh. Carboniferous-Permian extensive magmatism in theWest Jung-gar, Xinjiang, northwestern China: its geochemistry, geochronology, and petrogenesis // Lithos. 2014. V. 204. Р. 125-143
Jahn B.-M., Windley B., Natal'in B., Dobretsov N.L. Phanerozoic continental growth in Central Asia // Journal of Asian Earth Sciences. 2004. V. 23. Р. 599-603
Keppler H. Influence of fluorine on the enrichment of high field strength trace elements in granitic rocks // Contributions to Mineralogy and Petrology. 1993. V. 114. Р. 47-488
Koester E., Pawley A.R., Fernandes L.A.D., Porcher C.G., Soliani E. Experimental Melting of Cordierite Gneiss and the Petrogenesis of Syntranscurrent Peraluminous Granites in Southern Brazil // Journal of Petrology. 2002. V. 43, № 8. Р. 1595-1616
Li Y.Q., Li Z.L., Yu X., Langmuir C.H., Santosh M., Yang S.F., Chen H.L., Tang Z.L., Song B.A., Zou S.Y. Origin of the Early Permian zircons in Keping basalts and magma evolution of the Tarim Large Igneous Province (northwestern China) // Lithos. 2014. V. 204. Р. 47-58
Litvinovsky B.A., Jahn B.M., Zanvilevich A.N., Shadaev M.G. Crystal fractionation in the petrogenesis of an alkali monzodio-rite-syenite series: the Oshurkovo plutonic sheeted complex, Transbaikalia, Russia // Lithos. 2002. V. 64. Р. 97-130
Lopez S., Castro A. Determination of the fluid-absent solidus and supersolidus phase relationships of MORB-derived amphibolites in the range 4-14 kbar // American Mineralogist. 2001. V. 86. № 11-12. Р. 1396-1403
Montel J.M., Vielzeuf D. Partial melting of metagreywackes, Part II. Compositions of minerals and melts // Contributions to Mineralogy and Petrology. 1997. V. 128. Р. 176-196
Patino Douce A.E., Beard J.S. Dehydration-melting of Biotite Gneiss and Quartz Amphibolite from 3 to 15 kbar // Journal of Petrology. 1995. № 3. Р. 707-738
Patino Douce A.E., Harris N. Experimental Constraints on Himalayan Anatexis // Journal of Petrology. 1998. V. 39. № 4. Р. 689710
Patino Douce A.E. What do experiments tell us about the relative contributions of crust and mantle to the origin of granitic magmas? // Geological Society, London. 1999. V. 168. Р. 55-75
Pirajno F., Ernst R.E., Borisenko A.S., Fedoseev G.S., Naumov E.A. Intraplate magmatism in Central Asia and China and associated metallogeny // Ore geology reviews. 2009. V. 35, is. 2. Р. 114-136
Sun S.S., McDonough W.F. Chemical and isotopic systematics of oceanic basalts: implications for mantle composition and processes // Magmatism in the ocean basins / eds by A.D. Saunders, M.J. Norry. Geol. Soc. Spec. Publ., 1989. V. 42. Р. 313-345
Sylvester P.J. Post-collisional strongly peraluminous granites // Lithos. 1998. V. 45. Р. 29-44
Vielzeuf D., Montel J.M. Partial melting of metagreywackes. Part I: Fluid-absent experiments and phase relationships // Contributions to Mineralogy and Petrology. 1994. V. 117. P. 375-393
Whalen J.B., Currie K.L., Chappell B.W. A-type granites: geochemical characteristics, discrimination and petrogenesis // Contributions to Mineralogy and Petrology. 1987. V. 95. P. 407-419
Xiao W.J., Huang B., Han Ch., Sun Sh., Li J. A review of the western part of the Altaids: A key to understanding the architecture of accretionary orogens // Gondwana Research. 2010. V. 18, is. 2-3. Р. 253-273
Xu Y.G., Wei X., Luo Z.Y., Liu H.Q., Cao J. The Early Permian Tarim Large Igneous Province: Main characteristics and a plume incubation model // Lithos. 2014. V. 204. P. 20-35
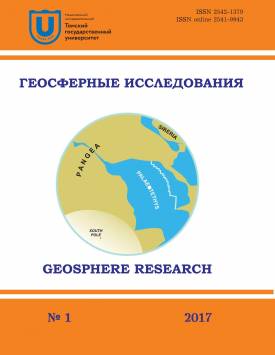

 Вы можете добавить статью
Вы можете добавить статью