В юго-восточной части Горного Алтая (р. Ирбисту) среди раннепалеозойских метафлишоидов горноалтайской серии проявлены высокотитанистые К-субщелочные (TiO2 3-4; Na2O+K2O 3,4-7,7 мас. %; K2O/Na2O до 1,8-2,2) базальты. По уровню обогащения большинством LILЕ и HFSE (Rb 30-40, Ba 240377, Zr 350-485, Nb 55-100, REE 190-300 г/т) и фракционирования лантаноидов (La/Yb ~ 12-14), величине индикаторных отношений (Nb/U 45-56; Th/La 0,11-0,13; Th/Nb 0,07-0,08; Rb/Nb 0,31-0,54; Ba/Nb 3-4,7; La/Nb 0,57-0,64) вулканиты сопоставимы с производными OIB-магматизма, имеющего внутриплитную плюмовую природу. Широкие вариации изотопного состава Nd и Sr (sNdT 1,7-5,0; 87Sr/86SrT 0,7026-0,7039, sSrT от -18 до +0,1) позволяют предположить гетерогенность источников мантийного базальтового расплава и исключить его взаимодействие с супракрустальным материалом. Об этом же свидетельствуют первичные отношения изотопов свинца 206Pb/204Pb 17,75-17,85, 207Pb/204Pb 15,48-15,49, 208Pb/204Pb 37,3537,62. Рассматривается вероятность магмогенерации в условиях смешения вещества умеренно дебетированной (PREMA) и обогащенной (ЕМ 1) мантии, но без участия HIMU-домена, нередко инициирующего OIB-вулканизм. Установленное в породах распределение LREE и HREE могло быть вызвано 7-8%-ным равновесным плавлением модельного гранатового лерцолита мантии, которое приводило к возникновению родоначальной магмы наподобие среднего OIB. Допускаются присутствие в источнике незначительного количества шпинели или смешение расплавов перидотита разного состава.
The role of earth mantle in the development of early Paleozoic oceanic islands volcanism (for the geochemical data of OI.pdf Введение Базальтовый магматизм океанических островов (OIB = Ocean Island Basalts) обычно связывают с деятельностью мантийных плюмов, проплавляющих океанскую литосферу на разных стадиях ее развития [Ссяп^е, 2001; Hofmann, 2003; Stracke et al., 2005]. Предполагается, что наблюдаемое разнообразие OIB обусловлено гетерогенностью глубинных источников вещества, а благодаря изолированной позиции проявлений OIB в морских бассейнах их коровая контаминация существенно ограничена. Участие подобных образований в строении древних складчатых областей свидетельствует об океанической эпохе зарождения протоорогенных структур, происходивших процессах внутриплитной геодинамической активности и эволюции земной мантии. В этом отношении показательным примером является Центрально-Азиатский подвижный пояс (ЦАПП), который обрамляет с юга докембрийский Сибирский кратон и обычно рассматривается как супертеррейн, сформированный примерно 500 млн лет назад в период закрытия Палеоазиатского океана. В связи с происходившими процессами аккреции океанической литосферы в составе пояса фиксируются фрагменты спре-динговых хребтов, островных дуг, подводных плато и вулканических островов. В его северо-западной части среди каледонид Кузнецко-Алтайского тектонического блока нередко отмечаются останцы палеосимаунтов, содержащие метабазальты наподобие OIB [Добрецов и др., 2004; Волкова и др., 2005; Сафонова и др., 2008; 2011; Safonova et al., 2011; Врублевский и др. 2016]. Совместно с офиолитами рифея-кембрия они рассматриваются как реликты океанической литосферы на активной окраине Сибирского палеоконтинента. © Врублевский В.В., Крупчатников В.И., Гертнер И.Ф., 2017 DOI: 10.17223/25421379/2/4 На юго-востоке Горного (Русского) Алтая в бассейне р. Ирбисту (район Чуйской впадины) нами изучен еще один небольшой по размерам (~ 500 х 700 м) тектонизированный фрагмент покрова базальтов, геохимически сходных с OIB [Крупчатников и др., 2011]. Приуроченность вулканитов к метафлишоидным отложениям горноалтайской серии позволяет условно считать их кембрийскими образованиями. Породы обладают преимущественно массивным плагиопор-фировым обликом с элементами миндалекаменного и брекчиевидного строения. Установленные особенности редкоэлементного и изотопного состава Nd, Sr, Pb базальтов позволяют предполагать гетерогенный источник родоначальной магмы OIB со смешением вещества умеренно деплетированной и обогащенной мантии, а также частичное плавление ее модельного протолита, сопоставимого с гранатовым лерцолитом. Аналитические методы Содержания петрогенных и редких рассеянных элементов в базальтах измерены методами рентгено-флуоресцентного анализа (РФА, энергодисперсионный спектрометр Oxford ED2000, спектрометр ARL-9900 XL) и масс-спектрометрии с индуктивно-связанной плазмой (ICP-MS, масс-спектрометр высокого разрешения Agilent 7500cx) в Аналитических центрах ТГУ (г. Томск), ВСЕГЕИ (г. Санкт-Петербург), ИГМ СО РАН (г. Новосибирск). Изотопный состав Sm-Nd и Rb-Sr изучен на масс-спектрометрах Finnigan MAT-262 и МИ 1201-Т в Геологическом институте КНЦ РАН (г. Апатиты) по стандартной методике. Величина эпсилон и первичные изотопные отношения неодима и стронция рассчитаны на возраст 500 млн лет (современный CHUR 143Nd/144Nd = 0,512638; 147Sm/144Nd = 0,1967), UR (87Sr/86Sr = 0,7045; 87Rb/86Sr = 0,0827). Концентрации Rb и Sr определены изотопным разбавлением с точностью 1%. Среднее по стандарту La Jolla 143Nd/144Nd = 0,511828 (N=9). 87Sr/86Sr нормализовано к значению 0,710235 по NBS SRM-987. Изотопный Pb-Pb анализ проводился на приборных MC-ICP-MS-комплексах Nu Instruments Plasma (Nu 021) в Тихоокеанском центре изотопных и геохимических исследований Университета Британской Колумбии, Канада и Neptune в ИГЕМ РАН (г. Москва). Измерения эталонированы по NBS SRM 981 208Pb/204Pb = 36,7202 ± 58; 207Pb/204Pb = 15,4999 ± 20; 206Pb/204Pb = 16,9431 ± 21 (N = 19). Химический состав базальтов в бассейне р. Ирбисту Chemical composition of basalts, Irbistu River basin Т а б л и ц а 1 T a b l e 1 Компонент 8034 8049 30106 ИРБ-3 SiO2 46,90 45,98 48,20 48,49 TiO2 3,93 3,81 3,24 3,69 Al2O3 18,51 17,82 17,70 18,83 Fe2O3 12,95 14,16 14,10 13,97 MnO 0,06 0,06 0,09 0,04 MgO 5,87 6,08 3,20 5,64 CaO 1,77 2,91 2,21 0,92 Na2O 1,49 1,04 5,38 1,25 K2O 2,22 2,31 2,28 2,31 P2O5 0,62 0,54 1,19 0,56 П.п.п. 5,24 4,89 2,46 4,68 Сумма 99,55 99,60 100,10 100,38 Sc 22 21 15 16 V 189 216 128 181 Cr 5 5 17 11 Ni 16 9 5 20 Co 29 32 27 21 Cs 1,5 0,94 1,1 0,5 Rb 43 38 31 27 Ba 372 377 302 241 Sr 87 74 122 78 Nb 79 81 101 54 Ta 4,5 5 5,2 3,9 Zr 424 431 485 352 Hf 9,9 11 10 7,4 Y 41 39 45 18 Th 5,3 6 6,6* 4,3 U 1,7 1,8 1,8* 1,7 Pb 2 1,4 2,4* 0,97 La 47 52 58 33 Ce 103 108 121 83 Pr 13 14 14 8,3 Nd 50 60 57 38 Sm 10 13 11 7,7 Eu 3,1 4,1 3,6 2,1 Gd 9,8 10 12 5,9 Tb 1,4 1,5 1,8 0,82 Dy 7,7 7,9 9 4,2 Ho 1,4 1,4 1,7 0,75 Er 3,3 3,7 4,1 2 Tm 0,44 0,48 0,55 0,28 Yb 2,4 2,8 3,4 1,7 Lu 0,32 0,37 0,51 0,25 ZREE 253 279 298 188 Примечание. Оксиды - в мас. %, элементы - в г/т. Концентрации определены методом изотопного разбавления в ЦИИ Университета Британской Колумбии, г. Ванкувер, Канада. Геохимические особенности базальтов Петрогенные и редкие рассеянные элементы. Базальты, изученные в бассейне р. Ирбисту, по соотношению SiO2 (~ 46-48,5 мас. %), ENa2O+K2O (~ 3,4-7,7 мас. %) и K2O/Na2O (до 1,8-2,2) соответствуют производным субщелочной калиевой серии (см. табл. 1, рис. 1). Для пород характерны относительно небольшие концентрации MgO 3,2-6,1 мас. % (Mg# 31-47), СаО (0,9-2,9 мас. %), Cr (5-17 г/т), N1 (5-20 г/т) и Sc (1522 г/т), что при повышенных содержаниях Al2O3 (17,7-18,8 мас. %) может свидетельствовать о раннем фракционировании оливина, клинопироксена, хромита. Уровень титанистости (3,2-3,9 мас. %), особенности накопления LILE и HFSE идентичны параметрам распределения химических элементов в среднем OIB (рис. 2, 3). Вместе с тем при сходной степени фракционирования редких земель (ZREE ~ 190-300 г/т; LaN/YbN 12-14) базальты отличаются дефицитом Sr (74122 г/т) и более высокими U/Pb (до 0,85-1,8) и Ce/Pb (до 52-86), чем в OIB (~ 0,32 и ~ 25). Похожая отрицательная аномалия Sr наблюдается в раннепалео-зойских глаукофановых сланцах Уймонской зоны Горного Алтая и расположенной южнее (на границе с Таримским кратоном) Западной Джунгарии, для которых в качестве протолита предполагаются геохимически сходные щелочные базальты OIB-типа [Волкова и др., 2005; Bo et al., 2016]. Рис. 1. Петрохимическая типизация базальтов бассейна р. Ирбисту, мас. % Диаграммы TAS и SiO2-K2O приведены по Le Maitre et al., 1989; Peccerillo, Taylor, 1976 [Врублевский и др., 2012] Fig. 1. Petrochemistry of the Irbistu River basalts, wt % TAS and SiO2-K2O diagrams are given according to Le Maitre et al.; 1989, Peccerillo, Taylor, 1976 [Vrublevskii et al., 2012] Рис. 2. Распределение редких и рассеянных элементов в базальтах бассейна р. Ирбисту Состав хондрита, примитивной мантии (РМ) и среднего OIB по [Sun, McDonough, 1989] Fig. 2. Chondrite- and primitive mantle normalized trace element diagrams of the Irbistu River basalts Chondrite, primitive mantle (РМ) and average OIB compositions are given according to [Sun, McDonough, 1989] Рис. 3. Геохимические особенности базальтов различных геодинамических обстановок Красные кружки - составы базальтов бассейна р. Ирбисту; область зеленого цвета - позднедокембрийские базальты OIB-типа Кузнецкого Алатау [Врублевский и др., 2016]. а - TiO2/Yb - Nb/Yb [Pearce, 2008]: выделены толеитовые (Th) и щелочные (Alk) разновидности OIB, нормальные (N-MORB) и обогащенные (E-MORB) базальты срединно-океанических хребтов (крестами отмечены средние значения). б - Thw - Nb^ [Saccani, 2015]: I-II - внутриокеанические зрелые (I) и юные (II) островные дуги; BABB (Back-Arc Basin Basalts) - базальты задуговых бассейнов; нормализация по N-MORB [Sun, McDonough, 1989]. в - Nb/Y -Zr/Y [Condie, 2005]: базальты океанических плато (OPB) и островных дуг (ARC); демаркация плюмовых и неплюмовых источников. Области 1-2: преобладающие составы обогащенных (1 - засурьинская, шельдянская, манжерокская свиты) и обедненных (2 - засурьинская свита, вулканиты Курайской зоны) базальтов аккреционных комплексов Горного Алтая [Сафонова и др., 2008; 2011; Safonova et al., 2011; Гусев, 2014]. г - Ba/Nb - La/Nb [Bi et al., 2015]: состав примитивной мантии (РМ) по [Weaver, 1991] Fig. 3. Geochemical characteristics of the basalts from different geodynamic settings Red points - compositions of the Irbistu River basalts; green field - late Precambrian OIB-type basalts of Kuznetsk Alatau [Vrublevskii et al., 2016]. a - TiO2/Yb - Nb/Yb [Pearce, 2008]: tholeiitic (Th) and alkaline (Alk) kinds of OIB, normal (N-MORB) and enriched (E-MORB) basalts of mid-ocean ridges (crosses mark average values) are distinguished. b - Thw - Nbw [Saccani, 2015]: I-II - intraoceanic mature (I) and young (II) island arcs; BABB- Back-Arc Basin Basalts; normalized by N-MORB [Sun, McDonough, 1989]. c - Nb/Y -Zr/Y [Condie, 2005]: oceanic plateau basalts (OPB) and island arc ones (ARC); demarcation of plume and non-plume sources. Fields 12: prevailing compositions of enriched (1 - Zasuryin, Sheldyan, Mangerok suites) and depleted (2 - Zasuryin suite, Kuray zone volcan-ites) basalts of accretionary complexes of Altai Mountains [Safonova et al., 2008; 2011; Safonova et al., 2011; Gusev, 2014]. d -Ba/Nb - La/Nb [Bi et al., 2015]: primitive mantle (РМ) composition according to [Weaver, 1991] Изотопный состав. По сравнению с небольшими, допустимыми для OIB вариациями содержаний редких и рассеянных элементов в породах первичные отношения изотопов Nd и Sr заметно меняются даже при малых размерах вулканического поля (143Nd/144NdT 0,512082-0,512250; eNdT ~ 1,7-5,0; 87Sr/86SrT 0,7026-0,7039; sSrT ~ от -18 до +0,1; табл. 2). Отличие базальтов по степени их деплетированности позволяет предположить участие в магмогенезисе разнородного мантийного вещества и исключить влияние верхнекоровой контаминации. Два измеренных образца базальтов обладают практически одинаковым изотопным составом свинца (206Pb/204PbM 17,75-17,85; 207Pb/204Pbm 15,48-15,49; 208Pb/204Pbm 37,35-37,62). Он сопоставим с метеоритной геохроной и линией эволюции на уровне ~ 500-600 млн лет (табл. 3, рис. 4, а, г), что может свидетельствовать о формировании из одного родо-начального расплава. Т а б л и ц а 2 Изотопный состав Nd и Sr в базальтах бассейна р. Ирбисту T a b l e 2 Nd-Sr isotopic composition for the Irbistu River basalts Образец Sm Nd 147Sm/144Nd 143Nd/144Nd, ±2g (143Nd/144Nd> SNd(T) Rb Sr 87Rb/86Sr 87Sr/86Sr, ±2a (87Sr/86Sr> SSr(T) г/т г/т 8049 12,2 55 0,1342 0,512619 ± 5 0,512179 3,61 43,7 80,7 1,40395 0,71264 ± 10 0,70263 -18,2 30106 12,7 62,7 0,122067 0,512482 ± 4 0,512082 1,72 32,2 125 0,724273 0,70906 ± 19 0,70390 0,1 ИРБ-3 9,7 49,4 0,118255 0,512637 ± 9 0,512250 5,00 37,7 98,2 1,082877 0,71146 ± 17 0,70374 -2,1 Т а б л и ц а 3 Изотопный состав свинца в базальтах, щелочных породах и карбонатитах Горного Алтая и Кузнецкого Алатау T a b l e 3 Pb isotopic composition for the basalts, alkaline rocks and carbonatites of the Gorny Altai and Kuznetsk Alatau Местонахождение, массив Образец, порода, U | Th 1 Pb 206Pb/204Pbm 207Pb/204Pbm 208Pb/204Pbm 206Pb/204Pbin 207Pb/204Pbin г/т минерал 208Pb/204Pb, Горный Алтай Бассейн 30105, Б 1,69 5,44 1,87 22,946 15,784 42,703 17,754 15,487 37,349 р. Ирбисту 30106, Б 1,82 6,57 2,37 22,219 15,744 42,680 17,846 15,494 37,623 Эдельвейс В-17, ЩП 2,83 4,44 3,53 24,215 15,896 40,312 19,672 15,637 38,021 В-10, К, Pyr 0,078 0,007 1664 18,048 15,540 37,682 18,047 15,540 37,682 Кузнецкий Алатау Петропавловский ПТ-14, ПИ 2,01 2,76 6,10 19,637 15,629 38,249 17,924 15,531 37,494 Горячегорский* Г-11/7, ПИ 1,84 2,33 3,96 20,561 15,640 38,259 19,293 15,575 37,735 Кия- Г 0,61 0,71 2,61 18,993 15,581 38,005 18,048 15,529 37,650 Шалтырский** И 1,72 1,80 3,41 20,654 15,690 38,481 18,358 15,564 37,722 У 0,97 1,00 1,25 21,671 15,754 38,930 18,339 15,572 37,829 НС, KFsp 0,49 0,68 7,4 18,516 15,568 37,717 18,215 15,552 37,598 Pyrr 0,011 0,016 2,2 18,210 15,550 37,599 18,187 15,549 37,590 Pyrr 0,016 0,026 2,8 18,217 15,550 37,597 18,191 15,548 37,585 Примечание. Б - базальт, ЩП - щелочной клинопироксенит, Г - габбро, И - ийолит, У - уртит, ПИ - полевошпатовый ийолит, НС - нефелиновый сиенит, К - карбонатит, KFsp - калиевый полевой шпат, Pyr - пирит, Pyrr - пирротин. Изотопные отношения: m - измеренное, in - первичное (рассчитано на возраст 500 млн лет; * - 265 млн лет; ** - 400 млн лет). На Pb/Pb-диаграммах породы наряду с некоторыми другими производными кембрийского магматизма Горного Алтая и сопредельного Кузнецкого Алатау локализованы в области MORB и вблизи среднего состава умеренно деплетированной мантии PREMA. Считается, что в качестве одного из компонентов аналогичное вещество (eNd ~ 4; 87Sr/86Sr 207Pb/204Pb 208Pb/204Pb ~ 37,7) могло непосредственно участвовать в инициации внутриплитного базитового вулканизма провинции Бассейнов и Хребтов в Северной Америке [Рассказов и др., 2005]. Обсуждение результатов Гетерогенность источника вещества OIB. По существующим представлениям геохимические отличия базальтов океанских островов обусловлены участием в их петрогенезисе разнородного вещества мантии DMM, HIMU, EM I, EM II, FOZO, а также субдуцированной океанической коры и континентальных осадков (например: [Weaver, 1991; 206Pb/204Pb ■ 0,7038; 18,3; 15,5; Hofmann, 2003; Stracke et al., 2003; 2005; Jackson et al., 2007]). Как важный регулирующий фактор рассматривается процесс рециклинга древней метасо-матизированной литосферы под воздействием плю-мов [Dickin, 2005; Pilet et al., 2005; Niu et al., 2012]. Внутриплитная природа изученных базальтов отчетливо проявлена в виде их обогащенности большинством несовместимых элементов подобно OIB (см. рис. 2, 3). Исключение представляет Sr-минимум, который может отражать свойство магматического источника. На его мантийное происхождение и отсутствие признаков взаимодействия расплава с материалом континентальной коры указывают высокое Nb/U (до 45-56) и одновременно 207 204 206 204 пониженные значения Pb/ Pb- Pb/ Pb (см. рис. 4, б). По величине соотношений Th/La (~ 0,11-0,13), Th/Nb (~ 0,07-0,08), Rb/Nb (~ 0,31-0,54), Ba/Nb (~ 34,7), La/Nb (0,57-0,64) и изотопов свинца породы обладают уровнем накопления химических элементов, сходным с MORB [Weaver, 1991] (также см. рис. 3, 4, в-г). По некоторым из этих параметров они сопоставимы с производными позднедокембрийского OIB-магматизма Кузнецкого Алатау [Врублевский и др., 2016]. В близких по химизму вулканических ассоциациях Горного Алтая нередко наблюдаются вариации состава, также свидетельствующие о более разнообразном магматическом протолите с заметным участием вещества MORB и OPB (см. рис. 3). Как правило, отмеченные особенности связывают с деятельностью мантийного плюма. Рис. 4. Изотопный Pb-Pb состав базальтов, щелочных интрузий, карбонатитов Горного Алтая и Кузнецкого Алатау 1 - базальты бассейна р. Ирбисту; 2 - щелочные породы и пирит из карбонатитов (T ~ 500-510 млн лет) Горного Алтая и Кузнецкого Алатау; 3-4 - щелочные породы и минералы (пирротин, К - полевой шпат) Горячегорского (3, T ~ 265 млн лет) и Кия-Шалтырского (4, контур «К», T ~ 400 млн лет) массивов Кузнецкого Алатау. Составы современных мантийных доменов PREMA, HIMU, FOZO, MORB/DMM, EM I, EM II, OIB, элементы плюмботектоники и изотопной эволюции свинца по [Armienti, Gasperini, 2007; Hart et al., 1992; Stacey, Kramers, 1975; Stracke et al., 2003; 2005; Zartman, Doe, 1981; Zartman, Haines, 1988; Zindler, Hart, 1986]. Сравнение проводилось с учетом возможной магмогенерации из аналогичных мантийных субстратов в разные геологические эпохи. NHRL - Northern Hemisphere Reference Line [Hart, 1984]. На диаграмме 207Pb/204Pb -206Pb/204Pb (б) показаны кривые роста изотопных отношений в мантии и земной коре: UC = upper crust, Oro = Orogenic, M = Mantle [Zartman, Doe, 1981] Fig. 4. Pb-Pb isotopic composition for the basalts, alkaline intrusions, carbonatites of the Gorny Altai and Kuznetsk Alatau 1 - Irbitsu River basin basalts; 2 - alkaline rocks and pyrite from carbonatites (T ~ 500-510 Ma) of Altai Mountains and Kuznetsk Alatau; 3-4 - alkaline rocks and minerals (pyrrhotine, К - feldspar) of Goryachegorsk (3, T ~ 265 Ma) and Kiya-Shaltyr (4, «К» contour, T ~ 400 Ma) massifs of Kuznetsk Alatau. Compositions of such modern mantle domains as PREMA, HIMU, FOZO, MORB/DMM, EM I, EM II, OIB, plumbotectonics elements and lead isotopic evolution are given according to [Armienti, Gasperini, 2007; Hart et al., 1992; Stacey, Kramers, 1975; Stracke et al., 2003; 2005; Zartman, Doe, 1981; Zartman, Haines, 1988; Zindler, Hart, 1986]. The comparison was carried out with taking into consideration of possible magma generation from similar mantle substrata at different epochs. NHRL - Northern Hemisphere Reference Line [Hart, 1984]. At the 207Pb/204Pb -206Pb/204Pb diagram (б) graphs of isotopic ratios increase in mantle and crust are shown: UC = upper crust, Oro = Orogenic, M = Mantle [Zartman, Doe, 1981] Несмотря на общность распределения редких и рассеянных элементов, базальты бассейна р. Ирбисту неоднородны по изотопному составу Nd и Sr даже по сравнению с полифазными щелочными интрузиями региона (рис. 5, а). Вместе с тем величины eNdT и sSrT варьируют в диапазоне мантийной последовательности, характерной для плюмо-вых образований, и сопоставимы, например, с интервалом для вулканитов Катунского акккрецион-ного комплекса Горного Алтая. Наблюдаемый разброс значений позволяет предположить гетерогенный источник базальтовой магмы, возникший при смешении вещества умеренно деплетирован-ной (PREMA) и обогащенной (ЕМ 1) мантии. Участие резервуара HIMU, нередко генерирующего OIB-магматизм, не подтверждается данными по изотопному составу свинца (см. рис. 4). В связи с вероятным существованием глубинного мульти-компонентного субстрата отметим, что для модельной верхней мантии SUMA (Statistical Upper Mantle Assemblage) допускается ее значительная неоднородность, которой может быть обусловлено все многообразие MORB и OIB [Meibom, Anderson, 2003]. Рис. 5. Изотопная Nd-Sr систематика, состав и степень плавления магматического протолита базитовых пород Красные эллипсы - базальты бассейна р. Ирбисту. а - диаграмма eNdT - eSrT. Контуры 1 и 2 - составы субщелочных-щелочных пород и карбонатитов комплекса эдельвейс (1, ~ 507 млн лет), Теранджикского плутона (2 ~ 247 млн лет) в Горном Алтае [Врублевский и др., 2012; Крупчатников и др., 2015]; показаны изотопные вариации в базальтах Курайского, Катунского, За-сурьинского региональных аккреционных комплексов (АК) позднего докембрия - раннего палеозоя [Сафонова, 2008; Сафонова и др., 2011; Safonova et al., 2011]. Область Mantle array и положение резервуаров MORB, PREMA, HIMU, EM I обозначены в соответствии с их современными изотопными параметрами [Zindler, Hart, 1986]. б - диаграмма Sm/Yb - La/Yb [Xu et al., 2005]: на кривых плавления гранатового (Gr) и шпинелевого (Sp) модельных перидотитов отмечена доля (%) расплава. Коэффициент (Tb/Yb)PM [Wang et al., 2002] нормализован по составу примитивной мантии [Sun, McDonough, 1989] (см. текст). Средний OIB по [Sun, McDonough, 1989]; OIB KA - состав базальтов океанских островов Кузнецкого Алатау [Врублевский, Котельников, Крупчатников, 2016]. Базальты Катунского, Засурьинского АК (см. литературу к рис. 5) Fig. 5. Nd-Sr isotope systematics (a), composition and melting degree of the magmatic protolithe for the mafic rocks Red ellipses = Irbistu River basalts. а - eNdT - eSrT diagram. 1 and 2 sections - compositions of subalkaline-alkaline rocks and carbon-atites of Edelweiss complex (1, ~ 507 Ma), Terangik pluton (2 ~ 247 Ma) at Gorny Altai [Vrublevskii et al., 2012; Krupchatnikov, Vrublevskii, Kruk, 2015]; isotopic variations in basalts of late Precambrian and early Paleozoic Kuray, Katun, Zasuryin accretionary complexes (АК) are shown [Safonova, 2008; Safonova et al., 2011]. Mantle array section and MORB, PREMA, HIMU, EM I locations are given in accordance with their modern isotopic parameters [Zindler, Hart, 1986]. b - Sm/Yb - La/Yb diagram [Xu et al., 2005]: melt portions (%) are noted at garnet (Gr) and spinel (Sp) model peridotites melting graphs. (Tb/Yb)PM ratio [Wang et al., 2002] is normalized to primitive mantle composition [Sun, McDonough, 1989] (see in the text). Average OIB composition is given according to [Sun, McDonough, 1989]; OIB KA - composition of oceanic islands basalts of Kuznetsk Alatau [Vrublevskii, Kotelnikov, Krupchatnikov, 2016]. Katun, Zasuryin complexes basalts (see references for fig. 5) Степень плавления и уровень глубинности ман- представлениям [Hofmann, 2003], генерация родона-тийного магматического протолита. Согласно чальной OIB-магмы происходит при низкой степени плавления материала пиролитовой мантии. На присутствие граната в модельном перидотите источника изученных базальтов могут указывать повышенные концентрации в них HREE (~ 16-33 г/т) и Y (1845 г/т). Характер соотношений легких и тяжелых лантаноидов в породах позволяет предполагать, что магмообразование наподобие среднего OIB происходило в условиях ~ 7-8% равновесного плавления модельного гранатового лерцолита мантии (рис. 5, б). Как было показано ранее [Крупчатни-ков, 2011], поведение редких элементов могло быть вызвано смешением расплавов перидотита разного состава или наличием исходного гранат-шпине-левого парагенезиса. По существующим оценкам уровень субсолидус-ного фазового перехода шпинель - гранат в мантийных перидотитах соответствует глубине ~ 100 км и давлении ~ 30 кбар [Klemme et al., 2000; Robinson, Wood, 1998]. Предположительно, при плавлении гранатовых перидотитов их базальтовые производные будут обладать более высокими значениями (Tb/Yb)pM > 1,8 в отличие от шпинелевых разновидностей [Wang et al., 2002]. В базальтах бассейна р. Ирбисту коэффициент (Tb/Yb)PM изменяется в интервале ~ 2,2-2,7, что может свидетельствовать о несколько большей глубине протолита по сравнению с OIB Кузнецкого Алатау при сходной степени плавления (см. рис. 5, б). Как видно на примере обогащенных вулканитов Катунского и Засурьинского аккреционных комплексов северной части Горного Алтая, условия зарождения (глубинность, доля расплавов, масштабы смешения вещества) материнских магм заметно отличаются даже для сближенных во времени и пространстве разновидностей OIB. Таким образом, изученные базальты можно рассматривать как производные внутриплитного OIB-вулканизма, развитие которого, как и в Кузнецком Алатау, происходило под влиянием горячей точки на литосферу закрывающегося Палеоазиатского океана. В качестве регуляторов магматической эволюции предполагается не только гетерогенность самого плюма, но также состав, глубина и степень плавления мантийных протолитов. При этом допускается смешение глубинного вещества по типу PREMA + ЕМ 1, а также 7-8%-ное парциальное плавление модельного гранатового лерцолита мантии. Авторы благодарны сотрудникам ГИН КНЦ РАН (г. Апатиты), аналитических центров ВСЕГЕИ (г. Санкт-Петербург), ИГМ СО РАН (г. Новосибирск), ТГУ (г. Томск), ИГЕМ РАН (г. Москва) и Университета Британской Колумбии (г. Ванкувер, Канада) за участие в исследованиях. Работа выполнена при поддержке Министерства образования и науки РФ и Томского государственного университета (проекты 1013, 8.1.14.2015).
Волкова Н.И., Ступаков С.И., Третьяков Г.А. и др. Глаукофановые сланцы Уймонской зоны - свидетельство ордовикских аккреционно-коллизионных событий в Горном Алтае // Геология и геофизика. 2005. Т. 46 (4). С. 367-382
Врублевский В.В., Крупчатников В.И., Изох А.Э., Гертнер И.Ф. Щелочные породы и карбонатиты Горного Алтая (комплекс эдельвейс): индикатор раннепалеозойского плюмового магматизма в Центрально-Азиатском складчатом поясе // Геология и геофизика. 2012. Т. 53 (8). С. 945-963
Врублевский В.В., Котельников А.Д., Крупчатников В.И. Позднедокембрийский OIB-магматизм Кузнецкого Алатау, Сибирь: геохимические особенности вулканитов кульбюрстюгской свиты // Доклады Академии наук. 2016. Т. 469 (4). С. 457460
Гусев А.И. Метабазиты Алтая, близкие к мантийным базальтоидам Dupal-аномалии // Природные ресурсы Горного Алтая. 2014. № 18 (1-2). С. 13-23
Добрецов Н.Л., Буслов М.М., Сафонова И.Ю., Кох Д.А. Фрагменты океанических островов в структуре Курайского и Катунского аккреционных клиньев Горного Алтая // Геология и геофизика. 2004. Т. 45 (12). С. 1381-1403
Крупчатников В.И., Врублевский В.В., Гертнер И.Ф., Кривчиков В.А. Базальты OIB-типа бассейна р. Ирбисту, юго-восток Горного Алтая: свидетельство HIMU-компонента в магматическом источнике // Доклады Академии наук. 2011. Т. 439 (5). С. 665-668
Крупчатников В.И., Врублевский В.В., Крук Н.Н. Раннемезозойские лампроиты и монцонитоиды юго-востока Горного Алтая: геохимия, Sr-Nd изотопный состав, источники расплавов // Геология и геофизика. 2015. Т. 56 (6). С. 1057-1079
Рассказов С.В., Брандт С.Б., Брандт И. С., Иванов А.В. Радиоизотопная геология в задачах и примерах. Новосибирск : Изд-во ГЕО, 2005. 268 с
Сафонова И.Ю. Геохимическая эволюция внутриплитного океанического магматизма Палеоазиатского океана от позднего неопротерозоя до раннего кембрия // Петрология. 2008. Т. 16 (5). С. 527-547
Сафонова И.Ю., Симонов В.А., Буслов М.М., Ота Ц., М^уяма Ш. Неопротерозойские базальты Палеоазиатского океана из Курайского аккреционного клина (Горный Алтай): геохимия, петрогенезис, геодинамические обстановки формирования // Геология и геофизика. 2008. Т. 49 (4). С. 335-356
Сафонова И.Ю., Буслов М.М., Симонов В.А. и др. Геохимия, петрогенезис и геодинамическое происхождение базальтов из Катунского аккреционного комплекса Горного Алтая (Юго-Западная Сибирь) // Геология и геофизика. 2011. Т. 52 (4). С. 541-567
Armienti P., Gasperini D. Do we really need mantle components to define mantle composition? // Journal of Petrology. 2007. V. 48 (4). Р. 693-709
Bi J.H., Ge W.C., Yang H et al. Geochronology, geochemistry and zircon Hf isotopes of the Dongfanghong gabbroic complex at the eastern margin of the Jiamusi Massif, NE China: Petrogensis and tectonic implications // Lithos. 2015. V. 234/235. Р. 27-46
Bo L., Bao-Fu H., Zhao X. et al. The Cambrian initiation of intra-oceanic subduction in the southern Paleo-Asian Ocean: Further evidence from the Barleik subductionrelated metamorphic complex in the West Junggar region, NW China // Journal of Asian Earth Sciences. 2016. V. 123. Р. 1-21
Condiе K.C. Mantle plumes and their record in Earth history. Cambridge : Cambridge Univ. Press, 2001. 305 p. Condie K.C. High field strength element ratios in Archean basalts: a window to evolving sources of mantle plumes? // Lithos. 2005. V. 79. Р. 491-504
Dickin A.P. Radiogenic isotope geology. N.Y. : Cambridge University Press, 2005. 492 p
Hart S.R. A large scale isotope anomaly in the Southern Hemisphere mantle // Nature. 1984. V. 309. Р. 753-757
Hart S.R., Hauri E.H., Oschmann L.A, Whitehead J. A. Mantle plumes and entrainment: isotopic evidence // Science. 1992. V. 256. Р. 517-520
Hofmann A.W. Sampling mantle heterogeneity through oceanic basalts: isotopes and trace elements // Treatise on Geochemitry. Elsevier Ltd., 2003. V. 2. Р. 61-101
Jackson M.G., Hart S.R., Koppers A.A.P., Staudigel H., Konter J., Blusztajn J., Kurz M., Russell M.A. The return of subducted continental crusr in Samoan lavas // Nature. 2007. V. 448. Р. 684-687
Klemme S., O'Neill H. StC. The near-solidus transition from garnet lherzolite to spinel lherzolite // Contrib. Mineral. Petrol. 2000. V. 138. Р. 237-248
Meibom A., Anderson D.L. The statistical upper mantle assemblage // Earth and Planetary Science Letters. 2003. V. 217. Р. 123139
Niu Y., Wilson M., Humphreys E.R., O'Hara M.J. A trace element perspective on the source of ocean island basalts (OIB) and fate of subducted ocean crust (SOC) and mantle lithosphere (SML) // Episodes. 2012. V. 35 (2). Р. 310-327
Pearce J.A. Geochemical fingerprinting of oceanic basalts with applications to ophiolite classification and the search for Archean oceanic crust // Lithos. 2008. V. 100. Р. 14-48
Pilet S., Hernandez J., Sylvester P., Poujol M. The metasomatic alternative for ocean island basalt chemical heterogeneity // Earth and Planetary Science Letters. 2005. V. 236. Р. 148-166
Robinson J.A.C., Wood B.J. The depth of the spinel to garnet transition at the peridotite solidus // Earth and Planetary Science Letters. 1998. V. 164 (1/2). Р. 277-284
Saccani E. A new method of discriminating different types of post-Archean ophiolitic basalts and their tectonic significance using Th-Nb and Ce-Dy-Yb systematics // Geoscience Frontiers. 2015. V. 6. Р. 481-501
Safonova I.Yu., Sennikov N.V., Komiya T., Bychkova Y.V., Kurganskaya E.V. Geochemical diversity in oceanic basalts hosted by the Zasur'ya accretionary complex, NW Russian Altai, Central Asia: Implications from trace elements and Nd isotopes // Journal of Asian Earth Sciences. 2011. V. 42. Р. 191-207
Stacey J.C., Kramers J.D. Approximation of terrestrial lead isotope evolution by a two-stage model // Earth and Planetary Science Letters. 1975. V. 26. Р. 207-221
Stracke A., Bizimis M., Salters V.J.M. Recycling oceanic crust: Quantitative constraints // Geochemistry Geophysics Geosystems. 2003. V. 4 (3). DOI 10.1029/2001GC000223
Stracke A., Hofmann A.W., Hart S.R. FOZO, HIMU, and rest of the mantle zoo // Geochemistry, geophysics, geosystems. 2005. V. 6 (5). Р. 1-20
Sun S., McDonough W.F. Chemical and isotopic systematics of oceanic basalts: implications for mantle composition and processes // Magmatism in the ocean basins / eds by A.D. Saunders, M.J. Norry. Geol. Soc. Spec. Publ., 1989. V. 42. Р. 313-345
Wang K., Plank T., Walker J.D., Smith E.I. A mantle melting profile across the Basin and Range, SW USA // Journal of Geophysical Research. 2002. V. 107 (B1). DOI: 10.1029/2001JB000209
Weaver B.L. The origin of ocean island basalt end-member compositions: trace element and isotopic constraints // Earth and Planetary Science Letters. 1991. V. 104 (2-4). Р. 381-397
Xu Y.G., Ma J.L., Frey F.A., Feigenson M.D., Liu J.F. Role of lithosphere-asthenosphere interaction in the genesis of Quaternary alkali and tholeiitic basalts from Datong, western North China Craton // Chemical Geology. 2005. V. 224. Р. 247-271
Zartman R.E., Doe B.R. Plumbotectonics - the model // Tectonophysics. 1981. V. 75. Р. 135-162
Zartman R.E., Haines S.M. The plumbotectonic model for Pb isotopic systematics among major terrestrial reservoirs - A case for bi-directional transport // Geochimica et cosmochimica acta. 1988. V. 52. Р. 1327-1339
Zindler A., Hart S.R. Chemical geodynamics // Ann. Rev. Earth Planet. Sci. 1986. V. 14. Р. 493-571
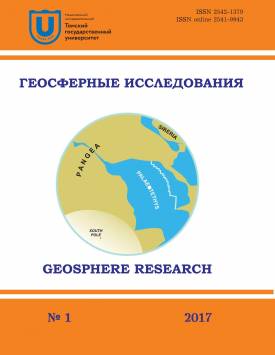

 Вы можете добавить статью
Вы можете добавить статью