На материалах дальневосточной епархиальной периодической печати произведена реконструкция миссионерского исторического нарратива рубежа XIX-XX вв. Выявлены основные сюжеты и характерные для этого нарратива структурные элементы. Сделан вывод о необходимости изучения церкви с точки зрения ее функционирования как отдельного социального института, представители которого являются активными равноправными участниками процессов имперского государственного строительства на окраине, конструируя при этом свои собственные смыслы и идентичности.
Missionary historical narrative and the circumstances of its formation (based on materials from the Far Eastern diocesan.pdf На сегодняшний день можно констатировать рост количества публикаций, посвященных различным аспектам освоения Российской империей своих азиатских окраин. Однако в центре внимания по-прежнему остаются действия светской власти и идеологические конструкты имперских военных и гражданских экспертов. При этом деятельность церковных институтов либо игнорируется, либо ей отводится второстепенное и даже третьестепенное значение, тем самым пролонгируется восходящее к советской историографии положение о православной церкви как «идеологическом приводном ремне государства». Материалы дальневосточной епархиальной периодики позволяют скорректировать это утверждение и показать роль церкви, по словам А.В. Ремнева, в «культурном и научном завоевании» региона [1. C. 16]. К началу ХХ в. представители регионального духовенства выработали собственную корпоративную идентичность, одним из важных элементов которой являлся миссионерский исторический нарратив. Цель нашего исследования - реконструировать основные структурные элементы этого нарратива и выявить обстоятельства его формирования. Исследование основывается на исторических статьях и заметках, опубликованных на страницах Камчатских и Благовещенских епархиальных ведомостей в 1894-1901 гг. Эти разрозненные публикации охватывают период с XVII в., тем не менее могут быть рассмотрены как единое повествование, поскольку, несмотря на принадлежность авторов к разным возрастным поколениям, несходство их профессиональных и жизненных опытов, отличия в уровне образования, все они являлись проводниками власти России на азиатской окраине и действовали в рамках единого культурного поля, которое в значительной степени и предопределило единообразие их взглядов. Формирование местного «ведомственного» исторического нарратива началось на этапе перехода от культурного закрепления региона к его имперскому поглощению. В таких обстоятельствах осмысление событий недавнего прошлого значительно актуализировалось. Свой вариант репрезентации данных процессов предложили наши авторы - корреспонденты Камчатских епархиальных ведомостей (издавались с 1894 г.). На страницах этого печатного органа обсуждались вопросы развития региона, публиковались статьи по истории, статистике, экономике, этнографии и пр. Уже в первом номере Камчатских епархиальных ведомостей увидели свет воспоминания первого священника Свято-Никольской церкви в Благовещенске Александра Поликарповича Сизого, активного участника освоения Приамурья в середине XIX в. [2. C. 285287]. Затем в пятом номере была опубликована схожая по содержанию и стилю заметка «Голос прихожанина» (под псевдонимом «Прихожанин»). Обе эти работы написаны на основе воспоминаний А.П. Сизого, на них также ссылаются и другие авторы, в сочинениях которых они присутствуют в виде интертекста. Вслед за «мемуарами» А.П. Сизого в период с 1894 по 1897 г. выходит ряд публикаций Александра Васильевича Кириллова, посвященных различным сюжетам из исторического прошлого епархии. Стоит отметить, что этот автор был образован гораздо лучше, чем все остальные: он закончил Московскую духовную академию и имел степень кандидата богословия [3. C. 180181]. Кроме того, к моменту прибытия в Благовещенск Кириллов был уже состоявшимся исследователем-крае-ведом: еще в 1877 г. вышло в свет его первое историческое произведение - «Историко-этнографический очерк Вознесенского прихода Архангельского уезда» [4. C. 6-8]. Во время своего пребывания в Приамурье А.В. Кириллов активно совмещал научную и преподавательскую деятельность с участием в общественной и политической жизни региона: занимал ряд административных должностей, в том числе и пост градоначальника Благовещенска (1898-1905) [Там же. C. 4]. Отметился своими историко-краеведческими работами и священник-миссионер Афанасий Александрович К.А. Семенчук 72 Протодиаконов, сочетавший публицистическую деятельность с административной работой. Будучи назначенным в 1893 г. начальником Камчатской духовной миссии [5. C. 67], он пребывал в этой должности вплоть до своей смерти в 1899 г. и по долгу службы являлся автором ряда отчетов о состоянии и деятельности Камчатской духовной миссии - небезынтересных этнографических произведений. Помимо трудов упомянутых авторов, регулярно выходили в свет путевые записки священника Симеона Тихвинского - заметного деятеля в сфере устроения церковных образовательных институтов на Амуре [6]. В этих записках он ситуативно касается некоторых исторических сюжетов. Здесь же стоит упомянуть и последнего из интересующих нас авторов - епископа Никодима (Бокова). Для нашего исследования важна стенограмма его речи, произнесенной в присутствии светских высших воинских и гражданские чинов, а также местного войска на площади г. Хабаровска в годовщину окончания Русско-китайской войны [7. C. 379]. Несмотря на то, что епископ Никодим был назначен в Приамурье только в декабре 1900 г., текст его выступления содержит в себе элементы, характерные для «информационной повестки дня» региона, и, кроме того, логично встраивается в исторический нарратив, созданный на страницах Камчатских епархиальных ведомостей ранее. В этой связи необходимо обратить внимание на тот факт, что епископа в путешествиях по обозрению епархии сопровождал священник С. Тихвинский. Хотя общий нарратив выстраивался постепенно, работы всех перечисленных авторов объединены единой идеей, которая образно выражена епископом Никодимом: «Такова уж историческая миссия наша на востоке: впереди меч, для поражения темных сил, а затем уже - крест, для водворения христианского света» [8. C. 341]. Наличие такого концептуального сходства позволяет предположить, что все рассматриваемые нами тексты объединены общей исторической памятью, которая кристаллизуется в трех важных для русского населения региона сюжетах. В интересах исследования каждый из них был озаглавлен нами цитатой из источника, наиболее емко отражающей пафос его содержания. 1. «Достославные годы на Амуре» (приблизительно 1651-1689 гг.). Повествование сосредоточено на первом появлении русских на Амуре, осаде и разрушении крепости Албазин, подписании Нерчинского договора и потере региона. 2. «Возвращение Приамурского края в достояние России» (приблизительно 1855-1868 гг.). В этой части повествование ведется об экспедиции Г.И. Невельского, основании Усть-Зейского поста, подписании Айгунского трактата (1858), строительстве церквей в г. Благовещенске и будущем г. Хабаровске, деятельности Н.Н. Муравьева-Амурского и архиепископа Иннокентия (Вениаминова). Обе части практически во всех анализируемых публикациях присутствуют совместно, что дает основание говорить об их смысловом и даже функциональном единстве. 3. «Достославная война за свет Христов» (19001901 гг.). Данный сюжет всецело связан с осмыслением итогов Русско-китайской войны; с предыдущими частями его объединяет задача - подвести историческое и моральное обоснование русской экспансии в Маньчжурию. В соответствии с целью исследования мы считаем необходимым более подробно отдельно проанализировать выделенные сюжеты и охарактеризовать их при помощи следующих элементов-индикаторов: а) построение описания природного и культурного ландшафта на противопоставлении дикости и цивилизации, природы и культуры; б) использование приема антитезы не только при описании исторических деятелей как героев или антигероев, но и абстрактных действующих субъектов («наши православные соотечественники» и противостоящие им «китайцы», «голод», «холод», «болезни» и т.д.); в) описание травмирующего опыта или жертвы, которая иногда наделяется сакральным значением и выступает для акцентирования стремления положительных героев к самопожертвованию (жертвенности); г) имплицитное присутствие трансцендентной силы, определяющей исторический процесс («Промысел Божий»), что является знаковой чертой всей краеведческой публицистики религиозного характера. «Достославные годы на Амуре» Территориально повествование сконцентрировано вокруг крепости Албазин в Приамурье. В качестве безымянных положительных персонажей здесь фигурируют «русские промышленные люди», «отважные казаки», «наши православные соотечественники» [9. C. 13], которым на помощь, как правило, приходят «правительство и духовная власть» [10. C. 346]. Главные герои: «смелый, смышленый и промышленный человек Ерофей Хабаров» [Там же. C. 345], «носитель великой веры и истинно христианской горячей любви» иеромонах Ермоген (Гермоген) [11. C. 4], иногда в этом ряду упоминается и воевода Толбузин [10. C. 346]. Характеристики ландшафта не артикулированы и, в сущности, заменены идеологическим клише «темная языческая территория», на которую русскими первопроходцами и миссионерами был принесен «свет веры Христовой» [12. C. 370]. Культурный ландшафт представляют острог Алба-зин, который изображен в тексте как «центр русской силы, веры и благочестия» [9. C. 13], и монастырь во имя Всемилостивейшего Спаса в урочище Брусяной камень [10. C. 347]. В повествование об этом монастыре А.В. Кириллов включил распространенное суждение о том, что «...монастыри в старину были просветительными центрами, из которых исходил свет во мрак язычества. Так дело обстояло во всей Сибири; не иначе было. и в Амурском крае» [11. C. 4]. Стоит отметить, что в «Сказании» А.П. Сизого этот монастырь фигурирует как «монастырь Святой Троицы» [9. C. 13]. Вероятно, ошибка связана с тем, что иеромонах Гермоген (Ермоген) - основатель Спасского монастыря - Миссионерский исторический нарратив и обстоятельства его формирования 73 также являлся устроителем Усть-Киренского Троицкого монастыря в Иркутской епархии. В качестве антигероев выступают сначала «дауры», а затем китайцы и китайский император. Завершается повествование микросюжетом о том, что китайцы «вынудили их (русских. - К.С.) оставить жительство свое, храмы, монастырь и крепость Албазин... Приамурский край был оставлен, но не забыт» [9. C. 13], -таким образом вводится элемент коллективного травмирующего опыта. В целом эта часть нарратива обосновывает историческую справедливость и предопределенность присоединения Приамурья к России в середине XIX в. В ней формируется образ утраченной русской христианской православной территории, которая была силой отобрана Китайской империей. Причины произошедшего ни в одном тексте не имеют строго выражения. В каждом из них как бы подразумевается, что Россия утратила Приамурье в силу неких масштабных исторических и трансцендентных факторов, поэтому примечательно замечание Тихвинского: «Не настало еще время русской власти на Амуре» [10. C. 347]. Таким образом, закладываются основания для постулата об «историческом праве» на воссоединение отобранных территорий: «православные соотечественники» были изгнаны из Албазина до определенного времени в будущем. И когда это время наступает, российское государство восстанавливает историческую справедливость и возвращает Приамурье в достояние России [9. C. 13]. В этой части нарратива закладываются идейный фундамент и завязка для дальнейшего повествования. Здесь же стоит отметить факт практически полного отсутствия какой-либо информации об Амурском крае в составе Цинской империи. Временной период с 1689 по 1850-е гг. представляет собой лакуну в повествовании. Однако есть некоторые исключения. Наиболее значимое из них - краткое замечание священника С. Тихвинского. В нем он, ссылаясь на сообщения «стариков маньчжур» и «старожилов переселенцев», говорит о Приамурье как о плотно заселенной территории, но «когда китайцы узнали, или. стали догадываться, что скоро придут Русские и отберут эту землю... немедленно стали нещадно выжигать леса и мало-помалу... выселяться из этого края» [13. C. 440]. «Возвращение Приамурского края в достояние России» Территориально основное повествование разворачивается вокруг двух объектов: Усть-Зейского поста (затем г. Благовещенск) и Хабаровского поста (г. Хабаровск). В качестве безымянных положительных субъектов фигурируют русские солдаты, «муравьев-ские воины» [14. C. 9], «амурские герои» [15. C. 191] и т.д. Главные и наиболее часто упоминаемые действующие исторические персоны: архиепископ Иннокентий (Вениаминов), генерал-губернатор Восточной Сибири Н.Н. Муравьев-Амурский, протоиерей А.П. Сизой. Значительно реже упоминается руководитель Амурской экспедиции Г.И. Невельской. Каждый из этих персонажей наделен исключительно положительными качествами: Н.Н. Муравьев - человек, «соединявший с административною дальнозоркостью и святую ревность о распределении христианства...» [16. C. 47-59] и «утомленный борец за благо России» [14. C. 9]; архиепископ Иннокентий (Вениаминов) - «убежденный патриот, проникнутый лучшими идеалами и стремлениями и беззаветно преданный интересам церкви...» [17. C. 342]; Г.И. Невельский - «человек, горячо преданный амурским интересам» [16. C. 51]; А.П. Сизой - «амурский ветеран», «плодотворная и полезная деятельность» которого «хорошо известна всем и каждому на Амуре» [18. C. 488]. В описании природного ландшафта используются характеристики, которые, с одной стороны, указывают на густую лесную растительность («дикая, непроходимая, глухая тайга», «девственные дебри»), а с другой - на пустынность территорий («берега пустынных рек», «дикая, первобытная пустыня» [19. C. 112]). При этом «российские» территории представлены очищенными от леса участками и возвышенностями (горы, холмы), на которых располагается тот или иной населенный пункт или культурный объект. В этом контексте обретает крайне интересное значение приведенное выше замечание Тихвинского, поскольку в нем содержится указание не только на причины запустения края, но и на относительно «добровольный» уход китайского населения отсюда [13. C. 440]. Культурный ландшафт представлен в большинстве своем описанием русских поселений. Все они в текстах сосредоточены вокруг центра - храма, возвышающегося над остальными постройками «словно великан среди избенок и землянок» [14. C. 2]. Нередко «церковное» соседствует в тексте с неким символом государственной власти. Например, в повествовании о Никольской церкви в Благовещенске говорится, что «в двух саженях от церкви на южной стороне было на высоте воздвигнуто Государственное знамя, показывающее, что эта страна отныне навсегда принадлежит Русскому Царю и Русской Православной церкви» [9. C. 16]. Этот сюжет обнаруживается и в иной интерпретации: «А рядом с тою же церковью, на историческом холмике, руками двух великих деятелей впервые водружено под сению креста русское государственное знамя, указавшее всему миру, что обширнейшая и богатейшая страна стала с того времени достоянием русского народа и русской православной церкви!» [14. C. 2]. То же самое справедливо и для описаний Хабаровска: «.священник (А.П. Сизой. - К.С.) достиг Хабаровска на 14-е сутки и, отправив все духовные требы, освятив место для будущего храма во имя Св. Марии Магдалины и для казарменных помещений, возвратился в г. Благовещенск» [9. C. 16]; уже в другом тексте: «Для постройки храма избрали место на средней горе - там, где впервые был отслужен о. Александром Сизым благодарственный Господу Богу молебен и где в настоящее время стоит часовня, что против дома Генерал-Губернатора» [20. C. 417]. С этой точки зрения вполне характерно указание мотива выбора места под храм в с. Песчано-Озерском: «Выбранная на видной возвышенности площадь под храм при живописности местоположения вполне была удобна и пригодна для этой цели» [21. C. 184]. К.А. Семенчук 74 Постройки (инородцев и китайцев) в текстах практически не представлены, за исключением того, что единично упоминаются «идольские капища», «маньчжурское селение», «гольдская деревенька», «гольдское стойбище». Приамурье до прихода русских всюду описывается в первую очередь как пустынный и дикий край, что подчеркивает положительную роль России, осваивающей и цивилизующей эту местность. Антигерои представлены в этой части нарратива китайским правительством, «некоторыми недоброжелательными сановниками» (российскими), «маньчжурской толпой». Однако в силу того, что присоединение Приамурья к России произошло мирным путем, в гораздо большей степени в качестве «противника» выступают природные силы: холод, голод, болезни и даже хищные звери. Отсюда вполне закономерно, что основное противостояние разворачивается между человеком и природой. Именно природные факторы становятся причиной коллективной травмы (жертвы). В тексте к этим жертвам, фигурирующим как «...истинно русские люди и христиане “положившие живот свой за страну сию”» [14. C. 8], отнесены: 1. «Муравьевские воины - пионеры в колыбели нынешнего Благовещенска» [Там же. C. 9] - умершие от тифа казаки из отряда «офицера Травина», которые в 1856 г. прибыли в Усть-Зейский пост и несли «тяжелую сторожевую службу, подвергаясь страшным лишениям от холода, голода и болезней» [9. C. 14]. По сообщению А.П. Сизого, большая часть отряда погибла от тифа, а оставшиеся в живых «были не в силах даже приготовить умершим могилы и порешили срубить из бревен. мертвокладную и положили до весны своих товарищей, положивших живот за страну сию», затем, после перезахоронения умерших, «здание усыпальницы приказано было перенести на место, где помещена была походная церковь. и здание это есть нынешний алтарь церкви» (Никольская церковь) [Там же. C. 14-15]. 2. «Пользовавшийся безграничной любовью за свое обхождение с больными. врач Смирнов» [Там же. C. 17], умерший от тифа в Благовещенске и похороненный «за алтарем» Никольской церкви [14. C. 8]. Приведенные эпизоды демонстрируют тенденцию к сакрализации жертв, принявших смерть за освоение Приамурья. При этом Никольская церковь за счет связи с этими «жертвами» в тексте приобретает характер исторического, символического и религиозного центра не только Благовещенска, но и всего Амурского края. Отдельно стоит сказать об описании А.П. Сизым его путешествия с отрядом солдат в Хабаровский пост для освящения места для будущего храма и казарменных помещений, из которого выясняется, что члены отряда «подверглись страшным лишениям и опасностям от голода, противных ветров, хищных зверей, болезней, лишившись двух рядовых. кое-как дотащились до своих жилых избушек...» [Там же. C. 17]. Из этого следует то, что вполне характерный для христианского миссионерства мотив жертвенности (самопожертвование ради освоения новых территорий) присутствует и в рассказе об основании хабаровской церкви. Как и в первой части, основной движущей силой исторического процесса выступает нечто трансцендентное (например, «Промышление Божественное» [9. C. 13]). Эта часть является логическим завершением первой. Выстраивается объяснительная система, в которой российское государство и Русская православная церковь реализуют свое историческое право на возвращение утраченных христианских территорий. Данный процесс на страницах Епархиальных ведомостей предстает как реализация некоего божественного замысла и является неотвратимым. Эта идея позже будет фигурировать и в речи епископа Никодима (Бокова), являющейся центральной для реконструкции последней части нарратива. «Достославная война за свет Христов» Центральный текст для реконструкции этой части нарратива - стенограмма речи епископа Никодима (Бокова), произнесенной «в память окончания Маньчжурской войны». В целом повествование сосредоточено вокруг русского Дальнего Востока. В качестве положительного действующего субъекта выступает русский народ - «обладатель огромных пространств на востоке и пресыщенный сими приобретениями», «светильник и провозвестник света Божественной истины среди народов и ближнего, и дальнего востока»; народ «всегда стремившийся к мирному существованию» и «поднимавший оружие только на защиту своего отечества» [8. C. 337-340]. Аналогично позитивно представлены цели и интересы русского народа: «сохранение с ним (Китаем. - К.С.) продолжительного мира»; «укрепление выгодных торговых отношений»; «единодушная борьба против возможного общего врага» [Там же. C. 338-339]. В качестве антигероя и основной деструктивной силы выступают не китайцы, но «темная и губительная сила - дьявол и собственные человеческие страсти и заблуждения» [Там же. C. 340], а также «разбушевавшиеся темные силы» [Там же. C. 341]. В описании же китайцев, которые ранее фигурировали в качестве противников, присутствует двойственность: с одной стороны, это «народ мирный» и «чуждый завоевательных наклонностей», «стремящийся жить обособленно.», но с другой - народ «дикий» с «суеверно-языческим миросозерцанием» [Там же. C. 342]. Последние характеристики сближают их с собирательным образом инородцев. Природный и культурный ландшафт в тексте мало представлен. В основном упоминаются Китай и Россия, которые противопоставлены друг другу: «многолюбивая Россия» [Там же. C. 343] и «возмутившийся Китай», «дальний неверный восток» [Там же. C. 342], «страна мрака и заблуждений» [Там же]. В тексте артикулировано выражена идея о трансцендентной причинности исторического процесса, поскольку «все подчиняется одной высшей воле, одному Высшему Разуму.» [Там же. C. 340]. Из этой идеи следует утверждение о том, что русский народ воплощает «возложенную на него Промыслом миссию приобщения к православной христианской культуре всех неверных народов востока» [Там же. C. 341]. Миссионерский исторический нарратив и обстоятельства его формирования 75 Кроме того, в тексте вторжение в Китай ставится в один ряд со взятием «первого города неверных на “ближнем востоке”» - Казани [8. C. 342]. При этом мы можем видеть, что к числу «жертв», пусть и в скрытом виде, относятся не только русские, но и китайцы. И этот момент получает дальнейшее развитие в епархиальной печати [22. C. 18]. Такая тенденция, если ее рассматривать в контексте массового убийства китайцев в Благовещенске летом 1900 г., а также в связи с российской экспансией в Маньчжурию, открывает широкое поле для интерпретаций. На наш взгляд, рост интереса к китайцам и Китаю в среде духовенства демонстрирует оптимистичный взгляд на их христианизацию, возможность которой ранее подвергалась сомнению и вызывала дискуссии [23]. Нам видится, что основная цель рассматриваемого текста - скорректировать старую объяснительную модель, которая уже не работала ввиду того, что Россия вторглась на заселенные территории Китая, которые ранее ей никогда не принадлежали. В связи с этим возникла острая потребность в разъяснении сложившейся ситуации как духовенству, так и обществу в целом. В таких обстоятельствах вопрос о том, в чем заключалась необходимость новой экспансии на восток и новые жертвы, был крайне актуальным. Версию произошедшего попытался дать в своей речи епископ Приамурский и Благовещенский Никодим (Боков), согласно которой: - Россия была «вынуждена» вторгнуться на территорию Китайской империи, поскольку русский народ защищал «свою жизнь и семейные очаги» [8. C. 339]; - вторжение осуществлялось исключительно с благими для Китая намерениями: «с целью усмирения разбушевавшихся темных сил... водворения мира и порядка... установления права и безопасности» [Там же. C. 341]; - с российского государства снимается всякая ответственность за людские жертвы, понесенные в ходе войны (следовательно, и за произошедший в Благовещенске китайский погром), и, в свою очередь, возлагается на действия «дьявола», «собственные человеческие страсти и заблуждения» [Там же. C. 340] и «разбушевавшиеся темные силы» [Там же. C. 341]. - российское государство имеет божественную санкцию на восточную экспансию [Там же], которая, в свою очередь, является лишь продолжением многовекового движения на «неверный восток». Таким образом, разрушения и жертвы как среди русского, так и среди китайского населения («остались вместо цветущих селений и деревень одни лишь обгорелые столбы и глинобитные развалины» [24. C. 453]) становятся исторически и религиозно оправданными, поскольку произошедшее послужило воплощению в жизнь исторической миссии России на Востоке -«водворению христианского света» [8. C. 341]. В итоге складывается интерпретационная модель, в которой продвижение в Китай становится одновременно исторически обоснованным, вынужденным и религиозно необходимым. Данная модель содержит в себе оптимистичный взгляд на возможность дальнейшей экспансии на восток, неотъемлемой частью которой является распространение христианства. Такой оптимизм был присущ не только представителям приамурского духовенства, но и главе Русской духовной миссии в Пекине - архимандриту Иннокентию (Фигуровскому) [25. C. 88]. Заключение Процесс формирования исторического нарратива активно вписывался в исторический контекст и внешнеполитическую конъюнктуру. Если в публикациях 1894-1897 гг. содержится лишь обоснование исторической правомерности русского присутствия в Приамурье, то уже после подавления восстания ихэтуаней в 1901 г. мы обнаруживаем оправдание возможной дальнейшей экспансии Российской империи, в которой православная церковь занимает далеко не последнее место. Если мы примем во внимание существовавший рамочный нарратив, где российский император выступает качестве «Помазанника Божия» [26. С. 98], то российская государственность и православная церковь предстают в качестве инструментов для воплощения божественного замысла - «меча» и следующего за ним «креста», вложенных в руки православного императора, «облеченного силою и властию свыше» [Там же]. Тем самым православная церковь, юридически подчиненная светской власти, в дальневосточном историческом нарративе выступает как равноправный участник в деле освоения азиатских окраин империи. Кроме того, прослеживаются и местные ведомственные интересы, наши авторы открыто симпатизируют своеобразной «симфонии» светской и духовной властей, существовавшей во времена Н.Н. Муравьева-Амурского и архиепископа Иннокентия (Вениаминова), и экстраполируют эту модель как на более ранние периоды прошлого (Ерофей Хабаров и иеромонах Гермоген), так и на настоящее (метафора «меча» и следующего за ним «креста»). Такие представления подпитываются и сохранившимся дуализмом в системе государственного управления, в котором церковь имела свое собственное административное деление, вертикаль власти, судебную систему. Исходя из вышеизложенного, мы считаем, что деятельность русской православной церкви нуждается в изучении не с точки зрения ее всецелой подчиненности государственному аппарату, но как отдельный социальный институт, представители которого являются активными и равноправными участниками процессов имперского государственного строительства. Этот тезис находит свое подтверждение при анализе епархиальной периодической печати.
Орлов П. Слово в день рождения Его Императорского Величества, государя императора Александра Александровича // Камчатские епархиальные ведомости. 1894. № 5. С. 95-103.
Коростовец И.Я. Россия на Дальнем Востоке. Пекин : Вост. просвещение, 1923. 153 с.
Елеонский Н. Положение христианства в Китае и Японии // Православный благовестник. 1893. № 5. С. 3-10.
Тихвинский С. Путешествие Его Преосвященства, Преосвященнейшего Никодима, Епископа Приамурского и Благовещенского по обозрению церквей епархии, расположенных по р.р. Амуру и Уссури с 15 июня по 20 июля сего 1901 г. // Благовещенские епархиальные ведомости. 1901. № 21. С. 451-455.
Ваулин Г. Паломничество учащихся церковных школ Осиновского прихода, Владивостокской епархии, в Уссурийский Св. -Троицкий Николаевский монастырь (продолжение) // Благовещенские епархиальные ведомости. 1902. № 1. С. 16-22.
Протодиаконов А. К истории хабаровской церкви // Камчатские епархиальные ведомости. 1894. № 19. С. 415-423.
Венчаев В. Историко-статистические сведения о церкви села Песчано-Озерского Амурской области, в честь Божией Венчаев В. Матери и иконы Ея «Всех Скорбящих Радосте» // Камчатские епархиальные ведомости. 1895. № 8. С. 181-187.
Кириллов А. Материалы для истории Камчатской епархии (продолжение) // Камчатские епархиальные ведомости. 1895. № 5. С. 111-126.
Кириллов А.В. Материалы для истории христианской миссии на Амуре, со времени присоединения его к России до 1865 года // Камчатские епархиальные ведомости. 1896. № 24. С. 481-495.
Кириллов А.В. Высокопреосвященный Иннокентий, первый архиепископ Камчатский // Камчатские епархиальные ведомости. 1897. № 17. С. 341-357.
Волков Л. Стихотворение (посвящается А. Сизому) // Камчатские епархиальные ведомости. 1895. № 8. С. 191.
Кириллов А.В. Материалы для истории христианской миссии на Амуре, со времени присоединения его к России до 1865 года (продолжение) // Камчатские епархиальные ведомости. 1896. № 3. С. 47-59.
Прихожанин. Голос прихожанина // Камчатские епархиальные ведомости. 1894. № 5. С. 1-17.
Тихвинский С. Путевые заметки и впечатления сопровождавшего Его Преосвященство Преосвященнейшего Макария в поездку по за-Зейскому краю // Камчатские епархиальные ведомости. 1894. № 20. С. 438-443.
Кириллов А. По поводу предстоящего 100-летнего юбилея распространения христианства в бывших Российско-Американских владениях // Камчатские епархиальные ведомости, 1894. № 17. С. 369-375.
Кириллов А.В. Материалы для истории христианской миссии на Амуре, со времени присоединения его к России до 1865 года // Камчатские епархиальные ведомости. 1896. № 1. С. 1-10.
Тихвинский С. От Благовещенска до Покровки (802 вер.) и обратно (из поездки Его Преосвященства, Преосвященнейшего Макария, по епархии в июле м. 1894 г.) // Камчатские епархиальные ведомости. 1895. № 16. С. 345-350.
Сизой А.П. Сказание (старожила) о первом в г. Благовещенске храме во имя Святителя Николая, Мирликийского Чудотворца // Камчатские епархиальные ведомости. 1894. № 1. С. 13-19.
Хроника // Благовещенские епархиальные ведомости. 1901. № 17. С. 378-380.
Речь, произнесенная Преосвященнейшим Никодимом 8-го июля на площади г. Хабаровска пред торжественным молебном в годичную па мять окончания Маньчжурской войны и пред панихидою по павшим в сей войне воинам // Благовещенские епархиальные ведомости. 1901. № 16. С. 337-343.
Прогулка третья, Албазинская и Тихвинская // Благовещенские епархиальные ведомости. 2013. № 7. С. 6-7.
Рубан Н.А. Потомственный миссионер Афанасий Протодиаконов // Культура и наука Дальнего Востока. 2018. № 2. С. 66-70.
Николаев С.И. Кириллов Александр Васильевич // Энциклопедия литературной жизни Приамурья XIX-XXI веков. Благовещенск : Изд-во БГПУ, 2013. С. 180-181.
Сандырева Л.Л. «Не требуя награды за подвиг благородный..»: беседа к 165-летию со дня рождения А.В. Кириллова. Свободный, 2016.
П.В. Кафедральный Протоиерей А.П. Сизой // Камчатские епархиальные ведомости 1897. № 14. С. 285-289.
Ремнев А.В. Россия Дальнего Востока. Имперская география власти XIX - начала XX веков. Омск : Омск. гос. ун-т, 2004. 552 с.
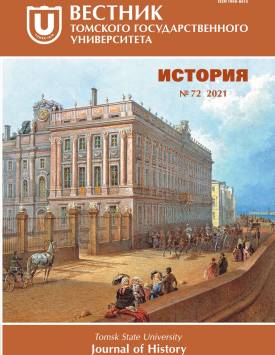

 Вы можете добавить статью
Вы можете добавить статью