Однокурсницы. Зинаида Ермольева и Нина Клюева: путь в профессию
Рассматривается ростовский период жизни известных микробиологов и эпидемиологов Зинаиды Ермольевой и Нины Клюевой. На основе документов региональных и центральных архивов, периодической печати 1910-1920-х гг., медицинских изданий произведена реконструкция профессионального становления ученых, в юности бывших однокурсницами, коллегами, соавторами. Представлен исторический контекст получения образования, научных опытов, борьбы с инфекционными болезнями в Ростове-на-Дону в условиях Первой мировой и Гражданской войн, первых послевоенных лет.
Classmates. Zinaida Ermol’eva and Nina Klyueva: the way to the profession.pdf Введение Имена наших героинь - Зинаиды Виссарионовны Ермольевой и Нины Георгиевны Клюевой - начиная с 1940-х гг. были хорошо известны не только в СССР, но и за его пределами. За изобретение антибиотиков независимо от зарубежных коллег З.В. Ермольеву в 1943 г. наградили Сталинской премией 1 -й степени. Уже в военные годы она спасла новым лекарством тысячи жизней воинов и мирного населения осажденного Сталинграда. «Госпожа Пенициллин» - называл ее знаменитый коллега -англичанин Г. Флори. Зинаида Ермольева стала прообразом Татьяны Власенковой - всеми любимой героини трилогии В. А. Каверина «Открытая книга». Первая ее часть была опубликована в 1949 г., а полностью произведение вышло в 1956 г. и неоднократно переиздавалось, переводилось на иностранные языки. Две советские экранизации романа приходятся на 1970-е гг. Родной брат В.А. Каверина Л.А. Зильбер - основоположник советской вирусологии (и прототип одного из главных персонажей «Открытой книги») - несколько лет был мужем З.В. Ермольевой. Именно благодаря ее настойчивости репрессированного Зильбера неоднократно освобождали из мест заключения. В драматическом театре Арзамаса в начале 1970-х гг. шла пьеса А. Липовского «На пороге тайны», посвященная З.В. Ермольевой. Одна из серий 10-серийного документального сериала «Шекспиру и не снилось...» -проекта телеканала «Культура» 2006 г. - называется «Госпожа пенициллин». В телесериале «Черные кошки» (2013) о борьбе с бандитизмом в послевоенном Ростове-на-Дону смелые эксперименты молодого врача поддерживает приехавшая из Москвы изобретатель антибиотиков Зинаида Илларионовна Ермолова (ее прототип не вызывает сомнений). Нина Клюева была известна в связи с активными поисками лекарства против рака. В 1946 г. в издательстве АН СССР, а затем и в США была опубликована ее монография, написанная в соавторстве с мужем -Г.И. Роскиным, «Биотерапия злокачественных опухолей», удостоившаяся высокой оценки специалистов и даже лично И.В. Сталина. Препарат КР, или круцин (в соответствии с первыми буквами фамилий создателей), казалось, давал шанс миллионам людей. Прошло меньше года, и вчерашних героев превратили в предателей. Началась «холодная» война. Стартом борьбы с инакомыслием стали так называемые суды чести, на которые возлагалось рассмотрение антипатриотических, антигосударственных и антиобщественных поступков и действий. Первым судом чести стал процесс профессоров Н.Г. Клюевой, только что избранной депутатом Верховного Совета РСФСР, и Г.И. Роскина («дело КР»), прошедший в июне 1947 г. в Министерстве здравоохранения СССР. Ученых обвиняли в передаче (с помощью академика В.В. Парина, позже осужденного на 10 лет) рукописи книги в США в порядке обмена научной информацией. «Виновники» вынужденно каялись. Как вспоминает К.М. Симонов, незадолго до суда И.В. Сталин вызвал в Кремль доверенных писателей, показал им заявление парткома Минздрава о привлечении Клюевой и Роскина к суду чести и дал задание отреагировать на этот факт [1. С. 128-131]. В итоге уже в 1948 г. появились удостоенные Сталинской премии пьеса К. Симонова «Чужая тень» и фильм «Суд чести» (режиссер А. Роом, по пьесе А. Штейна «Закон чести»). Правда, в качестве отрицательных персонажей - ученых, передавших на Запад собственные медицинские разработки, фигурировали исключительно мужчины. Научным консультантом К. Симонова по иронии судьбы был П.Ф. Здродовский - один из А.Н. Еремеева, МХ. Заман 192 главных наставников Н.Г. Клюевой и З.В. Ермольевой в годы студенчества. В середине 1950-х гг. обвинения с Н.Г. Клюевой, а также с Г.И. Роскина и академика В.В. Парина, были сняты. Нина Георгиевна продолжала работать в области производства противораковых препаратов, была одним из признанных специалистов в области эпидемиологии, заведовала кафедрой микробиологии в медицинских институтах Москвы и Рязани. Нина Клюева умерла в 1971 г., Зинаида Ермольева -в 1974. С тех пор имя первой фигурирует в литературе в основном в многочисленных трудах о «деле КР» и препарате круцин. Основные вехи биографии Н.Г. Клюевой (в том числе ранней) изложены в изданной сначала в США, а потом и в России монографии известного историка науки, выпускника Ростовского-на-Дону университета Н.Л. Кременцова [2, 3], однако многое нуждается в уточнении. О З.В. Ермольевой писали и пишут достаточно часто и в центральных, и в региональных (донских) изданиях, однако тексты, за редким исключением, создают впечатление написанных «под копирку». Тиражируются широко известные данные и... многочисленные ошибки в биографии выдающейся женщины. Среди авторов статей преобладают журналисты и ученые-микробиологи - нередко ученики и ученики учеников З.В. Ермольевой из Института биохимии им. А.Н. Баха [4]. Журналисты в основном опираются на многочисленные интервью Ермольевой и статьи о ней в советской прессе. В популярной (и до сих пор единственной!) 89-страничной биографии З.В. Ермольевой, написанной Т.Л. Мельниковой и изданной в Волгограде в 1984 г. [5], по понятным причинам старательно обойдены вниманием те события и персонажи, которые могли бы препятствовать восприятию героини как плоть от плоти «продукта» советской эпохи. В 2004 г. Н. Смирнова в газете «Академия» опубликовала, правда, без ссылок на архив, ценные документы, касающиеся детства и юности Ермольевой, в том числе копию ее свидетельства о рождении, но авторы последующих работ «не заметили» их [6]. В данной статье сделана попытка реконструкции истории профессионального становления З.В. Ермольевой и Н.Г. Клюевой, по сути, ростовского периода их жизни. Они учились на одном курсе, избрали одну и ту же специализацию, работали в одних и тех же учреждениях, проводили совместные научные исследования. Обе, с разницей всего в несколько лет, переехали из Ростова-на-Дону в Москву и достаточно быстро «покорили» столицу. В качестве источников выступают разнообразные (главным образом делопроизводственные) документы центральных и региональных архивов. Особенно информативны фонды Женского медицинского института (ЖМИ) и Донского университета (Государственный архив Ростовской области), Комиссии содействия ученым при СНК СССР с анкетами наших героинь и другими документами (Государственный архив Российской Федерации), личный фонд З.В. Ермольевой в Российском государственном архиве экономики. Использованы также материалы донской периодики середины 1910-х - середины 1920-х гг. (газеты «Приазовский край», «Советский Юг»), центральной прессы, медицинские журналы с первыми публикациями З.В. Ермольевой и Н.Г. Клюевой («Юго-Восточный вестник здравоохранения», «Кубанский научно-медицинский вестник» и др.). Ценные сведения о семье З.В. Ермольевой сообщили в письме авторам дочь и внук ее брата - живущие в Чехословакии Татьяна Кей-валова (Tanya Kejvalova), в девичестве Ермольева, и доктор Давид Ермольев (David Jermoljev). Детство, отрочество, ранняя юность Дата и место рождения З.В. Ермольевой традиционно определяются по представленным ею самой сведениям. В рукописи автобиографии, датированной мартом 1974 г. (за несколько месяцев до смерти), указано: «24 октября 1898 г., г. Фролово Волгоградской области (б. Донская область)» [7. Л. 8]. В публикациях, в том числе написанных коллегами Ермольевой, фигурируют этот же год, месяц и место рождения, а число варьирует с 24 по 27 октября. В анкете 1921 г., заполненной при поступлении на работу, З. Ермольева указывает, что родилась 2 (14) октября 1998 г. в Ломжин-ской губернии [8. Л. 5]. Судя по копии свидетельства о рождении и оригиналу аттестата об окончании гимназии в личном деле студентки З. Ермольевой [9. Л. 4, 5], данным церковной метрической книги [10. Л. 95 об. -96], она родилась 2 (14) октября 1897 г. в г. Щучине Ломжин-ской губернии (территория относилась к Варшавскому военному округу) в семье Виссариона Васильевича Ермольева - казака станицы Качалинской, подъесаула 4-го Донского казачьего полка, и его жены Александры Гавриловны. В Щучине был расквартирован 4-й Донской казачий полк, в котором служил отец Зинаиды. В семье кроме Зинаиды были четыре брата (два старше ее, два младше) и старшая сестра. Все братья в годы Гражданской войны состояли в антибольшевистских формированиях, один (Александр) как бывший белогвардеец был репрессирован и умер в тюрьме в 1937 г., другие покинули Россию [11. С. 62-65; 12. С. 271]. Георгий жил во Франции, Борис - в Парагвае. Евгений (Evzen Jermoljev), обосновавшийся в Чехословакии и проживший там до смерти (1974), стал известным агробиологом [13. С. 138]. З.В. Ермольева в 1962, 1964 и 1971 гг. бывала в Праге конференциях [7. Л. 9]. В семейном архиве ее чешских родственников имеются совместные фотографии с З.В. Ермольевой 1964 г., сделанные в Праге и в Москве. Т. Кейвалова с мужем-летчиком с 1966 по 1970 г. жила в Монино, под Москвой, и часто навещала тетю в ее московской квартире и на даче. При этом в автобиографии Зинаида Виссарионовна вообще не упоминала о братьях, но подробно описывала семью сестры, потерявшую в годы Великой Отечественной войны единственного сына, ушедшего на фронт добровольцем [Там же. Л. 8]. «Путаница» с данными о месте рождения и членах семьи З.В. Ермольевой (год рождения мог быть изменен исключительно из желания казаться моложе) соответствует описанному Ш. Фицпатрик механизму производства в советском обществе «документального Я», Однокурсницы. Зинаида Ермольева и Нина Клюева: путь в профессию 193 создания биографии, «отделываемой со всей тщательностью» [14. С. 109-110]. З.В. Ермольева, уже достигнув высот в науке, с гордостью называла себя донской казачкой, однако до конца жизни дистанцировалась от той части казачества, которая принимала непосредственное участие в защите интересов самодержавного государства и антисоветских режимов. Женщина, смело защищавшая незаконно осужденных коллег, хорошо понимала возможные последствия сомнительных с точки зрения идеологии моментов собственной биографии. Буквально через год после рождения Зинаиды семья вернулась на Дон. Отец служил приставом, станичным атаманом. В 1903 г. был произведен в есаулы. В 1905 г. вышел в отставку по болезни с чином войскового старшины и мундиром [11. С. 63] и почти до смерти (1909) работал на железной дороге. Матери, умершей в 1960 г. в возрасте 92 лет, посчастливилось стать свидетелем научного триумфа дочери. Детство Зинаиды было в большей степени связано с хутором Фролово Усть-Медведицкого округа, около железнодорожной станции Арчеда (ныне г. Фролово). Именно там, на улице, названной именем З.В. Ермольевой, находится мемориальная доска с неправильными датами рождения и смерти (1898-1975 вместо 1897-1974). Ошибка в дате смерти выглядит особенно нелепой, ведь точная дата (2 декабря 1974 г.) указана на памятнике З.Е. Ермольевой на Кузьминском кладбище. Дети семьи Ермольевых получали образование в столице Области Войска Донского Новочеркасске: мальчики - в Донском кадетском корпусе, девочки - в Мариинской женской гимназии. Зинаида поступила туда в 1908 г. Антонина (называвшая себя Ниной, что в 1920-е гг. было закреплено документально) Клюева родилась в станице Ольгинской Черкасского округа Области Войска Донского 16 (28) мая 1899 г. в семье урядника Г еоргия Васильевича Клюева и его жены Анны Матвеевны [15. Л. 26]. По данным Н. Кременцова, у Антонины был брат Александр, вероятно, пропавший на фронте в годы Гражданской войны [3. С. 53]. Г.В. Клюев был успешен в коммерции. Он приобрел большой дом в центре Нахичевани-на-Дону, куда и перевез свою семью. В 1908 г. его дочь поступила в первый класс местной Екатерининской гимназии [15. Л. 22]. Скорее всего, до поступления в институт Зинаида и Антонина не знали друг друга. Обе девушки в 1915 г. окончили с отличием 7 классов, а в 1916 - 8-ой, дополнительный класс гимназий, что давало им право быть домашними учительницами по русскому языку и математике. Уровень преподавания в дореволюционных гимназиях был традиционно высоким. В качестве дополнительных предметов наши героини успешно изучали новые языки - немецкий и французский, а Нина, жившая в городе с преобладанием армянского населения, -еще и армянский. Древние языки отсутствовали в программе женских гимназий. Девушки экстерном сдали латинский язык, знание которого было обязательным для будущих медиков, в мужских гимназиях: Антонина - весной 1916 г. [Там же. Л. 21], Зинаида - в марте 1917 г., уже будучи студенткой [9. Л. 10]. Студенческие годы Вплоть до Первой мировой войны молодежь Области войска Донского, желающая получить медицинское образование, могла сделать это только за пределами своего региона. Ситуация изменилась, когда в Ростов-на-Дону в 1915 г. был эвакуирован Варшавский университет с полным набором факультетов (историкофилологический, физико-математический, юридический, медицинский). Переехавшие сюда же из Варшавы Высшие женские курсы медицинского факультета не имели. Продолжавшаяся война, мобилизация врачей в действующую армию, превращение Ростова-на-Дону в одну из госпитальных баз и появление в городе множества профессоров-медиков стимулировали постановку и решение вопроса о высшем женском медицинском образовании. Инициатива ростовской общественности, организационная активность главного врача городской Николаевской больницы Н.В. Парийского привели к принятию в апреле 1916 г. Ростовской городской думой решения открыть женский медицинский вуз за счет городского бюджета. Значительная часть помещений для учебных занятий и практики должна была использоваться совместно ЖМИ и медицинским факультетом Варшавского университета. Директором ЖМИ стал заведующий кафедрой гистологии, декан медицинского факультета университета А.А. Колосов, помощником директора -Н.В. Парийский. Большое количество желающих учиться в новом вузе заставило его руководство выработать приоритеты. Предпочтение при прочих равных отдавалось девушкам, имеющим аттестат об окончании восьми классов гимназии или акушерско-фельдшерской школы, тем, кто прожил в Ростове-на-Дону не менее двух лет. Дочерей профессоров Варшавского университета набирали сверх «установленного комплекта», плату за обучение с них не брали. Поступать сразу на второй курс могли не только те, кто ранее окончил первый курс медицинского факультета, но и слушательницы Высших женских курсов Варшавского университета при условии сдачи дополнительных экзаменов [16. Л. 9-10]. В отведенный срок наши героини подали заявление с просьбой о зачислении в ЖМИ, предоставили копии метрик, документов об образовании (аттестаты с отличными оценками), фотографии. Однако в списке зачисленных на 1 -й курс Института их фамилии не значились [17. Л. 1-3 об.], вероятно, из-за проживания за пределами Ростова-на-Дону. Институт торжественно открылся 21 ноября 1916 г. Руководство, осознавая, что множество достойных кандидаток остались «за бортом», а потребность в медицинских кадрах высшей квалификации в стране велика, решили «возбудить ходатайство по телеграфу перед Министерством народного просвещения о разрешении принять на первый курс сверх комплекта 30 слушательниц из жителей Ростова-на-Дону и достойнейших иногородних» [16. Л. 25]. В свою очередь, родители наших героинь (мать Зинаиды и отец Нины) обратились к Наказному Атаману А.Н. Еремеева, МХ. Заман 194 Войска Донского графу М.И. Граббе с просьбой содействовать зачислению их дочерей-отличниц в медицинский институт «сверх комплекта» [9. Л. 12; 15. Л. 20]. А.Г. Ермольева упомянула в прошении о своем статусе вдовы, матери шестерых детей, о двух старших сыновьях, воюющих на фронте, двух младших - учащихся Донского кадетского корпуса [9. Л. 12]. Оба заявления удостоились положительной резолюции. Однако хлопоты родителей и казачьей администрации оказались излишними. Уже 30 ноября 1916 г. З. Ермольева, А. Клюева и другие достойные претендентки были зачислены [17. Л. 8]. Первый год деятельности института был полон организационных забот. Формировались кафедры, решались вопросы замещения вакантных должностей, оборудования помещений, организации делопроизводства, налаживания учебного процесса. Учитывая, что семестр начался с опозданием, руководство ввело особый график сдачи экзаменов. Предполагалось до 1 мая 1917 г. закончить чтение лекций и ведение практических занятий по всем предметам, кроме гистологии с эмбриологией и физиологии, а последних - до 15-20 мая. До каникул слушательницы обязаны были сдать экзамены по анатомии, физике, неорганической и органической химии. Экзамены по остальным предметам (зоология, ботаника, минералогия с основами геологии) могли быть выдержаны на 2-м курсе, не позже конца 1917-1918 учебного года [16. Л. 25]. В разгар второго семестра грянула Февральская революция. Был принят новый Устав, в соответствии с которым институт находился в ведении Министерства народного просвещения. 1917-1918 учебный год начался в неспокойной обстановке. Война продолжалась. Временное правительство доживало последние дни. После Октябрьских событий в Петрограде Дон стал главным центром формирования антибольшевистских сил, местом рождения Добровольческой армии. Параллельно создавались органы казачьей государственности. Вслед за низложением Войскового правительства ненадолго установилась советская власть. После ее свержения последовали немецкая оккупация (вследствие заключения Брестского мира) и провозглашение казачьей республики - Всевеликого войска Донского. В начале 1919 г. казачья армия объединилась с Добровольческой в Вооруженные силы Юга России под началом Главнокомандующего А.И. Деникина. Ростов-на-Дону стал одним из центров всероссийского беженства. Газеты почти ежедневно сообщали о прибытии сюда ученых, политиков, предпринимателей. Здесь располагались деникинские правительственные учреждения, офисы союзнических войск. В городе гастролировали знаменитые художественные коллективы и исполнители. Ни Зинаида Виссарионовна, ни Нина Георгиевна по понятным причинам не оставили воспоминаний о своей жизни в антибольшевистской столице. Трудно сказать, насколько студентки были вовлечены в водоворот политических и культурных событий, однако избежать этого полностью было сложно, учитывая любознательность и общественную активность, при сущие им обеим, а также неравнодушие к искусству (Зинаида прекрасно танцевала, Антонина играла на фортепиано). Кадровый состав ЖМИ, ежегодно пополнявшийся ввиду появления старших курсов, был очень сильным. Его основу составили профессора Варшавского университета, в 1917 г. ставшего решением Временного правительства Донским, среди которых были такие известные специалисты, как создатель первой в России кафедры кожных и венерических болезней П.В. Никольский, основоположник русской гигиенической науки Н.Н. Брусянин, блестящие офтальмолог К.Х. Орлов, хирург Н.А. Богораз, невропатолог А.А. Жандр, патологоанатом И.Ф. Пожариский, физиолог З.В. Гутни-ков, один из основоположников физиологического направления в патологии К.Р. Мирам и др. В связи с Первой мировой войной и революцией в Ростове-на-Дону оказались преподаватели из Москвы (физиолог Н.А. Рожанский) и Петрограда (анатом К.З. Яцута). В 1917 г. в ЖМИ появилась кафедра бактериологии; аналогичная, основанная буквально перед эвакуацией из Варшавы, имелась в Донском университете. Заведующим новой кафедрой стал Владимир Александрович Барыкин. В 1900 г. он с отличием окончил медицинский факультет Казанского университета. Работал земским врачом, в годы русско-японской войны - терапевтом военно-санитарного поезда в Манчжурии, затем на Китайско-Восточной железной дороге (боролся со вспышками чумы). В 1906 г. защитил диссертацию «Паратифозные заболевания в Маньчжурии». В 1908 г. возвратился в Казань, где работал в Бактериологическом институте и университете под началом блестящего бактериолога И.Г. Савченко. В 1910 г. Барыкин в рамках заграничной командировки стажировался в Брюсселе у ученика И.И. Мечникова Ж. Борде и в Париже у И.И. Мечникова. По возвращении в Казань возглавил бактериологическую лабораторию при кафедре общей патологии. Едва приняв заведование кафедрой бактериологии в Варшавском университете, он по поручению Кавказского комитета Всероссийского союза городов занялся формированием бактериологического отряда для обслуживания воинских частей, а также беженцев и местного населения на территории Кавказского фронта [18]. В течение года ученый находился на фронте и только осенью 1916 г. прибыл в Ростов-на-Дону, где возглавил Бактериологический институт, находившийся в ведении Всероссийского союза городов, а также кафедры бактериологии в университете и ЖМИ. Его ближайшим сотрудником стал ученик по Казанскому университету, уже собиравший материалы для докторской диссертации и имевший опыт работы врача-бактериолога на фронте, - П.Ф. Здродовский. Именно В.А. Барыкин и П.Ф. Здродовский стали главными наставниками Зинаиды Ермольевой, Антонины Клюевой и их сокурсниц, увлекшихся бактериологией. Под влиянием В.А. Барыкина, активно занимавшегося холерными и холероподобными вибрионами, девушки увлеклись исследованием биохимии микробов. З. Ермольева рассказывала в многочисленных интервью, что приходила в лабораторию задолго до ее Однокурсницы. Зинаида Ермольева и Нина Клюева: путь в профессию 195 открытия, через форточку. Студентки-«медички», по сути, выполняли функции сотрудников Бактериологического института ввиду затяжного конфликта В.А. Барыкина с частью персонала в 1918 г., приведшего к массовому увольнению [19. Л. 14], постоянной угрозы мобилизации мужчин-лаборантов [20. Л. 101]. Сохранилось датированное маем 1919 г. ходатайство Барыкина во Всероссийский союз городов, базировавшийся тогда в Екатеринодаре, о предоставлении места в одном из санаториев Черноморского побережья для реабилитации после болезни «студентке-медичке А.П. Афанасьевой, которая по вечерам служит в институте с начала 17 г. и зарекомендовала себя как один из лучших работников» [Там же. Л. 2]. В.А. Барыкин и его сотрудники занимались созданием чрезвычайно важных в условиях эпидемий препаратов. В газете «Приазовский край» было помещено объявление об открытом профессором Барыкиным способе лечения сыпного тифа, «который заключается во впрыскивании больным ртути и сыворотки из крови выздоровевших от сыпного тифа» [21. С. 2]. Препараты по требованию отправлялись во Всероссийский союз городов (который поставлял в институт недостающее оборудование - автоклавы, бутылки, агар-агар и пр., а продукцией института снабжал многочисленные прививочные отряды, госпитали и лазареты), Красный Крест, Земский союз, Добровольческую армию, учебные заведения, органы городского самоуправления Ростова-на-Дону и других городов, частным лицам [20. Л. 88, 135 об.-136]. Барыкин часто выступал на страницах ростовских газет с публикациями о профилактике сыпного типа и «испанки». Практическая и преподавательская деятельность учителей Зинаиды и Нины совмещалась с научными исследованиями и публикацией их результатов. П.Ф. Здро-довский работал над диссертацией. В 1919 г. в № 22 харьковского журнала «Врачебное дело» была опубликована совместная статья В.А. Барыкина и П.Ф. Здро-довского «Связь пигментации с невосприимчивостью». Научно-трудовое общество студентов медиков и медичек при Донском университете в 1919 г. издало учебник В.А. Барыкина «Лекции по эпидемиологии и бактериологии сыпного тифа». Центром научной коммуникации ростовских медиков (в том числе студентов) было Медицинское общество при университете, где регулярно заслушивались доклады, происходили дискуссии. Несмотря на дефицит бумаги, дороговизну типографских расходов, при первой возможности стенограммы заседаний публиковались. Процесс получения знаний для студентов-медиков в условиях революции и Гражданской войны имел свои особенности. Он был максимально приближен к практике. Переполнение Ростова-на-Дону до предела беженцами и военнопленными, нехватка медицинских учреждений, опытных врачей, средств дезинфекции, лекарств провоцировали беспрецедентную антисанитарию. Бушевали сыпной тиф, «испанка», возвратный тиф, холера, скарлатина, жертвами которых становились в том числе профессора и студенты, работавшие в тифозных бараках. Администрация института даже ходатайствовала об отведении для больных сыпным тифом слушательниц «специальных коек» в клинике А.И. Игнатовского [22. Л. 7]. От тифа скончался в 1919 г. профессор И.Ф. Пожариский. Смертность врачей, работавших в тифозных бараках, достигала 40% [3. С. 54]. Антонина Клюева осенью 1918 г. переболела «испанкой», а в феврале 1919 г. - сыпным тифом и бронхопневмонией [15. Л. 8, 10]. Из-за этого она не могла вовремя курировать больного и подготовить историю болезни и просила руководство ЖМИ предоставить ей возможность сделать это после выздоровления [Там же. Л. 7]. Между болезнями, в декабре 1918 г., у девушки украли шубу, в кармане которой лежала зачетная книжка. Ей пришлось заново обходить всех профессоров, чтобы «собрать экзаменационные отметки» [Там же. Л. 11]. Нелегким делом оказалось доказать факт сдачи экзамена по физике в ноябре 1917 г. профессору А.Р. Колли [Там же. Л. 3], так как экзаменатор был убит в феврале 1918 г., в первый период советской власти. В соответствии с приказом правительства Всевеликого Войска Донского 27 марта 1919 г. о призыве на военно-санитарную службу, студентки ЖМИ 4-го и 5-го курсов должны были служить в качестве зауряд-врачей, а третьекурсницы - в качестве фельдшеров [23. С. 719]. Наши героини подпадали под этот приказ. К концу 1919 г. из-за успешного продвижения Красной Армии в южном направлении Ростов-на-Дону пережил еще одну волну беженцев, в том числе харьковской профессуры. Одновременно началось повальное бегство из города в направлении Екатеринодара и Новороссийска. Помещение ЖМИ в декабре передали для нужд армии, а занятия переносились в помещения Донского университета [22. Л. 61 об.]. В начале 1920 г. на Дону окончательно установилась власть советов. ЖМИ объединили с медицинским факультетом Донского университета. 26 марта вышел приказ № 397, подписанный командующим Кавказским фронта М. Тухачевским и членом Реввоенсовета С. Орджоникидзе о досрочном (до 1 мая) выпуске студентов «ввиду развития на фронте эпидемии и значительного недостатка медицинского персонала» [24. Л. 12]. В июне 1920 г. П.Ф. Здродовский защитил диссертацию и практически сразу после защиты получил назначение эпидемиологом в Красную Армию и уехал в Баку [25. С. 19]. Весной-летом 1920 г. полным ходом шли аресты «классовых врагов», которых, благодаря «сигналам» студентов-коммунистов, находили и в вузовской среде. Резонансным стал расстрел преподавателей медицинского факультета А.Н. Успенского, А.А. Жандра, З.В. Гутникова - руководителей признанного контрреволюционным Трудового общества медиков и медичек (были ли Зинаида и Антонина членами этого общества - выяснить не удалось). Осенью 1920 г. стартовал последний учебный год наших героинь. Помимо учебы студенты работали в госпиталях Ростовского эвакуационного пункта [26. Л. 22], а уже 10 января 1921 г. З. Ермольева, А. Клюева и их сокурсники были удостоены звания лекаря. Таким образом, общая продолжительность обучения в вузе девушек составила четыре года вместо пяти, хотя А.Н. Еремеева, МХ. Заман 196 в свидетельстве об окончании института речь шла о «прослушивании десяти семестров медицинского факультета» [27. Л. 2]. Начало научной и педагогической деятельности С февраля 1921 г. З.В. Ермольева и А.Г. Клюева стали работать врачами-эпидемиологами. На Дону продолжали свирепствовать инфекционные болезни; на борьбу с ними были брошены силы как гражданских, так и военных организаций. Велась широкая просветительская работа. Среди тех, кто сражался с эпидемиями, был молодой врач IX армии, будущий выдающийся вирусолог и муж З.В. Ермольевой Л.А. Зильбер. Именно в этом городе была опубликована его первая печатная работа [28. С. 104]. Наставником Зильбера был все тот же В.А. Барыкин. Зинаида Ермольева заведовала бактериологическим отделением Бактериологического института. Антонина Клюева сочетала работу в этом же институте со службой в бактериологической лаборатории Ростовской малярийной станции [3. С. 55]. Зарплата молодых врачей не покрывала элементарных потребностей, что стало одной из причин дополнительной работы девушек в Донском университете. 29 августа 1921 г. на имя декана медицинского факультета поступило заявление З.В. Ермольевой с просьбой зачислить ее преподавателем по кафедре микробиологии; на листке имелась приписка готовившегося к переезду в Москву В.А. Барыкина: «Прошу зачислить на место выбывшего преподавателя» [27. Л. 1]. В марте 1922 г. профессор К.Р. Мирам выступил на заседании Президиума университета с рапортом о зачислении научными сотрудниками по кафедре микробиологии врачей А.Г. Клюевой и А.А. Кашае-вой, причем просил «утвердить их с возможно раннего срока, так как оба врача несут свои обязанности с исключительной добросовестностью» [29. Л. 12]. Наряду со старшими коллегами - профессором С.М. Максимовичем и Я.П. Рознатовским, после В.А. Барыкина некоторое время возглавлявшим Бактериологический институт и кафедру, а также представителем от студентов З.В. Ермольева, А.Г. Клюева, А.А. Кашаева входили в состав предметной комиссии по микробиологии, инфекционным заболеваниям, туберкулезу. Комиссия занималась обеспечением учебного процесса, в том числе и его материальной стороной. На повестке дня стояли проблемы такого рода: «из-за отсутствия табуретов студенты на лекциях и практических занятиях стоят»; «неимение рукомойника ведет к тому, что студенты, уходя домой, разносят инфекцию»; «помещение под крольчатник без стекол, и приходится держать животных в самой лаборатории», «запаса фуража нет, что угрожает привести к лишению животных» [Там же. Л. 6-6 об.]. С нехваткой финансовых и иных ресурсов наши героини сталкивались не только по месту службы, но и в повседневном быту. Голод, охвативший в 1921-1922 гг. в числе других российских территорий и Дон, сделал поиски продовольствия важной составляющей жизни. Лишь частично решала проблему помощь заграничных организаций, местного отделения Комиссии по улучшению быта ученых. Автор газетной статьи, опубликованной в мае 1922 г., грустно вопрошал: «Возможна ли в настоящее время в Ростове вообще научная работа? Отсутствие денег, водопровода, канализации, отопления, газа, спирта и других реактивов в университете ставит многие работы в безвыходное положение» [30. С. 2.]. Однако молодых, талантливых, полных желания работать, не обремененных семьей девушек трудности не останавливали. Они не просто выполняли служебные обязанности, но и вели полноценные научные исследования, порой подвергая опасности собственную жизнь. В одной из первых публикаций о З. Ермольевой в центральной прессе журналист со слов своей героини описал следующий случай, относящийся к началу 1920-х гг.: «В городе свирепствовала холера. Обнаружить источник заразы долго не удавалось. В реке находили в огромном количестве микробов, но не холерных, а так называемых холероподобных. Опасны они или безвредны? Этого никто не знал... Молодой девушке пришла дерзкая мысль проверить выводы этих ученых. на человеке. Ермольева приготовила раствор из миллиардов холероподобных вибрионов и выпила его... На рассвете Зина почувствовала легкую тошноту, которая перешла в судорожную рвоту. Это была настоящая холера» [31. С. 3]. К счастью, молодой организм поборол недуг. Во время введения мыши штамма инфлюэнцы (гриппа) содержание шприца случайно попало на лицо А. Клюевой. Девушка заболела, но продолжала наблюдать ход болезни на самой себе [3. С. 56]. Круг профессионального общения А. Клюевой и З. Ермольевой в основном составляли коллеги по кафедре и Бактериологическому институту. В качестве авторитетного эксперта выступал профессор В.М. Сле-саревский - заведующий окружной химико-бактериологической лабораторией военно-санитарного управления Северо-Кавказского округа. В газетных интервью с З. Ермольевой неизменно присутствовал сюжет о том, как она именно с ним обсуждала свое открытие светящихся холерных вибрионов. С П.Ф. Здродовским и В.А. Барыкиным девушки встречались в основном на всероссийских и всесоюзных конференциях. Имели место и контакты с коллегами из Екатери-нодара (Краснодара). В 1920 г. там был создан Кубанский окружной химико-бактериологический институт, который возглавил казанский наставник В.А. Барыкина профессор И.Г. Савченко. Он по делам службы регулярно посещал Ростов-на-Дону, ведь эпидемиологическая ситуация на Дону и Кубани была схожей. Именно в краснодарском медицинском журнале была опубликована первая печатная работа З. Ермольевой и Н. Клюевой - их совместная статья «Бактериологическое исследование спинномозговой жидкости при летаргическом эпидемическом энцефалите» [32]. Данный выпуск журнала (его редактировал И.Г. Савченко) был посвящен вопросам эпидемиологии. В статье молодые ученые ссылались на сделанное в 1921 г. под руководством И.Г. Савченко его ассистентом Е.В. Ворониной открытие возбудителя тифоподобного заболевания (в настоящее время известен как Однокурсницы. Зинаида Ермольева и Нина Клюева: путь в профессию 197 «Salmonellaparatyphi С». - А.Е., М.З.), что тоже свидетельствует в пользу контактов с краснодарскими коллегами. Не исключено, что инициировал их В. А. Барыкин, порекомендовав учителю своих талантливых учениц. В следующем году был напечатан доклад З.В. Ермольевой на 7-м Всероссийском съезде эпидемиологов и бактериологов в Москве (май 1923 г.) «К биологии холерного вибриона: по материалу эпидемии за 1922 г. в г. Ростов-на-Дону» [33]. По мнению специалистов, выводы молодого ученого не потеряли значения до настоящего времени [4. С. 124]. За первыми публикациями последовали другие. Еще в ростовский период статьи З.В. Ермольевой, доклады, обзоры материалов всероссийских съездов эпидемиологов и бактериологов, участником которых она являлась, публиковались в журналах «Юго-Восточный вестник здравоохранения», «Советская медицина на Северном Кавказе», «Г игиена и эпидемиология». В анкете, датированной декабрем 1925 г., приведен список из 11 работ [34. Л. 25]. Только-только перешагнувшую 25-летний рубеж, З.В. Ермольеву уже воспринимали как сложившегося ученого. Осенью 1925 г. ее пригласили (по рекомендации В.А. Барыкина) в Москву заведовать отделом биохимии микробов в Биохимическом институте Наркомздрава РСФСР (позже Институт биохимии АН СССР). В январе 1935 г. З.В. Ермольевой было присвоено звание доктора медицинских наук [34. Л. 2]; к тому времени 50 ее работ было опубликовано в ведущих российских и зарубежных журналах, она участвовала в самых представительных международных научных форумах, стажировалась за рубежом, в том числе в институте Пастера. Как значилось в характеристике, подписанной директором Биохимического института, «научная деятельность З. Ермольевой в основном охватывала такие области микробиологии, как химическая природа явлений иммунитета, ферментоподобная природа бактериолитических агентов (бактериофаг, лизоцим и т.д.), ферментативный синтез аммиака из атмосферного азота». Результаты ее исследований по лизоциму применялись «в практике социалистического строительства -консервация черной икры лизоцимом поставила советскую икру вне конкуренции», «в лечении глазных, хирургических, гинекологических заболеваний» [Там же. Л. 17]. Ростовский опыт исследования холеры пригодился Ермольевой при создании комплексного препарата бактериофага и его апробации рубеже 1930-1940-х гг. в Афганистане и в осажденном Сталинграде. Нина Клюева (начиная с первой, все ее научные статьи подписаны именем «Нина») в 1920-е гг. занималась этиологией и эпидемиологией кишечных инфекций, а также малярии и гриппа. В соавторстве с А.А. Кашаевой она опубликовала несколько работ в таких научных изданиях, как «Советская медицина на Северном Кавказе», «Казанский медицинский журнал», «Микробиологический журнал». Под руководством М.И. Штуцера, известного микробиолога, приглашенного из Воронежа в Ростов-на-Дону руководить Бактериологическим институтом в 1927 г., Н.Г. Клюева включилась в исследование изменчивости возбудителей инфекционных болезней. После блестящего доклада на эту тему на Втором Всесоюзном съезде микробиологов (январь 1930 г.) ее пригласили в Москву. По мнению Н.Л. Кременцова, данное приглашение было инициативой В.А. Барыкина, в те годы возглавлявшего Центральный бактериологический институт [3. С. 58-59]. В Москве Нина Георгиевна все глубже втягивалась в иммунологическую проблематику, что и стало предпосылкой дальнейших исследований по созданию лекарства против онкологических заболеваний. Уже в 1935 г. (в том же году, что и З.В. Ермольева) она стала доктором медицинских наук, ученая степень была утверждена квалификационной комиссией центра медицинских инноваций того времени -Всесоюзного института экспериментальной медицины [35. Л. 5-6]. Заключение Итак, однокурсницы Зинаида Ер
Скачать электронную версию публикации
Загружен, раз: 49
Ключевые слова
Зинаида Ермольева, Нина Клюева, Женский медицинский институт, Донской университет, борьба с эпидемиямиАвторы
| ФИО | Организация | Дополнительно | |
| Еремеева Анна Натановна | Российский научно-исследовательский институт культурного и природного наследия им. Д.С. Лихачева | доктор исторических наук, профессор, главный научной сотрудник отдела комплексных проблем изучения культуры Южного филиала | erana@mail.ru |
| Заман Мухаммед Хамид | Медицинский институт Говарда Хьюза; Бостонский университет | Ph.D., профессор; профессор кафедры биомедицинской инженерии и международного здравоохранения | zaman@bu.edu |
Ссылки
Симонов К.М. Глазами человека моего поколения. Размышления о И.В. Сталине. М. : Правда, 1990. 426 с.
Krementsov N. The Cure: A Story of Cancer and Politics from the Annals of the Cold War. Chicago : University of Chicago Press, 2002. 290 p.
Кременцов Н.Л. В поисках лекарства против рака: «дело КР». СПб. : Изд-во Рус. христ. гуманитар. акад., 2004. 326 с.
Кнопов М.Ш., Клясов А.В. К 110-летию со дня рождения Зинаиды Виссарионовны Ермольевой // Журнал микробиологии, эпидемиологии и иммунобиологии. 2008. № 5. С. 123-125.
Мельникова Т. Сквозь призму невидимого. Волгоград : Нижне-Волжское кн. из-во, 1984 79 с.
Смирнова Н. Свет и обаяние личности (Зинаида Ермольева) // Академия. 2004. 12 марта. № 9 (204).
Российский государственный архив экономики (РГАЭ). Ф. 1020. Оп. 1. Д. 49.
Государственный архив Ростовской области (ГАРО). Ф. Р-46. Оп. 3. Д. 283
ГАРО. Ф. Р-46. Оп. 2, ч. 1. Д. 698а,
Центральный государственный исторический архив Санкт-Петербурга (ЦГИА СПб). Ф. 19. Оп. 128. Д. 405,
Корягин С.В. Харламовы и другие (генеалогия и семейная история Донского казачества). М. : Русаки, 2012. Вып. 102. 256 с.
Волков С.В. Офицеры казачьих войск : опыт мартиролога. М. : Русский фонд содействия образованию и науке, 2013. 960 с.
Российское научное зарубежье : материалы для биобиблиографического. словаря / авт.-сост. М.Ю. Сорокина. М. : Дом русского зарубежья им. А. Солженицына, 2011. Вып. 6: Естественные науки, XIX - первая половина XX в. 371 с.
Фицпатрик Ш. Срывайте маски! Идентичность и самозванство в России ХХ века / пер. с англ. Л. Пантиной. М. : Рос. полит. энцикл., 2011. 373 с.
ГАРО. Ф. Р-46. Оп. 3. Д. 359.
ГАРО. Ф. 503. Оп. 1. Д. 3.
ГАРО. Ф. 503. Оп. 1. Д. 4.
Карташев А.В., Гейко О.А. Бактериологический отряд кавказского комитета Всероссийского союза городов (1915-1917) // Военноисторический журнал. 2016. № 12. С. 51-57.
Государственный архив Краснодарского края (ГАКК). Ф. Р-3. Оп. 2. Д. 2.
ГАКК. Ф. Р-3. Оп. 2. Д. 10.
Приазовский край. 1919. 18 февр. (4 марта).
ГАРО. Ф. 503. Оп. 1. Д. 9.
Сборник приказов по ведомствам Правительства Всевеликого войска Донского № 22. 18 апреля 1919 г.
ГАРО. Ф. Р-46. Оп. 1. Д. 15.
Голиневич Е.М. П.Ф. Здродовский, 1890-1976. М. : Медицина, 1987. 144 с.
ГАРО. Ф. Р-46. Оп. 1. Д. 407.
ГАРО. Ф. Р-46. Оп. 3. Д. 283.
Киселев Л.Л., Левина Е.С. Лев Александрович Зильбер (1894-1966): жизнь в науке. М. : Наука, 2004. 699 с.
ГАРО. Ф. Р-46. Оп. 3. Д. 81.
Альниевич. Местная интеллигенция и научная работа // Советский Юг. 1922. 11 мая.
Присс А. Победительница вибрионов // Комсомольская правда. 1937. 12 авг.
Ермольева З.В., Клюева Н.Г. Бактериологическое исследование спинномозговой жидкости при летаргическом эпидемическом энцефалите // Кубанский научно-медицинский вестник. 1922. № 1-6. С. 45-46.
Ермольева З.В. К биологии холерного вибриона: по материалу эпидемии за 1922 г. в г. Ростов-на-Дону // Юго-Восточный вестник здравоохранения. 1923. № 7-8 (12-13). С. 13-15.
Государственный архив Российской Федерации (ГАРФ). Ф. Р-4737. Оп. 2. Д. 1118.
ГАРФ. Ф. Р-4737. Оп. 2. Д. 1311.
Книга Памяти Рязанского государственного медицинского университета имени академика И.П. Павлова / под ред. Р.Е. Калинина, В.А. Кирюшина и др. Рязань : РИО РязГМУ, 2015. 330 с.
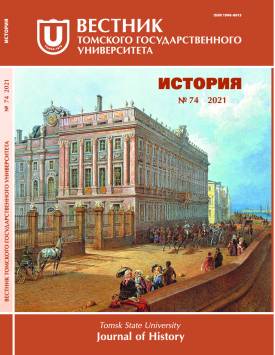
Однокурсницы. Зинаида Ермольева и Нина Клюева: путь в профессию | Вестн. Том. гос. ун-та. История. 2021. № 74. DOI: 10.17223/19988613/74/24
Скачать полнотекстовую версию
Загружен, раз: 393

 Вы можете добавить статью
Вы можете добавить статью