«...до революции мельничное дело процветало и было прибыльной статьей дохода»: национализация и муниципализация в Акмолинске и Акмолинском уезде в 20-е гг. ХХ в.
На основе анализа ранее неизвестных архивных документов изучены проблемы советской национализации и муниципализации на материалах Акмолинского уезда в 1920-е гг. Автор делает вывод о том, что национализация, применяемая большевиками как экономический инструмент разрушения старого общества и построения плановой социалистической экономики, носила в большой мере карательный характер и была малоэффективной.
“... before the revolution the milling industry flourished, and was the profitable point of revenue”: nationalization an.pdf Город Акмолинск являлся административным центром одноименного уезда, входившего до 1920 г. в состав Акмолинской области, а с апреля 1921 г. - в состав Акмолинской губернии. Административным центром губернии был город Петропавловск. Акмолинская губерния, общей площадью 429,5 тыс. кв. верст, была сформирована в мае 1921 г. путем выделения из Омской области четырех уездов: Петропавловского, Кок-четавского, Атбасарского и Акмолинского. Последний территориально был одним из самых крупных, в его состав входили 76 русских и 43 казахских волости, включавшие более 300 селений [1. Л. 12]. Территория уезда составляла более 200 тыс. кв. верст, общая численность населения - 352 955 человек, в национальном отношении преобладали казахи, русские, цыгане, эстонцы [2. Л. 156-157]. До революции в пределах Акмолинского уезда находились заводы английского акционерного общества: Спасский медеплавильный завод, Успенский медный рудник, Сарысуйский обогатительный завод, Карагандинские каменноугольные копи. Кроме того, к разряду крупных производств относились Сарыадыр-ские каменноугольные копи, принадлежавшие шведским и русским предпринимателям. К числу крупных относилось и предприятие по лесным заготовкам, где работали 55 служащих и 2 513 рабочих [3. Л. 13]. В целом же в начале XX в. экономика региона характеризовалась преимущественно как земледельческоскотоводческая, а основу промышленного производства в городе и уезде составляли отрасли местной промышленности: «...промышленность Акмолинска и Акмолинской губернии. сугубо местного значения: кожевенная, овчинная, пимокатная» [4. Л. 24]. В городе работали две паровые, одна водяная и одна механическая мельницы, а также свыше 50 ветряных мельниц с общим количеством рабочих 208 человек [5]. Механическая мельница, основанная в 1914 г. и находившаяся в ведении товарищества «Мукомоль», относилась к разряду крупных предприятий, так как технически была оборудована лучше, чем другие. Она работала на основе нефтяного двигателя, имелись вальцы и дробилки. Мельницу обслуживали 5 рабочих [6. Л. 213]. Все мельницы города работали на полную мощность. Например, производительность двух мельниц, принадлежавших братьям Шмидт, составляла более 7 тыс. пудов зерна в месяц [3. Л. 13]. Кроме того, в Акмолинске непосредственно перед революцией работали 3 мыловаренных и 3 кожевенных завода, свечной, колбасный, овчинный заводы Д. Морина в составе объединенной артели, завод по производству масла, механическая мастерская [2. Л. 209]. Кожевенные заводы, располагавшиеся в северо-восточной части города, принадлежали местным предпринимателям Фуколову, Лобачеву и Чайкину [7. Л. 49]. Важное место в городском производстве занимала переработка минерального сырья: кирпичная, гончарная, механическая отрасли. Эти отрасли были представлены 4 гончарными, 9 кирпичными заводами и 21 кузницей. Гончарные мастерские в 1914 г. дали продукцию на 1 000 руб. Более динамично развивалось кирпичное производство, что было обусловлено развернувшимся в городе строительством: в 1902 г. работало 5 заводов с 22 рабочими и производительностью 6 300 руб. в год, а в 1914 г. 9 заводов с 50 рабочими произвели продукцию на 150 тыс. руб. [8]. По данным обзоров Акмолинской области за 1911 г., в г. Акмолинске был зарегистрирован 491 ремесленник, из которых 366 были мастерами, 125 - рабочими и учениками. Распределение их по отраслям выглядело так: занятые в сфере приготовления продуктов питания (булочники, колбасники, кондитеры, хлебники, повара, кухмистры и прочие) - 30 чел.; занимавшиеся изготовлением предметов одежды (портные, сапожники, модистки, белошвейки) - 80 чел.; занимавшиеся приготовлением предметов жилища (плотники, ка- Г.А. Алпыспаева 6 менщики, столяры, токари, печники) - 188 чел.; изготовлением предметов домашнего быта (кузнецы, слесари, медники, шорники, тележники) занимались 81 чел.; прочие ремесленные мастера (водовозы, извозчики, часовщики, печатники, наборщики и другие) - 117 человек [9]. Наиболее многочисленными категориями ремесленников были плотники, кузнецы, слесари, портные, извозчики и каменщики. После октября 1917 г. под воздействием политических событий кардинально менялись условия и тенденции социально-экономического развития региона. Разрушение старых отношений в промышленности, сельском хозяйстве, торговле, организация новой системы государственного, общественного и хозяйственного управления стали основным направлением деятельности власти советов. С первых месяцев советской власти большевики повсеместно приступили к национализации промышленных предприятий и передаче их в собственность государству. В феврале 1918 г. власть Акмолинске и Акмолинском уезде перешла в руки Совета рабочих и крестьянских депутатов (совдеп). В составе Акмолинского совдепа для контроля и перестройки хозяйственной жизни города и уезда на новые социалистические отношения было создано несколько отделов: продовольственный, финансовый, хозяйственный. В марте 1918 г. создан уездный совет народного хозяйства (УСНХ), в который вошли 15 человек из числа местных активистов [10. Л. 11]. Они занимались вопросами национализации предприятий в городе и уезде. На основании Декрета СНК РСФСР от 17 мая 1918 г. «О национализации крупных предприятий» Акмолинский совдеп приступил к огосударствлению крупных предприятий, находящихся в пределах Акмолинского уезда и всей области. В числе первых были национализированы заводы английского акционерного общества - Спасский медеплавильный завод, Успенский медный рудник, Сарысуйский обогатительный завод и Карагандинские каменноугольные копи, а также Са-рыадырские каменноугольные копи. На предприятиях создавались фабрично-заводские комитеты из числа рабочих-активистов, которые установили рабочий контроль над деятельностью администрации. Экономический совет при исполкоме Акмолинского совдепа, фабрично-заводские комитеты непосредственно на местах занимались вопросами преодоления саботажа со стороны владельцев национализируемых предприятий, восстановления работы предприятий и налаживания производств. Несмотря на финансовые, технические и организационные трудности, связанные с тем, что англичане вывели из строя оборудование, закрыли предприятия, распустили административно -управленческий аппарат, уже в июне 1918 г. производство было нормализовано. Работа этих предприятий была направлена на удовлетворение нужд сельскохозяйственного населения региона. По заказу Акмолинского совдепа заводы английского общества перешли на выпуск сельскохозяйственных орудий для крестьян, таких как плуги, бороны, запасные части к мельницам и пр. В конце мая возобновилась добыча угля на Карагандинских и Сарыадырских угольных копях. В городе была национализирована компания «Зингер», для контроля деятельности которой была создана специальная комиссия из числа рабочих компании. Предприятия города в системе экономических связей региона имели сугубо местное значение, они создавались для переработки сельскохозяйственного сырья и относились к разряду средних и мелких, а потому национализация их происходила значительно позже, после гражданской войны. Вместе с тем те предприятия, владельцы которых саботировали распоряжения новой власти, переходили в руки государства уже в первые месяцы советской власти независимо от их размеров и значения. Так, Акмолинский уездный совет, заслушав на своем заседании доклад комиссии по расследованию действий купца П. Моисеева, владельца мельничного производства, который, по мнению большевиков, «угнетал окрестные поселки и тем, что все удобные земли вокруг этих поселков, принадлежащие киргизам, находились в его руках в виде аренды... из которых он извлекал огромные выгоды...», принял решение конфисковать принадлежавшие ему мельницы на реках Нуре и Кулан-Утпес [11. С. 43]. Как писал английский исследователь Э. Карр, «развитие революции принесло с собой не только стихийный захват земель крестьянами, но и стихийный захват промышленных предприятий рабочими» [12. С. 70]. Для проведения социалистических преобразований необходимы были средства. Денег на текущем счету городской казны не было, все ценности государственного и общественного порядка были разворованы либо находились в руках частных лиц. Большевики немедленно приступили к конфискации частного капитала. Для этой цели при совдепе создали комиссию, в состав которой вошли председатель Акмолинского совдепа Н. Монин, члены Акмолинского совдепа М. Грязнов и П. Горбунов, а также первый комиссар финансов О. Павлов. Комиссией был составлен список «граждан города буржуазного класса», чьи капиталы экспроприировались. Он насчитывал 331 человек, среди которых преобладали лица купеческого сословия [13. Л. 446451]. Решением Акмолинского совдепа были конфискованы капиталы местных торговцев, хранившиеся в Сибирском торговом банке. В апреле 1918 г. на купечество города была возложена контрибуция в размере 3,5 млн руб. Каждый из купцов в зависимости от объемов своего капитала обязан был немедленно выплатить контрибуцию в пользу новой власти. К примеру, купеческая семья Кубриных обязана была выплатить 495 тыс. руб. в золотом исчислении [14. Л. 12]. Предложения отдельных купцов «откупиться» от новой власти меньшими суммами были отвергнуты большевиками. Первые мероприятия большевиков по экспроприации и национализации носили в большей мере «карательный» характер. Местные предприниматели саботировали выполнение распоряжений новой власти. Купец М. Кубрин отказался выполнять решение совдепа и, как свидетельствуют документы, «нанес оскорбление советской власти» [10. Л. 13]. Его арестовали и судом революционного трибунала приговорили к тюремному заключению. Весь товар на складах «...до революции мельничное дело процветало и было прибыльной статьей дохода» 7 и в магазинах купца конфисковали, а затем под контролем комиссии распродали населению. Средства, вырученные от продажи товара, вносились на счет совдепа в Акмолинское казначейство на покрытие контрибуции купца. Эти решительные меры большевиков заставили противников новой власти подчиниться: следом за М. Кубриным стали вносить «свою долю» купцы Никитины, Семеновы, Забировы, Кощегу-ловы, Грингот и др. Было собрано около 1,5 млн руб., которые пошли на содержание нового управленческого аппарата, школ, больниц и прочие уездные и городские нужды [10. Л. 12]. Революция вызвала глубокий социальный раскол общества. Обостренный классовый антагонизм бедных и богатых толкал большевиков к немедленному и бескомпромиссному перераспределению имущества. Лучшие дома местных богачей конфисковывались и передавались под советские, военные и общественные учреждения. Экспроприации подвергалось имущество всех, кто имел хоть какое-то отношение к частному капиталу. Даже у горничной купеческой семьи Кубри-ных были конфискованы предметы домашнего обихода и личные вещи: чашки, подушки, вазы, панталоны, мыло и пр. [15. Л. 35]. С окончанием гражданской войны повсеместно создавались временные органы новой власти - революционные комитеты (ревкомы). На освобожденных территориях восстанавливалось действие законов и актов, связанных с национализацией. Акмолинский ревком, созданный в декабре 1919 г., продолжил начатый экономический курс: на предприятиях воссоздавались фабрично-заводские комитеты, принимались меры к восстановлению работы бездействующих предприятий, выделялись финансовые средства и материальные ресурсы для рабочих и их семей. На восстановление Сарыадырских каменноугольных копей было выделено 20 тыс. руб., а рабочим предприятия было отправлено продовольствие: 800 пудов мяса, 100 пудов сала, мука, мыло и другие товары. Эти меры дали результаты: уже в феврале 1920 г. Спасский медеплавильный завод выдал 1 600 пудов красной меди, на Сарыадыр-ских копях было добыто 10 000 пудов угля [16]. Начатая ранее экспроприация частного капитала получила свое логическое продолжение после гражданской войны. Однако теперь национализация проводилась более быстрыми темпами и охватила не только крупный, но и средний капитал. В числе первых огосударствлению подверглись мельницы товарищества «Братья Шмидт». 14 декабря 1919 г. на общем собрании рабочих была избрана комиссия для руководства работой товарищества [17. Л. 13]. В январе 1920 г. были национализированы кожевенные заводы, находившиеся на территории города. Первым в руки государства перешел завод местного предпринимателя Чайки. Решением общего собрания работников, на котором присутствовали 53 человека, в том числе председатель Акмолинского ревкома И. Еремин, завод был передан в ведение совета народного хозяйства (совнархоз), а Чайку обвинили в саботаже и незаконном расхищении народного достояния. Незамедлительно решались вопросы улучшения условий труда рабочих: при заводе была обустроена столовая, открыта баня, установлены нормы отпуска продовольствия, рабочим отпускали материалы и мебель [Там же. Л. 18]. В августе 1920 г. были национализированы кожевенные заводы Фуколова и Лобачева. Вместе с ними в собственность государства перешли соляные промыслы на озерах Кубей-Туз и Уш-Таган, принадлежавшие предпринимателю Б. Тумашеву [Там же. Л. 7]. На данном этапе национализации, помимо организации учета и контроля на предприятиях, власти занимались организацией управления национализированными предприятиями и обеспечения их кадрами, что было обусловлено послевоенной разрухой. В целях скорейшего налаживания производства и преодоления экономического хаоса в июне 1920 г. Акмолинский уездный ревком издал приказ о введении всеобщей трудовой повинности для неработающего населения в возрасте от 18 до 50 лет [Там же. Л. 52]. Была объявлена обязательная регистрация рабочих строительных профессий, проживающих в уезде. Усилиями советской власти к марту 1921 г. в уезде заработало 66 предприятий [Там же. Л. 113]. Между тем темпы отчуждения фабрик и заводов обгоняли темпы налаживания управления национализированными предприятиями, что неизбежно вело к дезорганизации производства. Уже в начале 1920-х гг. наметился спад промышленного производства в городе, о чем свидетельствуют материалы Всероссийской городской переписи промышленных производств 1923-1924 гг. В ходе переписи на каждое предприятие, независимо от его размеров и формы собственности, составлялись промышленные карты. В них фиксировались подробные сведения о деятельности предприятия: точное наименование, адрес и местонахождение; время основания; данные о владельце предприятия; форма аренды помещения; форма собственности; владелец до и после национализации; количество рабочих и служащих; масштабы применения наемного труда; понедельный и годовой режим работы; размер заработной платы рабочих; состояние технического оборудования; характеристика производственных машин и аппаратов; сведения об уплате всех видов налогов (государственные, местные); наименование и объемы выпускаемых изделий. Эти сведения дают исчерпывающую картину состояния промышленного производства в уезде в первой половине 1920-х гг. Данные о развитии промышленности содержатся также в докладе председателя губернского совета народного хозяйства по итогам обследования промышленности губернии в марте 1923 г., который был подготовлен на основе материалов, собранных чиновниками во время служебных командировок по уездам и городам губернии [18. Л. 2-12 об.]. Командировки организовывались для выяснения на местах положения дел в промышленности. Все национализированные предприятия региона разделили на несколько категорий в зависимости от формы управления: объединенные в составе управления промышленного комбината; работающие на хозрасчете; сдаваемые в аренду; подлежащие консервации; подлежащие ликвидации как нерентабельные [19. Л. 66]. За основу брались сведе- Г.А. Алпыспаева 8 ния, собранные чиновниками по результатам обследования. Поэтому данные, представленные в докладе, отражают реальное состояние экономики региона. Из отчетов чиновников вырисовывается картина падения промышленного производства в Акмолинском уезде в первой половине 1920-х гг., что привело к сокращению количества предприятий. В частности, чиновники констатируют невыгодность мельничного и кожевенного производств: «...до революции мельничное дело процветало и было прибыльной статьей дохода», национализированные «.кожевенные заводы не в состоянии конкурировать с кожсиндикатом» [19. Л. 67]. Как свидетельствуют архивные источники, действительно, мельничное производство до революции было делом прибыльным. Самые богатые купцы Акмолинска - А.М. Никитин и П. Моисеев, -были владельцами мельниц и сколотили капиталы в данной отрасли. Никитин значился первым в списках богатейших горожан, его недвижимое имущество оценивалось в 49 200 руб. Для сравнения: недвижимое имущество купца С.А. Куб-рина, владельца пивных и медоваренных заводов, оценивалось в 45 000 руб., а купцы С.М. Козулин, Х.Х. Султанаев, К.В. Кощегулов, торговавшие скотом, имели более скромные капиталы - 19 560, 16 650, 13 206 руб. соответственно [20. Л. 29]. О сокращение мельничного производства говорят следующие цифры. По данным экономического отдела совдепа, в октябре 1920 г. в Акмолинске еще работало 3 паровых и 45 ветряных мельниц [2. Л. 213]. Согласно результатам промышленной переписи, в 1924 г. в городе действовало всего 12 ветряных мельниц [6. Л. 106]. Как видно, динамика изменения мельничного производства менялась в сторону его сокращения. В отчетах чиновников представлены описания деятельности и технического состояния предприятий, из которых следует, что 3 кожевенных завода местных предпринимателей Фуколова, Лобачева и Чайки, успешно работавших до революции, на момент проведения переписи находились в плачевном состоянии. Кожевенный завод Лобачева, основанный в 1910 г., по техническому состоянию и оборудованию был лучше двух других; он имел нефтяной двигатель в 32 л.с., трансмиссионную передачу, семачную машину, 16 ссыпных, 6 зольных и 3 отмочных чана, барабан и корьедробилку. Производственное здание завода было капитальным и не требовало ремонта. Единственным недостатком, сдерживающим рост производства на заводе, было отсутствие поблизости источников воды. Хотя в черте завода имелись колодцы, они не удовлетворяли потребности производства [18. Л. 108]. До национализации на заводе работали 18 человек, масштабы производства были значительно больше. После национализации завод был переименован, теперь он назывался «им. Октябрьской революции», и передан в ведение губернского совнархоза. На момент инспекции на заводе работали 8 человек. После передачи завода в руки государства обозначился спад в производственной деятельности, и, как свидетельствуют документы, «.временами завод не работал» [Там же. Л. 117]. Кожевенный завод Фуколова до революции имел хорошую материальную базу: добротное 2-этажное производственное здание, в трех отделениях завода имелись 6 зольных, 3 отмочных и 11 ссыпных чанов, дробилка, семачная машина, лощилка. Как отмечалось в докладе чиновников, «при нормальных условиях пропускная способность завода составляла до 6 000 кож в год». С переходом в собственность государства завод был переименован в «Пролетарский», объемы производства сократились в 2 раза, а количество работающих уменьшилось с 12 до 5 человек [Там же. Л. 7 об.]. В отличие двух названных, завод Чайки, переименованный большевиками в завод «им. Всекиргизского съезда Советов», на момент инспекции находился в полуразрушенном состоянии, хотя производственное оборудование его не уступало первым двум и при заводе имелось новое складское помещение. По решению губернских властей завод был закрыт как нерентабельный и продан с торгов, а рабочие переброшены на завод Фуколова. В соответствии с технической документацией полная стоимость всех трех заводов без сырья составляла 80 381 руб. [21. Л. 6]. Тем не менее они были оценены госчиновниками как нерентабельные, а потому отнесены к разряду «сдаваемые в аренду». Мотивировалось такое решение отсутствием материалов, большими затратами на поставку топлива и воды. Сравнительный анализ архивных данных дает основание утверждать, что произошло сокращение количества мелких предприятий и ремесленных мастерских в городе. В отчетах начальника Акмолинского уездного экономического отдела за сентябрь-октябрь 1921 г. отмечается, что в городе работает более двух десятков предприятий типа ремесленных мастерских: шубная, сапожная, шорная, слесарная и механическая мастерские. Мощности их были небольшими: в среднем в месяц производили до сотни единиц товаров. Число рабочих составляло от 6 до 10 человек. Такую же мощность имели кирпичный и маслобойный заводы, на которых работали по 6-8 человек [3. Л. 10]. По данным переписи, в октябре 1924 г. в городе действовали 5 кузниц и 11 мастерских (жестяные, слесарные, ювелирные, кустарные, сапожная и др.), ручная маслобойка и парикмахерская [6. Л. 106]. На предприятиях ремесленно-кустарного типа работали по 1-2 человека. Большая их часть работала посезонно, в среднем 5-7 месяцев в году. Из-за недостатка материалов они не могли работать в полную силу. Масштабы производства не выходили за пределы города и уезда. Самым процветающим предприятием в Акмолинске в 1920-е гг., согласно данным Всероссийской городской переписи, была государственная типография, в которой работали 17 человек (рабочих - 11, служащих - 4, прочих - 2). Она была основана еще до революции, в годы гражданской войны типография была разрушена. После освобождения города от колчаковцев осенью 1919 г. большевики типографию восстановили [6. Л. 80]. Были выделены средства на техническое оборудование, приобретены резательный станок и скоропечатная машинка «американка». В сравнении с другими предприятиями, типография функционировала бесперебойно и на полную мощность. В ее составе было три цеха: печатный, наборочный и переплетный «...до революции мельничное дело процветало и было прибыльной статьей дохода» 9 [18. Л. 4-5 об.]. В 1923 г. в типографии работали 26 человек. За один месяц, сентябрь 1923 г., было отпечатано 96 185 экземпляров различных изданий [3. Л. 13]. Большой объем выпускаемой печатной продукции свидетельствует о значимости и важности идеологической работы среди населения. Источники сообщают, что в 1929 г. типография была «...усилена и расширена за счет Атбасарской типографии. но не справлялась с работой» [7. Л. 52]. В конце 1920-х гг. Акмолинск стал окружным центром, потребности города и региона в печатной продукции значительно выросли. Констатируя ухудшение экономического состояния региона и города, чиновники считали главными сдерживающими факторами развития промышленности недостаток оборотных средств, зависимость предприятий от кредитных учреждений (банков), низкую рентабельность, узкий рынок сбыта продукции, слабую покупательную способность населения, отсутствие материальной заинтересованности у рабочих, устаревшее оборудование и отсутствие механизации. Обвинения сыпались в адрес работы отделов акционерного общества «Кирторг», которые, по мнению местных организаторов производства, не обеспечивали своевременную поставку сырья и сбыт продукции. В ходе дискуссий чиновников-управленцев предлагались разные пути решения проблемы: одни считали, что необходимо кардинально изменить политику управления промышленностью и дать больше самостоятельности местным органам власти, передать предприятия местного значения уездным исполнительным комитетам. Другие настаивали на переводе предприятий на хозрасчет. Третьи предлагали «.направлять работу предприятий с технической стороны» [4. Л. 14]. Вместе с тем налицо были субъективные причины, связанные с неэффективностью системы управления экономикой, ее частыми реорганизациями. В системе управления промышленностью одновременно функционировало несколько органов. В начале 1920-х гг. были созданы УСНХ, реорганизованные затем в управления промышленностью губернии (УПГ). Параллельно им действовали отделы местного хозяйства (ОМХ), находившиеся в ведении губернского ОМХ. В феврале 1927 г. Акмолинский губернский ОМХ снова был реорганизован в губернский совет народного хозяйства (губсовнархоз) с выделением из его состава коммунального отдела. Однако в декабре 1927 г. коммунальный отдел вновь объединили с губернским совнархозом, который вскоре опять реорганизовали в губернский ОМХ. Обычной практикой в работе ОМХ была передача предприятий из одного ведомства в другое без объективных на то оснований, что негативно сказывалось на развитии промышленности. В документах нередко встречаются такие характеристики состояния дел в системе управления предприятиями: «На мельницах полная неразбериха. невозможно найти хозяина и выяснить, кому она принадлежит» [22. Л. 66]. Повсеместно наблюдались случаи, когда ту или иную мельницу хотела взять в аренду артель, но вследствие бюрократических проволочек не смогла произвести оформление. Этот процесс в документальных источ никах описан так: «Ее (имеется в виду артель. - Г. А.) посылали от мельпрода (мельничное производство. -Г.А.) в УИК (уездный исполнительный комитет. - ГА.), оттуда в отдел местного хозяйства, а от последнего снова к первому» [Там же. Л. 67]. Национализация, в ее советском идеологическом контексте, связана с таким понятием, как «муниципализация», рассматриваемая нами как принудительная передача государством частновладельческой собственности в ведение местных органов управления. В Акмолинске муниципализация началась сразу же с установлением советской власти в январе 1918 г. и продолжалась в последующее десятилетие. Жилые строения экспроприировались местными властями, а позже, уже задним числом, муниципализация приобретала законную силу распоряжением НКВД Каз. АССР в 1925-1927 гг. В первую очередь были муниципализированы дома и строения акмолинского купечества: Н. Забирова, Х. Бе-гишева, братьев Кощегуловых (Курмангали, Вали, Нуркей), Кубриных (Василия, Матвея и Александра), П. Моисеева, И. Путилова, А.М. Никитина, Ф.С. Семенова, В.А. Кучковского, Г.И. Казанцева, Н. Тихонова, И. Силина, С. Халфина, А. Виднева, братьев Ефремовых, Ш. Бурнашева и др. [23. Л. 35-44]. По материалам текущей статистики горуездного коммунального отдела, в 1921 г. в Акмолинске проживали порядка 18 тыс. жителей и насчитывалось 1 175 строений [2. Л. 212]. В ходе муниципализации в ведение Акмолинского городского совета перешло более 70 строений. Большая часть муниципализированных жилых строений использовалась под государственные, ведомственные, культурно-просветительские и общественные заведения. Военными учреждениями было занято одно здание, советскими - 18, школами и другими культурно-просветительскими заведениями - 19, больницами и учреждениями здравоохранения - 3, инвалидными домами - 2, в ведении коммунального хозяйства находилось 30 зданий [Там же. Л. 77]. Так, например, в особняке купца В. Кубрина в центре Акмолинска разместился штаб коммунистической партии большевиков, в доме купца М. Второва по ул. Церковной - Дом Советов, дом купца Г. Казанцева занимала почтово-телеграфная контора, а дом купца К. Кощегу-лова - прокуратура. В доме по Торговой улице, где ранее проживал купец М. Кубрин, в 1920-е годы находился клуб пионеров. Дома В. Кучковского, Абдрасу-ловых и Забировых были приспособлены под школы, а дом купца А.М. Никитина был отдан под детский приют. Центральный клуб расположился в особняке купца П. Моисеева, казахско-татарский клуб - в доме купца С. Халфина [Там же. Л. 48-48 об]. Часть муниципализированных домов была передана под жилье советским служащим. Конфискация жилых домов, производственных и подсобных строений осуществлялась и в ходе проведения заготовительных компаний 1929-1930 гг. Конфисковывалась собственность тех зажиточных граждан, которые уклонялись от уплаты хлебного налога. В списках злостных неплательщиков налогов числились: Д. Морин и В. Морин, В. Козулина, К. Кощегу-лов, С. Виднев, С. Игишев и др. [24. Л. 169]. В каче- Г.А. Алпыспаева 10 стве карательных мер к ним применялось изъятие квартир и домов, а в отдельных случаях и заключение в местную тюрьму. Между тем передача построек в ведение городских властей негативно сказалась на состоянии зданий. Имели место деструктивные процессы в развитии городского хозяйства, о чем свидетельствует сокращение количества городских строений. Общая площадь городских земель в 1927 г. составляла 11 539,56 га и включала три сада, парки и бульвары, два кладбища, находившихся в черте города, а также три рынка с прилегающими площадями. Общее число городских строений составляло 870 (в 1921 г. их насчитывалось 1 175), в том числе 129 квартир. Среди построек преобладали деревянные дома - 669, саманные постройки - 249, возведенные еще в XIX в. Каменных строений было немного - 29. Из общего числа городских строений 57 относилось к категории муниципализированных [25. Л. 35]. В 1920-е гг. жилищное и общественное строительство в городе практически не велось. Содержание муниципализированных зданий в надлежащем виде и их систематический ремонт требовали материальных средств, что при постоянном дефиците городского бюджета было проблемой. Часть строений приходила в негодность и постепенно разрушалась, о чем свидетельствует факт сокращения количества городских строений. В отдельных случаях местные власти принимали решение о демуниципализации жилых домов, требующих ремонта, прежние владельцы которых добросовестно работали на благо государства. Такой случай произошел с предпринимателем П.М. Тихоновым, дом которого был национализирован в 1922 гг. и передан под офис горуездной милиции [23. Л. 6]. П.М. Тихонов до революции и после ее победы служил на предприятиях Спасских медных промыслов в должности заведующего Акмолинским агентством. Он проработал почти 20 лет, с 1906 по 1925 г., и уволился в связи с ликвидацией агентства. Посчитав, что за добросовестный и энергичный труд он вполне заслужил возвращения своего дома, Тихонов в сентябре 1926 г. обратился в горсовет, прокуратуру и губернский исполком с ходатайством вернуть ему в собственность дом со всеми постройками, взяв обязательство произвести капитальный ремонт здания за счет своих средств. Акмолинский горсовет, рассмотрев заявление, постановил вернуть владельцу все строения. В решении губернского прокурора, отмечалось, что «...возбуждение вопроса о демуниципализации строения его бывшим собственником. имеет место не по признаку незаконности его муниципализации, а носит характер ходатайства о возвращении этого дома в связи с невыгодностью его эксплуатации государством» [Там же. Л. 8]. Муниципализация недвижимого имущества в городе должна была решить не только жилищный вопрос, но и проблему размещения уездных и городских управленческих структур, советских партийных органов, культурно-просветительских учреждений, общественных организаций. Но, как свидетельствуют архивные документальные материалы, жилищный вопрос не был актуален в первой половине 1920-х гг. по причине того, что в динамике городского населения наблюдалось заметное сокращение численности населения за счет естественного убывания, связанного с превышением смертности над рождаемостью. По данным Акмолинского ЗАГСа, в 1923-1924 гг. в городе родились 391 чел., а умерли 1 506 [18. Л. 15]. Причины высокой смертности - массовые эпидемии заразных заболеваний, охватившие страну в годы гражданской войны, а также голод начала 1920-х гг. Акмолинск и Акмолинский уезд относились к наиболее неблагополучным регионам в санитарно-эпидемиологическом плане. В годы гражданской войны в городе и уезде свирепствовал тиф, а уже летом 1921 г. началась эпидемия холеры. Тенденция сокращения численности населения была характерна для всего Казахстана. В 1921 г. население республики сократилось на 22% в сравнении с 1920 г. [26. С. 69], и причиной тому были не только голод и эпидемии, но и отток населения из республики, в том числе из Акмолинской губернии. Если до 1922 г. в Акмолинскую губернию население прибывало из-за голода в центральных районах России и в Поволжье, то к рассматриваемому времени ситуация с продовольствием там нормализовалась, зато в Акмолинском крае разразился голод. С января по июнь 1922 г. из Акмолинской губернии выехало в родные края 11 тыс. человек [Там же. С. 70]. Рост численности населения города наметился во второй половине 1920-х гг. По данным текущей статистики население города на октябрь 1928 г. насчитывало 11 374 чел. [27. Л. 131], в 1929 г. - 12 783 чел., в 1930 г. - 18 543 чел. [25. Л. 190]. В условиях быстрого роста населения в связи с получением городом статуса окружного центра в конце 1920-х гг. обострилась жилищная проблема, ощущался дефицит административных и общественных зданий. По этой причине наблюдались частые переезды и перемещения городских госучреждений из одного здания в другое. Так, например, городской музей, основанный в 1923 г., со времени своего основания и до Великой Отечественной войны шесть раз поменял адрес. На момент открытия музей занимал одну комнату в здании Народного дома по ул. Управской. В 1927 г. он переехал в дом бывшего казначейства по ул. Крепостной. В 1928 г. его переместили в здание магазина купца Ф.С. Семенова по ул. Гостинодворской, а в следующем году он переехал в муниципализированный деревянный особняк купца С.С. Хлебникова. В 1930 г. под музей городские власти определили здание мусульманской мечети. Непосредственно перед войной, в 1940 г., музей разместился в здании городской церкви [28. Л. 28]. Закономерным результатом частых переездов и перемещений была потеря ценных музейных артефактов по истории края. Таким образом, анализ регионального материала о национализации и муниципализации в 1920-х гг. позволяет резюмировать следующее. Национализация промышленности в регионе началась весной 1918 г., с установлением власти советов в Акмолинском уезде. На начальном этапе она носила ограниченный, в большей мере «карательный характер», касаясь главным образом крупных производств и отдельных предприя- «...до революции мельничное дело процветало и было прибыльной статьей дохода» 11 тий, владельцы которых участвовали в саботаже мероприятий советов. Экспроприация не предполагалась всеобъемлющей, немедленной и категоричной. Атака на капитал проходила по инициативе и при активном участии местных органов власти, действовавших при проведении национализации в соответствии с установкой сверху и в то же время под влиянием стихийных обстоятельств. Кардинально и решительно национализация осуществлялась уже после гражданской войны, в силу сложившихся обстоятельств, когда в ходе жестокой борьбы, навязанной противниками новой власти, в деятельности советов начинают доминировать идеологический фактор, стремление к чрезмерной радикализации социально-экономических отношений. На данном этапе темпы отчуждения предприятий обгоняли темпы налаживания управления национализированными предприятиями, что неизбежно вело к дезорганизации и сокращению производства. Отрицательно влияли на развитие производства частые реорганизации управления промышленностью. Отрасли местной промышленности (кожевенная, овчинная, мукомольная), которые традиционно были ведущими в структуре экономики Акмолинского уезда и г. Акмолинска, оказались в упадке. В этом смысле национализация, применяемая большевиками как экономический инструмент разрушения старого и построения нового общества, была малоэффективной. Муниципализация городских строений и передача зданий в ведение коммунального отдела городского совета отрицательно сказались на состоянии жилого фонда города. Без должного ремонта фасадов зданий часть жилого фонда пришла в негодность, постепенно разрушалась. В условиях падения городского промышленного производства, недостатка финансовых средств и дефицита бюджета градостроительные процессы приостановились.
Скачать электронную версию публикации
Загружен, раз: 141
Ключевые слова
местная промышленность, муниципализация, национализация, 1920-е годы, город Акмолинск, Акмолинский уездАвторы
| ФИО | Организация | Дополнительно | |
| Алпыспаева Галья Айтпаевна | Казахский агротехнический университет им. С. Сейфуллина | доктор исторических наук, профессор кафедры истории Казахстана гуманитарного факультета | galpyspaeva@mail.ru |
Ссылки
ГАГА. Ф. 32. Оп. 1. Д. 116.
ГАГА. Ф. 78. Оп. 1. Д. 11.
Базанова Ф.Н. Формирование и развитие структуры населения КазССР (национальный аспект). Алма-Ата : Казахстан, 1987. 156 с.
ГАГА. Ф. 32. Оп. 1. Д. 114.
ГАГА. Ф. 362. Оп. 2. Д. 25.
ГАСКО. Ф. 55. Оп. 1. Д. 341.
БУ ИсА. Ф. 1617. Оп. 1. Д. 182.
ГАСКО. Ф. 161. Оп. 1. Д. 49.
ГАСКО. Ф. 55. Оп. 1. Д. 341.
ГАСКО. Ф. 189. Оп. 1. Д. 74.
ГАГА. Ф. 250. Оп. 1. Д. 29.
Акмолинская правда. 1957. 24 июля.
Государственный архив Акмолинской области (ГААО). Ф. 212. Оп. 1. Д. 1.
ГАСКО. Ф. 161. Оп. 1. Д. 20.
ГАГА. Ф. 407. Оп. 1. Д. 183.
Советы и ревкомы в Казахстане (октябрь 1917-1920 гг.) : сб. документов. Алма-Ата : Казахстан, 1971. 224 с.
Карр Э. История Советской России. М. : Прогресс, 1990. Кн. 1, т. 1, 2. 766 с.
Бюджетное учреждение «Исторический архив Омской области» (БУ ИсА). Ф. 26. Оп. 1. Д. 205.
Обзор Акмолинской области за 1911 г. Омск, 1912 г. Приложение. Ведомость о ремесленниках.
ГАГА. Ф. 407. Оп. 1. Д. 184.
ГАГА. Ф. 250. Оп. 1. Д. 62.
ГАСКО. Ф. 161. Оп. 1. Д. 24.
Дубицкий А.Ф. Акмолинск - торговый город // Акмолинская правда. 1957. 4 июля.
ГАСКО. Ф. 99. Оп. 1. Д. 120.
ГАГА. Ф. 286. Оп. 1. Д. 38.
Обзор Акмолинской области за 1914 г. Омск, 1915 г. Приложение. Ведомость о промышленности.
Государственный архив города Астаны (ГАГА). Ф. 250. Оп. 1. Д. 16.
Государственный архив Северо-Казахстанской области (ГАСКО). Ф. 1154. Оп. 1. Д. 1.
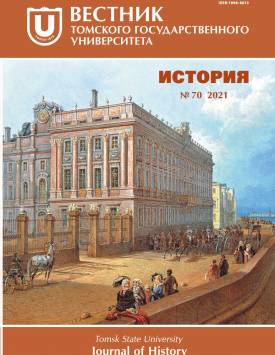
«...до революции мельничное дело процветало и было прибыльной статьей дохода»: национализация и муниципализация в Акмолинске и Акмолинском уезде в 20-е гг. ХХ в. | Вестн. Том. гос. ун-та. История. 2021. № 70. DOI: 10.17223/19988613/70/1
Скачать полнотекстовую версию
Загружен, раз: 1042

 Вы можете добавить статью
Вы можете добавить статью