Проведен анализ государственно-конфессиональной политики в отношении староверов в годы правления Петра I. Сделан вывод о том, что в данный период была создана и закреплена на практике конкретная законодательная система с ярко выраженным антистарообрядческим характером. Все законы преследовали цель ограничить численность староверов в пределах существующего поколения, лишив их всевозможных религиозных и гражданских прав. Вместе с тем условная (унизительная) легализация старообрядцев позволила использовать их экономический потенциал в пользу имперского государства.
“Anti-raskol” state confessional policy in Russia during the reign of Peter I.pdf Противоречивый характер конфессиональной и этнополитической ситуации в современной России требует научного понимания глубинных истоков проблем, с которыми сталкивается ныне общество. Поэтому необходим исследовательский анализ таких переломных моментов истории, когда государственная власть оказывалась перед выбором средств разрешения острых конфликтов. Одной из исторических развилок была, как известно, эпоха правления последнего русского царя и первого российского императора Петра Алексеевича Романова (1672-1725). «В самой необходимости ломать вековой уклад русской жизни, истреблять “противников реформ”, грабить церкви, разорять и доводить до полного отчаяния, до бегства из России миллионы людей, - отмечает А.М. Буровский, - обо всех этих “необходимостях” мало кто задумывается всерьез. Не задается самый основной вопрос: а нужно ли было вообще делать то, что делал Петр? А если даже было и нужно, то в каких формах?» [1. С. 13]. Действительно, проводившаяся в России на рубеже XVTI-XVTII столетий политика «европеизации» коренным образом трансформировала отечественную систему государственного управления, но, по мнению многих исследователей, далеко не всегда в положительную сторону. Н.Я. Эйдельман заметил в свое время, что споры о политике Петра I «.. .не кончатся, пока будет существовать Россия, - редчайший признак всегдашней актуальности, доказательства того, что “петровская проблема» еще не исчерпана” [2. С. 54]. Вышеупомянутые преобразования не могли, конечно же, не затронуть наиболее острый из конфликтов, унаследованных Петром I от своих предшественников. «Раскол, который роковым образом разделил и ослабил русское православие при царе Алексее, - отмечает Дж. Биллингтон, - наложил свою печать на все области этой органически религиозной цивилизации» [3. С. 160]. Неслучайно проблематика, связанная с переосмыслением истории многовекового дискриминационного преследования государственной властью адептов традиционалистской версии русского православия, остается актуальной до настоящего времени. Об этом, в частности, свидетельствуют многочисленные научные публикации последних лет [4-12]. По сравнению c недавним прошлым сегодня, как верно заметил современный исследователь, существует «возможность внести значительные коррективы в истолкование исторических событий, происшедших в России в период после XVII века». Но при этом, по мнению Б.П. Кутузова, «русская история может быть правильно осмыслена лишь с позиций старообрядчества.» [13. С. 5]. Хотя концептуальная точка зрения данного автора может показаться излишне категоричной, ее, на наш взгляд, следовало бы признать мотивированной. В период правления Петра I были изданы указы, по которым старообрядцы обвинялись в государственных преступлениях. Именно светская власть подвергала их уголовному наказанию. Церковная же власть должна была заниматься «увещеванием раскольников», добиваться пресловутого «раскаяния», чтобы налагать на них епитимию и затем рассылать по своим же монастырям. «Нераскаявшихся» следовало передавать государственной полиции. Привлекая в Россию иностранцев, правительство Петра I предоставляло им свободу жить и веровать «по-своему». Они могли совершать обряды согласно традициям своих вероисповеданий. Известно высказывание будущего императора относительно совести подданных: «Господь дал царям власть над народами; но над совестью людей властен один Христос» [14. С. 206]. Юридически данная позиция была оформлена манифестом от 16 апреля 1702 г. В нем «свобода вероисповедания» трактовалась следующим образом: «Понеже здесь в столице нашей уже введено свободное отправление богослужения всех других, хотя с нашею церковью несогласных, сект: того ради и оное сим вновь подтверждается таким образом, что Мы по дарованной Нам от Всевышняго власти совести человеческой приневоливать не желаем и охотно предоставляем каждому христианину на его ответственность пещись о блаженстве души своей». Государство же должно «смотреть, чтобы по прежнему обычаю никто как в своем публичном, так и частном отправлении богослужения В.Н. Ильин, В.А. Должиков 20 обезпокоен не был, но при оном содержан и противу всякого помешательства защищен был» [15. № 1910]. Предоставляя свободу вероисповедания иностранным подданным, Петр I не допускал и мысли о возможности функционирования среди православных другой версии христианства, кроме официально признанной. Монополия на проповедь вручалась одной лишь никонианской Церкви. При этом распространение миссионерами казенного православия среди так называемых инородцев сопровождалось предоставлением новообращенным разного рода льгот [16. № 3637]. Ничего подобного не могло быть в отношении русских христиан-«раскольников». С одной стороны, по отношению к ним Петр I допускал, что «если они подлинно таковы (честны и прилежны и им можно в торгу верить) - то по мне пусть веруют, чему хотят...» Но, с другой стороны, как верховный законодатель он считал «раскольничьи дела злодейственными, понеже раскольничья прелесть, упрямства наполненная, правоверию противна и злодейственна есть» [17. С. 98-99]. Противоречивость позиции в отношении старообрядчества можно, по-видимому, объяснить и экономическими (фискальными) интересами казны. В данном случае власть преследовала двоякую цель: уничтожение «раскола» и одновременно пополнение государственных финансов. При этом старообрядчество не признавалось даже вероисповеданием в том смысле, в каком законодатель упоминает о верах «римской или люторской». Старообрядчество «не приурочивалось ни к какой национальности иноземной», поскольку считалось «отступлением от православия». Поэтому на него не могла распространяться веротерпимость, практикуемая в отношении многих других конфессий. Адептов традиционалистской версии русского православия инициатор «европеизации» рассматривал как «фанатичных ревнителей старины», а следовательно, противников нововведений. «Ими были постоянно заполнены тюрьмы Преображенского приказа, и все эти лица, - констатирует дореволюционный историк старообрядчества, - были ли они церковными раскольниками или нет - причислялись при путанице и неустойчивости тогдашней терминологии заодно к раскольникам» [14. С. 209]. В 1705 г. был издан царский указ, предписавший мужчинам брить бороды под угрозой штрафа «в 60 и 100 р. с человека и по 2 деньги с крестьянина по вся дни, как пойдут в город и за город» [15. № 2015]. Указ от 4 января 1700 г., подтвержденный в 1714 г., обязывал всех служилых дворян и торговых людей носить саксонское либо французское платье. Предпринимались попытки то же самое навязать и крестьянам [Там же. № 1741, 2874]. Понятно, что стремление Петра I искоренить национальные традиции повседневности -бороды у мужчин и одежду привычного русского покроя - в старообрядческой среде не могло найти понимания ни в малейшей степени. Вместе с тем Петру I не хотелось, чтобы старообрядцы действовали совсем уж скрытно. Частичная экономическая их легализация была в фискальном отношении более выгодна правительству. «.Сборы с них были настолько значительны, - отмечает А.В. Попов, - что в 1724 г. для них при сенате была учреждена особая контора» [14. С. 221]. Заметим особо, что до 1716 г. лидеры и адепты «раскола» были фактически вне закона. Без всякого суда, согласно «драконовским» статьям указа от 7 апреля 1685 г. царевны-регентши Софьи Алексеевны, они приговаривались к смертной казни. Соответственно, в те жестокие времена мало кто мог бы открыто заявлять о своей конфессиональной принадлежности к староверию. В 1716 г. верховная российская власть признала, наконец, существование старообрядчества де факто. Петром I были изданы специальные постановления (от 8 и 18 февраля того же года), по которым приверженцы староверческого православия освобождались от уголовных наказаний за «содержание раскола» под условие их записи в двойной подушный оклад [18. № 2991, 2996]. Данный акт стал неким поворотным рубежом, что, правда, само по себе не свидетельствовало еще о полном отказе от «противораскольнического» курса в политике правительства: «И хотя на раскольников записанных двойной оклад и положен, и они записались, - поясняет законодатель, - однако ж не для того, чтоб они свою раскольническую прелесть разсевать могли и других учили, но токмо двойной оклад на их положен за то, что по упрямству своему обращаться ко святой церкви и в соединении с правоверными быть не хотят» [19. № 6928]. Этот пункт петровских постановлений дополнительно подтверждался и в 1718 и в 1724 г. [18. № 3232; 20. № 4526]. В 1720 г. всем старообрядцам велено было записываться в приказе Церковных дел «без всякого сомнения, не внимая некоторых пустошному совету; а ежели кто, ведая сей указ. за раскол в платеж оклада в записке не явится, а в том, от кого изобличен будет, и тому преступнику учинено будет жестокое наказание и доправлен будет и перед тем двойным окладом еще вдвое штраф» [16. № 3547]. Как известно, царь-реформатор добивался от своих подданных безоговорочного служения государству. Поэтому старообрядцы, которые игнорировали монаршую волю, подвергали себя риску полицейского преследования и наказания вплоть до каторжных работ. Однако с этого момента «записные раскольники», принимавшие дискриминационную политику государственных властей как данность и считавшиеся с ее требованиями, получали возможность открыто жить в своих общинных поселках «без всякого сомнения и страха». Правительство вынуждено было их легализовать. Так что, записавшись официально «раскольником», можно было избежать прямого насилия хотя бы со стороны местных властей. Благодаря политическим послаблениям в России формировались региональные старообрядческие центры: Ветка, Выговщина, Нижегородчина, Стародубье и др. Однако многие из старообрядцев упорно не хотели быть занесенными в списки, составляемые чиновными «слугами сатаны». Свой протест они выражали в пассивных формах сопротивления: укрывательством преследуемых, побегами, даже массовыми самосожжениями («гарями», или «огненными крещениями») [21-23]. «Противораскольническая» государственно-конфессиональная политика в России периода правления Петра I 21 В результате в России появилась целая диаспора «потаенных раскольщиков». Помимо уголовного сыска и преследования карательными полицейскими командами верховный законодатель предписывал вынудить всех явных «раскольников» ежегодно исповедоваться и причащаться только в казенных храмах. По указу от 17 февраля 1718 г. эта ритуальная норма под предлогом соблюдения общепринятых церковных установлений вменялась каждому верноподданному. Неисполнение «сих христианских обязанностей» Петр I считал тоже государственным преступлением [18. № 3169]. Фактически таким способом выявлялись, учитывались и контролировались наличные общины адептов старообрядчества. Всех тех, кто не исповедовавался своевременно, следовало «почитать за раскольников и ослушников», а затем штрафовать. В именном царском указе от 17 февраля 1718 г. определялись конкретные суммы штрафа за неявку на исповедь: «...с разночинцев и с посадских первый по рублю, второй по два рубля, третий по три рубля, а с поселян: первый по 10 денег, другой по гривне, третий по 5 алтын...» Штрафные деньги должны были взиматься «неупустительно» со всех поголовно, «не исключая старых, увечных и несостоятельных». Ну а тех, кто уклонялся от платежа, ссылали: «мужчин на галеры, а женщин на прядильный двор». Данный норматив подтверждался постановлением от 11 января 1723 г., согласно которому приговаривались к «гражданскому наказанию» все, не бывшие у исповеди «после тройных штрафов». Уличенные в «расколе» определялись на «артиллерийские и другие работы, которые были бы каторжной работе подобны» [24. С. 30]. Позже данный указ будет подтвержден в 1737 г. императрицей Анной, а в 1740 г. - и государыней Елизаветой. Старообрядцы были лишены права поступать на государственную и выборную общественную службу. Петр I придерживался следующей позиции: «По всей России раскольщиков не возводить на власти, не токмо духовныя, но и на гражданския, даже до последняго начала и управления, чтоб не вооружать нам на нас же лютых неприятелей и государству и государю непри-станно зло мыслящих» [14. С. 212]. В 1724 г. он предписывал: «а им раскольщикам, по прежним же Его Императорского Величества указам ни у каких дел начальниками не быть а быть токмо в подчиненных, також во свидетельство их нигде не принимать, кроме того, что между собою, и то по случаю» [20. № 4526]. Для «раскольников» была определена особая форма одежды. Мысль о таком отличительном признаке подсказал судья Московской тиунской конторы архимандрит Антоний, который 9 февраля 1722 г. обратился в Правительствующий Синод с соответствующим заявлением. Поскольку «раскольщики записные между православными не познаваеми суть, - писал он, - достоит ли им на верхнем платье некий иметь знак, дабы, яко мерзости некия, гнушалися православные» [14. С. 212]. Через несколько месяцев появился новый государев указ. По нему старообрядцам предписывалось одежду носить исключительно старого покроя, а именно «зипун с стоячим клеевым козырем, ферязи и однорядку с лежачим ожерельем. Только раскольщикам носить у оных козыри из красного сукна, чего для платья им красным цветом не носить» [16. № 3944]. Такая верхняя одежда у них должна быть и зимой, и летом. «Женам раскольничьим и бородачевым носить платья опашни и шапки с рогами [т.е. кички] старинныя ж» [20. № 4596]. Позднее купцам и промышленникам, остающимся в «расколе», велено еще было надевать специальные медные бляхи. Очевидно, по замыслу составителей данного указа подобная опознавательная маркировка старообрядцев в повседневном быту должна была подчеркивать их статус всеми презираемых отщепенцев (маргиналов). Тем не менее «подобные платья и бляхи служили, -как замечает русский богослов и правовед А.В. Попов, -дополнительным поводом роста потаенного раскола» [14. С. 212]. Игнорирование записи в двойной подушный оклад, т.е. «потаенный раскол», преследовалось весьма строго в первой половине XVIII столетия. Юридическим основанием для ужесточения дискриминационной конфессиональной политики стали правительственные указы от 2 марта 1718 г., 15 мая 1722 г. и 8 января 1727 г. Всех выявленных «потаенных раскольников» Петр I повелел ссылать: мирских на каторгу, а монахов и монахинь в монастыри. Так, в Нижнем Новгороде в 1721 г. к десяти старообрядцам «наказание чинено и ноздри выняты за то, что они жили потаенно в расколе от укладу укрывалися и от оных семь человек не обратившиеся и противники святой Церкви по Его Царского Величества имянному указу посланы в каторжную работу, а два человека... кои обратились, велено отослать в Св. Прав. Синод, дальнейшая их судьба не известна» [Там же. С. 327]. Двойной подушный оклад, не уплаченный вовремя, взыскивался с них повторно, в двукратном же размере [Там же. С. 326]. Все эти петровские указы свое действие утратили лишь после отмены в 1782 г. двойного подушного оклада. Понятие «раскола» как уголовного противогосударственного преступления в данный период (и на протяжении всего XVIII в.) истолковывалось судопроизводством очень широко, включая весь спектр нарушений религиозного и мирского характера. Интегральным признаком являлось единство субъекта инкриминируемых деяний. Обвинение в них предполагало следующие виды преступной, с точки зрения властей, активности подозреваемых: «совращение в раскол»; «отпадение в раскол»; «распространение раскольнического учения»; «совершение раскольниками священнослужения»; «упорство и отказ от обращения в православие». В качестве государственного преступления «раскол» включал в себя такие наказуемые деяния, как «уклонение раскольников от записи в двойной оклад», самосожжение, укрывательство «раскольников» и недонесение о них. При этом уход в «раскол» являлся отягчающим вину обстоятельством при совершении разных других преступлений как религиозного, так и нерелигиозного характера (к примеру, побег из мест заключения). «Совратители в раскол» на основании указов Петра I после 1722 г. также подвергались вместе с «расколо- В.Н. Ильин, В.А. Должиков 22 учителями» уголовному наказанию [16. № 4009]. «Если кто правоверных раскольническою прелестию тайно или явно обольстит, таковаго, - требовало имперское законодательство, - по жестоком в гражданском суде наказании, посылать в галерные работы вечно, а движимое и недвижимое имение отбирать в казну» [25. № 5554]. «Совращенных» и тех, кто «отпал в раскол» по своей воле, сначала направляли к церковникам для увещевания. Затем, если «совратившийся» не слишком упорствовал, то его ссылали в какой-нибудь монастырь на испытание и для епитимии [19. № 6421]. Если же упрямился, то его переправляли гражданским властям, и уже они, а не представители церковной власти, судили за повторное «отпадение в раскол» [16. № 4009]. Виновные в пропаганде «раскольнического учения» также подлежали уголовной ответственности. Под ней понимались все действия, предпринимаемые с целью «совращения в раскол» или способные повлечь «отпадение» от официальной церкви. Даже частная беседа «раскольника» о предмете своего учения с «нераскольником» рассматривалась как распространение «раскола». Об этом свидетельствует содержание указа от 16 июля 1722 г. Согласно его статьям только записавшийся в двойной оклад мог официально считать и называть себя «раскольником». Однако ему предписывалось «другим о той раскольнической прелести разговоров и учения не точию посторонним, но в одном доме живущим, никому отнюдь ему не произносить, и никого тому не учить и никакими способы к той раскольнической прелести не привлекать...». Вышеупомянутый указ вводил целый ряд запретов: « .учителей раскольнических и потаенных раскольников в дом к себе не принимать и противных правому святыя церкви мудрованию книг на большее им прельщение и другим на соблазн употребляемых как печатных, так и письменных, отнюдь у себя не держать.» Запрещалась не только собственно популяризация «раскольнической прелести». Наказывалось также хранение и тем более распространение книг старой и новой печати, тетрадей, икон, брошюр и других предметов, священных для старообрядцев. Данное преступление, как правило, выявлялось попутно во время следствия по поводу иных уголовно наказуемых действий (например, «совращения в раскол» или «укрывательства раскольников»). Все, кого занесли в казенные списки, обязаны были сообщать, «где потаенных и не записанных раскольников ведают» и «объявлять без всякой утайки» [16. № 4052]. Совершение таких обрядовых таинств, как крещение, бракосочетание или погребение, «за отсутствием правильной преемственной иерархии раскольники совершали по нужде. Иногда и то и другое совершалось беглыми попами, а иногда и православными священниками, но с особенностями раскольнического обряда» [14. С. 324]. Этому вопросу в указе от 16 июля 1722 г. посвящен особый параграф: «Понеже усмотрено из дел, что всем раскольническим действам, большею причиною есть то, что по суетному их раскольническому мнению попы, паче же и не посвященные отправляют всякия церковныя потребы, а именно: младенцев крестят, хотящих брачитися венчают, умерших погребают; того ради имать у всех раскольников сказки под лишением имения и ссылкою на галеры, кто у них оныя потребы на перед сего исправлять, и ныне исправляет, то есть младенцев крестит, брачившихся венчает, и болящих исповедывает и причащает, и умерших погребает; и по тем сказкам таких, кого они покажут, сыскивать чрез них же самих к духовному правлению и сыскивая допрашивать, какого был чина, и ежели поп, кем посвящен, и имеет ли свидетельствующую священство его грамоту, и где служит и по указу ль и не под запрещением ли обретается». В том же случае, когда «непосвященный действует, давно-ль в расколе и кем в расколе приведен и такой прелести научен, и для чего так дерзостно неданное ему действует, и по тем допросам, учиняя обстоятельное о них следование, таких попов по обнажении священства, равно с прочими продерзатели, по содержанию прежде состоявшихся о том Его Императорскаго Величества указов, отсылать для наказания и ради ссылки на галеры к светским управлениям, а движимое и недвижимое имение их отписывть на Его императорское Величество и содержать под Синодским ведением» [16. № 4052, п. 5]. За подобные действия предусматривалось достаточно строгое наказание. Священники официальной православной церкви, если они «по раскольническому содержанию противно действовали», обычно лишались сана и подлежали церковному суду [Там же. № 4009]. Относительно совершения треб в 1722 г. Св. Синодом было постановлено: «.у записных раскольников детей крестить по православному обряду, а также при браках смешанных, когда одно лицо православное, а другое держится раскола, то последнее “да примет церкви святой общание с присягою”. А когда оба раскольники, то их брак не венчать, а брачное сопряжение их рассматривать как блудное». В данном случае целью противораскольнических законов являлось ограничение численности старообрядческих общин в пределах уже существующего поколения, чтобы de jure не допускать ее роста в будущем. Такая юридическая «ловушка» должна была естественным способом старообрядчество «свести на нет» с использованием уже не силовых карательных мер, а административно-правового давления. Однако de facto подобным планам не суждено было сбыться. Ограничительные рамки действовавшего законодательства способствовали превращению старообрядчества в православный underground, что в перспективе серьезно затруднило борьбу светской и церковной власти с ним. Насчет брачно-семейных отношений старообрядцев в указе от 28 февраля 1722 г. было предписано: «.раскол держащих лиц не венчать, а если и без церковнаго венчания жить с собою станут, допросить, кто венчал, или без всякого венчания живут, и того вен-чавшаго взыскать к наказанию». Кроме того, «да и все венчавшиеся, яко своего обещания (которые при своем записании в явный раскол с роспискою учинили) преступники, наказанию подлежат». А если они «сами собою сожитие свое восприняли, за тое их, яко законопреступников явных, звать на суд архиерейский, «Противораскольническая» государственно-конфессиональная политика в России периода правления Петра I 23 а ежели не похотят сказать, кто венчал их или без всякого венчания сжилися, то взяты будут в розыск» [14. С. 402]. За исполнением этих правил власть следила очень строго. В вину подсудимым ставилось также «необращение из раскола к православной Церкви». Судебному приговору по данной статье обычно предшествовало так называемое увещание, а только затем следовало уголовное наказание. При Петре I это была, как правило, административная ссылка, первоначально в Сибирь. Поскольку же на практике «упорное пребывание в расколе» нередко сопровождалось «потаенным расколом», постольку и наказание за это полагалось одинаковое. «В 1728 г. Раскольнической конторой, - приводит А.В. Попов характерный пример, - был препровожден в Сенат тяглец Малых Лужников, записной бородач и раскольник Андрей Емельянов за неплатеж бородяных денег в размере 355 р. 50 к. Для заработывания тех денег, контора присудила его в каторжную работу. Сенат объявил ему, что, если он бороду станет брить, то его в каторжную работу не пошлют, но он брить бороду отказался. Тогда ему бороду остригли, но он и после того пребывал в своем упорстве. Сенат решил, что если отправить его на каторжную работу, то он по старости своей работать не сможет, и будет лишь напрасная трата на него казенных кормовых денег. Решено было отправить его на 2 недели в Спасский монастырь для увещеваний. Пробыв 2 недели в монастыре Емельянов не обратился в православие и был предан суду (за упорство в расколе)» [Там же. С. 329]. Исследователь не указывает заключительного приговора, хотя он здесь очевиден: за упорство в расколе обычным наказанием являлась ссылка на поселение в Сибирь. Данный пример интересен тем, что в принятии решения о наказании «преступника» Сенат не только руководствовался всей «строгостью закона», согласно концепции искоренения «неугодного раскола, представлявшего собой антигосударственное зло», но исходил из элементарной экономической целесообразности, стремясь при этом извлекать «благо и пользу» для государства, пополняя ряды каторжных страдальцев. В описанном выше случае «государственный преступник» избежал своей каторжной участи по причине ее нерентабельности для казны! По верной оценке С.П. Мельгунова, «...государство Петра I тщательно охраняло чистоту и неприкосновенность господствующего вероучения и господствующей церковной организации; с такой же тщательностью искоренялось и религиозное разномыслие... которое трактовалось как проявление непокорности государственной власти» [24. С. 28]. Действительно, первый российский император прямо утверждал, что «раскольники есть лютые неприятели, государству и государю непристанно зломыслящие, а поэтому подлежат такой казни, как противники власти» [21. С. 37; 26. С. 50]. Итак, именно за период правления Петра I, в 17161724 гг., сформировалась система «противостарообрядческого» законодательства, жестко регламентирующая все стороны жизни «раскольников». Юридическая процедура его реализации закрепилась окончательно. Главная цель государственно-конфессиональной политики в данной сфере сводилась к максимальной ликвидации старообрядчества как нежелательной социально-религиозной общности, но при этом с извлечением практической (фискальной) выгоды для имперского политического режима. Отмена смертной казни для приверженцев староверческого православия вместе с последующей частичной и формальной легализацией (вынужденная для них запись в двойной подушный оклад) являются в данном случае фрагментами законодательной многоходовой схемы. Все эти меры имели очень мало общего даже с декларируемыми государством (в основном по отношению к иностранцам) принципами веротерпимости, не говоря уже о свободе вероисповеданий. Об этом свидетельствуют появление и активное распространение в старообрядческой общественной среде известного тезиса о «зримом пришествии антихриста», увеличение числа побегов на периферию России и далеко за ее пределы, а также массовые самосожжения («гари») адептов, охватившие множество мест по всей стране.
ПСЗ РИ - 1. СПб., 1830. T. VIII. 1004 с.
Грекулов Е.Ф. Православная инквизиция в России. М. : Наука, 1964. 167 с.
Кауркин Р.В. Русское старообрядчество светское и церковное законодательство, XVII-XVIII вв. М., 2012. 311 с.
Романова Е.В. Массовые самосожжения в старообрядчестве (XVII-XIX века): практика и догматика : автореф. дис.. канд. ист. наук. СПб., 2005. 26 с.
Покровский Н.Н. Антифеодальный протест урало-сибирских крестьян - старообрядцев в XVII в. Новосибирск : Наука, Сиб. отд-ние, 1974. 392 с.
Пулькин М.В. Самосожжения старообрядцев (середина XVII-XIX в.). М. : Рус. фонд содействия образованию и науке, 2013. 336 с.
ПСЗ РИ - 1. СПб., 1830. T. V. 782 с.
ПСЗ РИ. - 1. СПб., 1830. Т. IX. 1016 с.
ПСЗ РИ. - 1. СПб., 1830. T. VII. 933 с.
ПСЗ РИ - 1. СПб., 1830. T. VI. 817 с.
Собрание постановлений по части раскола, изданное Министерством внутренних дел. Лондон : Изд. В. Кельсиева, 1863. Ч. 1. 280 с.
Попов А. Суд и наказания за преступления против веры и нравственности по русскому праву. Казань, 1904. 544 с.
Полное собрание законов Российской империи. Собрание первое. (ПСЗ РИ - 1). СПб. : Напеч. в тип. II отделения собственной его императорского величества канцелярии, 1830. T. IV. 890 с.
Таранец С.В. Старообрядчество в Российской империи (конец XVII - начало XX века) / под ред. Г.В. Боряка. Киев, 2013. Т. 2. 688 с.
Кутузов Б.П. Ошибка русского царя: византийский соблазн. М. : Алгоритм, 2008. 238 с.
Судьба старообрядчества в XX - начале XXI вв.: история и современность: сб. науч. тр. и материалов / отв. ред. и сост. С.В. Таранец. Киев, 2013. Вып. 6. 240 с.
Пути Русской Голгофы : сб. М. : Инф.-изд. отдел Московской Митрополии Русской Православной Старообрядческой Церкви, 2013. 424 с.
Пыжиков А.В. Грани русского раскола : заметки о нашей истории от XVII века до 1917 года. М. : Древлехранилище, 2013. 646 с.
О своей земле, своей вере, настоящем и пережитом в России ХХ-ХХ1 вв. (к изучению биографического и религиозного нарратива) / под ред. Е.Б. Смилянской. М. : Индрик, 2012. 472 с.
Крамер А.В. Раскол русской Церкви в середине XVII в. СПб. : Алетейя, 2014. 368 с.
Крахмальников А.П. Сочинения староверов белокриницкого согласия (1846-62 гг.). М. : Индрик, 2012. 296 с.
Апанасенок А.В. Религиозный традиционализм в провинциальной России: история старообрядческих сообществ Центрального Черноземья в XVII - начале XX века. М. : Инфра-М, 2016. 397 с.
«А мне глаголати неленостно..»: раскол и старообрядчество в современной рефлексии : сб. науч. тр. / сост. и науч. ред. И.А. Едошина. Ко строма : Изд-во Костром. гос. ун-та, 2012. 308 с.
Буровский А.М. Петр Первый - проклятый император. М. : Яуза-Эксмо, 2008. 352 с.
Эйдельман Н.Я. «Революция сверху» в России. М. : Мысль, 1989. 176 с.
Биллигтон Дж. Икона и топор. Опыт истолкования истории русской культуры. М. : Рудомино, 2001. 880 с.
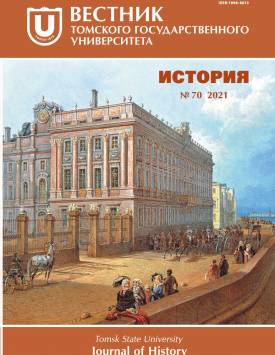

 Вы можете добавить статью
Вы можете добавить статью