Борьба с социальными болезнями в Нижегородском крае на рубеже 1920-1930-х гг.
Раскрываются условия эволюции подхода власти и медицинской общественности к венерическим болезням и туберкулезу как социально-опасным болезням рубежа 1920-1930-х гг. Источниковой базой являются архивные материалы крупнейших общероссийских и нижегородских архивов, местная периодическая печать первых пятилеток. Выявлены причины широкого распространения социальных болезней, рассмотрены предложения о способах борьбы с ними, мероприятия по их преодолению. Освещены взгляды наиболее активных представителей медицинской общественности.
The fight against social diseases in the Nizhny Novgorod region at the turn of the 1920-1930s.pdf Современной историографии присущ устойчивый интерес к проблеме социальных девиаций российского дореволюционного и советского периодов. Об этом, в частности, свидетельствует формирование целых научных школ по изучению советской повседневности [1. С. 5-6]. Вместе с тем, вслед за Н.Б. Лебиной, необходимо признать как отсутствие единства на методологическом уровне, так и недостаточную проработку ряда важнейших проблем регионального характера. К последним относится и вопрос противоборства социальным болезням [2]. Сам термин «социальные болезни» в современной историографии, подобно понятию «повседневность», иногда имеет различное, достаточно расширительное толкование [3. С. 32-33]. Это свидетельствует о росте интереса к данной проблематике не только социальных историков, но и социологов, демографов, экономистов. Как на общероссийском, так и на региональном уровне в центре внимания исследователей в большинстве случаев оказывается или дореволюционная эпоха, или период НЭПа, которые характеризуются всплеском социальных болезней и усилением борьбы с ними [4, 5]. Начало 1930-х гг. в обозначенных работах отмечено сворачиванием активности общественности в целом и ее борьбы с социальными болезнями в частности. Однако данный процесс не был лишен внутренних противоречий, происходил в форме перераспределения функций противоборства социальным недугам от общественности к государству и заслуживает стать предметом самостоятельного исследования и в общесоюзном, и в региональном плане. Актуальность исследования связана с недостаточной разработанностью данной темы в историографии, а также всплеском социальных заболеваний в настоящее время. Цель работы заключается в изучении основных условий распространения венерических заболеваний и туберкулеза, направлений деятельности общественности и власти по борьбе с ними в Нижегородском крае на рубеже 1920-1930-х гг. Вышеназванная цель предполагает конкретные задачи исследования: раскрыть причины массового распространения социальных болезней на территории бывших Нижегородской и Вятской губерний и национальных автономий Поволжья в конце 1920-х - начале 1930-х гг.; проанализировать выработанные мероприятия и конкретные действия по борьбе с социальными болезнями на местах; оценить взаимодействие государственных органов здравоохранения с общественностью и государством; определить усилия государственных органов здравоохранения национальных регионов по излечению общества от венерических заболеваний как социальных болезней; проанализировать состояние борьбы государственных органов здравоохранения с венериз-мом и туберкулезом и действенность реализованных мероприятий; выявить сущностное содержание общих результатов взаимодействия государственных органов здравоохранения и общественности на основе деятельности по борьбе с венерическими заболеваниями и туберкулезом. Новизна исследования состоит в получении новых знаний о проблеме социальных болезней в национальных регионах на рубеже 1920-1930-х гг., конкретно-исторической детерминированности, причинах широкого распространения венерических заболеваний и туберкулеза, разработанных способах борьбы с ними, проведенных мероприятиях. Нижегородский край (с 1932 г. - Горьковский), образованный в 1929 г. на основе Нижегородской области, Чувашской АССР, Марийской и Вотской автономных областей, представлял собой достаточно неоднородный регион в плане медико-санитарного благополучия. При относительно успешном развитии медицинского обеспечения в Нижегородской области, включавшей территории бывших Нижегородской и Вятской губерний, наблюдалось очень медленное восстановление почти полностью разрушенной структуры медицинской помощи в национальных автономиях. Несмотря на это, в рассматриваемый период партией и правительством регулярно ставились все новые перспективные задачи в сфере здравоохранения, явно опережавшие его фактическое развитие. Окончание борьбы с массовыми эпидемиями к середине 1920-х гг. ознаменовало перенесение основных усилий на искоренение социальных болезней (в первую очередь сифилиса и туберкулеза). Традиционно наиболее тяжелая Борьба с социальными болезнями в Нижегородском крае на рубеже 1920-1930-х гг. 27 ситуация по распространенности социальных недугов в Нижегородском крае складывалась в Марийской и Вотской автономных областях. Положение усугублялось последствиями военного времени, голода, хозяйственной разрухи. В Центральной коллегии Российского общества Красного Креста констатировали: «Обе области делают попытку собственными силами наладить работу диспансеров, но средства их так незначительны, что нельзя рассчитывать на развертывание работы...» [6. Л. 11]. Другая трудность состояла в повышении общего уровня социального благополучия, культуры и санитарной грамотности. В связи с этим в центральных органах медицинского управления возникали опасения относительно возможности справиться с социальными болезнями на местах собственными средствами: «...благодаря общей культурной отсталости не могут самостоятельно бороться с такими заболеваниями, как туберкулез, требующим прежде всего чистоты, ухода, санитарной гигиены, социальной помощи населению» [Там же. Л. 13]. Определенную негативную роль играло массовое пьянство. Органами госбезопасности в 1920-х гг. составлялись отчеты о развитии самогоноварения и пьянства в различных регионах страны. В отчете за 1923 г. указывалось: «В Марийской области ежедневно потребляется 400 пудов хлеба, и пьянство здесь обостряет существующий продовольственный кризис» [7. Л. 85]. На протяжении 1920-х гг. недостаток финансовых, материальных, кадровых и организационных ресурсов не позволял осуществлять успешную борьбу с социальными болезнями не только в национальных районах, но даже в относительно благополучных населенных пунктах Нижегородской области. Кампании, периодически проводившиеся в виде туберкулезных трехднев-ников, недель по борьбе с венеризмом и проституцией, публичных лекций, демонстраций, кружечных сборов общественных средств на устройство специальных диспансеров, санаториев, столовых и иных учреждений, вызывали определенный отклик у населения, способствовали вынесению обсуждения проблемы на властный уровень, но приносили немного практической пользы, кардинально не меняли положения дел к лучшему. Так, к 1930 г. в ряде деревень Нижегородской области до 90% населения было заражено бытовым сифилисом [8. Л. 21]. Упрочение социально-экономического положения государства к началу 1930-х гг. позволило перейти к разработке и осуществлению планов первых пятилеток, а также перестроить всю работу отечественного здравоохранения также в соответствии с пятилетними планами. Важная роль в них отводилась борьбе с социальными болезнями. Так, план развития здравоохранения в Марийской автономии, признавая «отсталость области по сравнению с другими районами», предусматривал увеличение в два раза числа венерологических диспансеров и отрядов, коек в туберкулезных диспансерах, открытие новых венерологических и туберкулезных пунктов [9]. Причинами успеха противодействия социальным болезням стали: целенаправленная государственная политика в сфере здравоохранения и социального обеспечения, направленная на развитие сети лечебных и профилактических учреждений; реформирование системы правового регулирования; широкая поддержка общественности, зачастую выступавшей инициатором преобразований; сочетание борьбы с социальными болезнями с искоренением иных социальных проблем -неграмотности, запущенности жилищ, антисанитарии на производстве; расширение сети учебных заведений, подготовка значительного числа врачей-специалистов, в первую очередь в национальных регионах. Во-первых, Нижегородский край в 1930-е гг. являлся одним из передовых субъектов РСФСР по темпам количественного прироста лечебных и профилактических учреждений, санаторных заведений и коек в них. В Нижегородской области появились туберкулезные диспансеры в самом Нижнем Новгороде и городах Канавино, Сормово, Выкса и Арзамас. В Чувашской АССР в исследуемый период открылись специальные туберкулезные кабинеты при больницах в Чебоксарах и Ядрине, кожно-венерологические диспансеры со стационарами в Цивильске и Алатыре, венерологические пункты в Канаше, Ядрине и Батыреве, отделения в Чебоксарской, Мариинско-Посадской и Ядринской больницах, а также в селах Акрамове, Порецком, Б.-Сундыре [10. С. 63]. В Марийской области были созданы два туберкулезных и венерологический диспансер в Йошкар-Оле и венерологические точки в Козьмодемьянском, Оршанском и Сернурском районах. Во-вторых, реформирование системы правового регулирования на протяжении исследуемого периода было направлено на устранение дисбаланса в оказании медицинской помощи различным группам населения. Решение данной проблемы было закреплено в Конституции СССР 1936 г., которая установила юридическое равенство всех перед законом, в том числе в сфере здравоохранения [11. Ст. 120]. С одной стороны, это ознаменовало отход от политики правовых ограничений на получение социальных благ со стороны государства лицами, ранее считавшимися представителями «бывших» социальных групп. С другой стороны, это был шаг в продолжение политики приближения медицинской помощи к работникам предприятий, проведение которой связано с принятием Постановления ЦК ВКП(б) «О медицинском обслуживании рабочих и крестьян» от 18 декабря 1929 г. В-третьих, широкая поддержка общественности, зачастую выступавшей инициатором преобразований в медицинской сфере, стала залогом успеха в преодолении социальных болезней. Важнейшую роль в данном аспекте играла ориентированность государственных и партийных органов на общественный диалог, вовлечение широких масс городского рабочего и крестьянского населения не только в эпизодические кампании по борьбе с пьянством, алкоголизмом, венериз-мом, проституцией, детской смертностью и др. [12], но и на постоянную совместную работу с региональными и местными отделениями Российского общества Красного Креста, профессиональных союзов, женских отделов. Существенную поддержку общественность по- А.Н. Кежутин 28 лучала от подразделений отделов здравоохранения республиканских советов. В-четвертых, успешное завершение борьбы с социальными болезнями стало возможным после снижения остроты иных застарелых проблем - повышения уровня грамотности, установления санитарного надзора в жилищной сфере и на производстве. Как известно, до революционных преобразований доля грамотных в населении Европейской части России составляла около 30%. В то же время среди чувашей около 18% мужчин и 4% женщин были грамотными, только 0,5% грамотных чувашей имели образование выше начального [13. С. 236]. В среде Марийского населения показатели были аналогичными. К концу рассматриваемого периода ситуация значительно улучшилась, доля неграмотных не превышала трети населения национальных регионов. Одним из важнейших результатов данной политики стало повышение уровня общей и санитарной грамотности, что положительно повлияло на сокращение темпов распространения социальных болезней. К началу 1930-х гг. удалось наладить эффективную деятельность санитарного надзора на промышленных предприятиях. Крупнейшими промышленными центрами Нижегородского края были Нижний Новгород и Ижевск, которые также были лидерами по объему финансовых затрат на социальное страхование рабочих, создание безопасных условий труда. Важнейшим событием в данной сфере стало утверждение на заводах новой постоянной службы -специальных отделов охраны труда и техники безопасности - и разработка нормативной базы для их успешной работы на основе типового «Положения об отделе техники безопасности и промышленной санитарии на предприятиях» от 16 января 1933 г. [14. С. 57]. В-пятых, создание сети самостоятельных медицинских институтов в начале 1930-х гг. вместо разрозненных медицинских факультетов небольшого числа классических университетов позволило вплотную подойти к широкой подготовке врачей-специалистов, фтизиатров, венерологов и наркологов как главных проводников и практических реализаторов идей широкого санитарного просвещения и массового вовлечения населения в борьбу с социальными болезнями. Приток национальных кадров в медицинские вузы Нижнего Новгорода, Ижевска, Казани стал возможен в результате проведения политики ликвидации неграмотности и повышенного внимания власти и общественности к особенностям национального строительства [15. С. 5-6]. Также большая работа была проведена по переподготовке и повышению квалификации специалистов с высшим медицинским образованием. Вместе с тем проведение в жизнь плановых мероприятий выявило ряд новых препятствий. Там, где не особенно остро ощущался недостаток ресурсов, проблемой становилось их нерациональное и неэффективное использование. Анализируя выполнение планов в Чувашии, врач И. Абрамов отмечал: «...система здравоохранения Чувашии далеко не использовала те возможности, какие предоставлены ей партией и советской властью для улучшения дела здравоохранения» [16. С. 112]. Основными причинами, по мнению медика, выступали негибкость системы здравоохранения, отсутствие должного руководства со стороны Наркомздрава, левацкое настроение об отмирании врача. Результатами становились массовая заболеваемость, низкое качество обслуживания в медицинских учреждениях, неиспользование сметных ассигнований и недостаточная реализация ведомственных постановлений [Там же]. Наряду с этим плановость развития позволила перенести борьбу с социальными болезнями из области частной инициативы и благотворительности в сферу государственной ответственности, обеспечить ее количественный и качественный рост. Врач Н.Ф. Лопатин, анализируя результаты первой пятилетки в Марий Эл, писал: «Благодаря быстрому росту хозяйства и культуры МАО созданы все необходимые предпосылки для успешной борьбы с социальными болезнями» [17. С. 48]. Возможности получить медицинскую помощь в национальных регионах были достаточно расширены путем строительства новых венерологических и туберкулезных диспансеров, амбулаторий, постоянным увеличением количества коек в них, а также организацией курортов. Государственное содействие позволило активизировать свою деятельность крупнейшей в стране общественно-медицинской организации - Российскому обществу Красного Креста, получившему доступ к проведению широкого спектра профилактических мероприятий в организациях, учреждениях, на предприятиях и на транспорте [18. Л. 90]. С другой стороны, итоги борьбы с социальными болезнями отличались крайней неравномерностью в зависимости от изначального уровня развития медицинской организации на местах. В то время как в Горьковской области к 1936 г. имелось 78 здравпунктов, в Марий Эл - 13, в Удмуртии - 6, в Чувашии - только 5 [19. Л. 47]. Стационарных туберкулезных и венерологических коек в Горьковской области было соответственно 187 и 225, в Удмуртии - 27 и 147, в Марий Эл - 22 и 57, в Чувашии - 20 и 50 [Там же. Л. 44]. Окончательное преодоление массовости социальных болезней предполагало целенаправленную совместную работу государственных и общественных организаций под руководством первых. Перелом в противоборстве народным недугам в Нижегородском крае, как и в других центральных регионах страны, был достигнут лишь во второй половине 1930-х гг. [20. Л. 72]. Однако деятельность по снижению их показателей до социально допустимого уровня растянулась еще на два десятилетия из-за событий Великой Отечественной войны и послевоенного времени. Таким образом, борьба с социальными болезнями в Нижегородском крае, преодолев в 1920-е гг. период общественной «кампанейщины», вступила на рубеже 1920-1930-х гг. в стадию планомерного развития. Данный процесс протекал неравномерно, наиболее быстро в Нижегородской и Кировской областях и медленно - в Марийской и Вотской национальных автономиях. Внутреннее противоречие заключалось в нежелании власти учитывать низкий культурно -бытовой и санитарный уровень основной части населения края, острую недостаточность всех видов ресур- Борьба с социальными болезнями в Нижегородском крае на рубеже 1920-1930-х гг. 29 сов, необходимых для реализации грандиозных пла- ориентиров на будущее, чем реальных программ дея-нов, выполнявших в исследуемый период скорее роль тельности.
Ключевые слова
туберкулез,
сифилис,
социальные болезни,
Нижегородский крайАвторы
| Кежутин Андрей Николаевич | Приволжский исследовательский медицинский университет | кандидат исторических наук, доцент | kezhutin@rambler.ru |
Всего: 1
Ссылки
ГАРФ. Ф. Р-9226. Оп. 1. Д. 53.
ЦАНО. Ф. Р-2533. Оп. 7. Д. 23.
Лопатин Н.Ф. План здравоохранения МАО во втором пятилетии // МАО (Марийская автономная область). 1933.№ 1. С. 45-67.
Государственный общественно-политический архив Нижегородской области (ГОПА НО). Ф. Р-2. Оп. 1. Д. 513.
Абрамов И. Состояние здравоохранения Чувашии и его дальнейшие задачи // Социалистическое строительство Ч.А.С.С.Р. 1934.№ 3. С.111-117.
Латыпов Х.Н. Здравоохранение Татарской АССР к XX-летию ее существования // Казанский медицинский журнал. 1940.№ 3. С. 3-6.
Краткая история Чувашии и чувашского народа. Чебоксары : Чуваш. кн. изд-во, 2019. 446 с.
Кежутин А.Н. Охрана труда на заводах Приокского горного округа в 1920-1935 гг.: от общественных инициатив к государственному регулированию // Общество: философия, история, культура. 2020.№ 2. С. 54-57.
Кежутин А.Н. Отечественная медицинская общественность vs социальные болезни (конец XIX - первая четверть XX вв.). Н. Новгород : Изд-во ПИМУ, 2019. 220 с.
Конституция (Основной закон) Союза Советских Социалистических Республик : с изм. и доп., принятыми Верховным Советом СССР 25 февраля 1947 г. по докладу Редакционной комиссии. Горький : ОГИЗ, 1947. 32 с.
Кежутин А.Н. Реформирование отечественного здравоохранения в 1920-1930-е годы на примере Чувашской АССР (критика историографических источников) // Исторический поиск. 2020. Т. 1,.№ 3. С. 62-67. DOI: 10.47026/2712-9454-2020-1-3-62-67.
Центральный архив Нижегородской области (ЦАНО). Ф. Р-102. Оп. 1. Д. 2256.
Контрольные цифры строительства хозяйства и культуры МАО на 1929-30 г. Здравоохранение // Марий Эл. 1929.№ 10. С. 44-45.
Государственный архив Российской Федерации (ГАРФ). Ф. Р-3341. Оп. 6. Д. 195.
Российский государственный архив социально-политической истории (РГАСПИ). Ф. Р-151. Оп. 1. Д. 41.
Кежутин А.Н. Борьба медицинской общественности с социальными болезнями в Российской империи на рубеже XIX-XX вв. (на материа лах общероссийской медицинской периодики) : дис.. канд. ист. наук : 07.00.02. Н. Новгород, 2013. 231 с.
Рывкина И.В. Социальные болезни современной России : публицистическое исследование. М., 2011. 244 с.
Ерендеева А.Н. Медицинские учреждения Самарской губернии в противодействии социальным болезням в годы НЭПа: 1921-1929 : автореф. дис.. канд. ист. наук : 07.00.00. Саратов, 2013. 23 с.
Грехов А.В., Кежутин А.Н. Понятие «социальная болезнь» в междисциплинарном контексте // Вестник Нижегородского университета им. Н.И. Лобачевского. Сер. Социальные науки. 2014. № 2 (34). С. 134-137.
Лебина Н.Б. Советская повседневность: нормы и аномалии. От военного коммунизма к большому стилю. М. : Новое литературное обозре ние, 2016. 488 с.
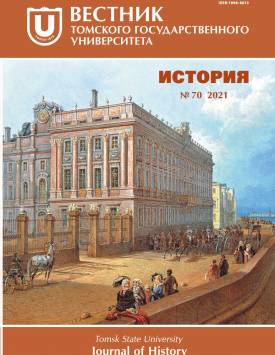

 Вы можете добавить статью
Вы можете добавить статью