Калачеевская пещера на Среднем Дону: прочтение сакрального топоса в контексте Виа Долороза
Раскрывается семантическая нагрузка сакрального пространства Калачеевской пещеры Воронежской области. Выдвигается и обосновывается гипотеза об отражении в структуре Калачеевской пещеры сакрального пространства Иерусалима, где ходы пещеры - это улицы города, а отдельные ее помещения - здания. Особо подчеркиваются планиграфические и символические параллели улицы Виа Долороза в Иерусалиме с центральным и северным отрезками калачеевских пещерных лабиринтов.
Kalacheevskaya cave in the Middle Don: interpretation of sacred topos in the context of the Via Dolorosa.pdf Калачеевская культовая пещера, находящаяся в Подонье, на территории Воронежской области, является одной из самых протяженных на территории европейской части России. Суммарная длина ее ходов в настоящее время составляет около 892 м, лишь на несколько десятков метров уступая самому обширному подземному комплексу - Белогорской пещере с ее 985 м. Вместе с тем, в отличие от Белогорской пещеры, о Калачеевском подземелье фактически не сохранилось письменной информации, что делает актуальными полевые исследования данного комплекса с поиском архитектурных параллелей. В связи с этим неслучайно, что первым исследователем Калачеевской пещеры стал археолог-любитель, художник Д.М. Струков. Он, посетив подземелье в конце XIX в., еще застал живущего здесь крестьянина, который, по его словам, «выдавал свои труды по строительству пещер и 20-летние труды своего предшественника, крестьянина из могилевской губернии, за начало устроения пещерных лабиринтов» [1]. Надо заметить, что Струков с мнением крестьянина не согласился, так как архитектурный облик пещеры напомнил ему увиденные на Востоке более древние христианские подземелья. На его взгляд, крестьяне лишь дорабатывали памятник, начало которому было положено во времена апостольские. Конечно же, данная Струковым датировка памятника не нашла понимания среди научной общественности, познакомившейся с ней по докладу М.П. Трунова на XII Археологическом съезде в 1902 г. [2]. После Д.М. Струкова Калачеевская пещера долгое время не попадала в целенаправленное поле изучения. Лишь косвенным образом она фигурировала в исследованиях ученых естественнонаучного профиля. В 1903 г. «меловой склон с вырытыми в нем пещерами» в слободе Калач был осмотрен российским геоботаником В.А. Дубянским. Им была сделана соответствующая фотография с приложением описания произрастающей здесь флоры [3]. 31 января 1956 г. пещера была осмотрена специалистом по рукокрылым П.П. Стрелковым на предмет обитания в подземелье летучих мышей. Им были обнаружены 4 водяные ночницы и 1 ушан [4]. С 70-х гг. ХХ в. памятник начал изучаться Воронежской секцией спелеологии. Спелеологами составляется план пещеры, делается ее общее описание, обращается внимание на наличие граффити. Председатель секции спелеологии Э.В. Гольянов посвятил несколько строк описанию этого памятника в статье «Донские пещеры», вышедшей в свет в 1983 г. [5]. В октябре 1997 г. Калачеевская пещера была обследована коллективом ЗАО «Инженерная геология исторических территорий» в составе представителей: О.Е. Вязкова, В.В. Пономарев, О.В. Телин, под руководством доктора геолого-минералогических наук профессора Е.М. Пашкина. Работы проводились по заказу администрации Калачеевкого района на предмет возможности проведения здесь экскурсионной деятельности. По результатам работы был написан рукописный отчет, в котором отмечались опасные для посещения участки пещеры, высказывалось мнение о функциональном предназначении различных частей подземелья [6]. Так же, как и Струков, подрядчики сделали предположение о наличии различных этапов создания памятника, основываясь на анализе структуры пространственного расположения ходов пещеры. Кроме того, было отмечено, что поверхности стен, основания и кровли выработок залегают по почти параллельным субвертикальным и горизонтальным тектоническим трещинам, что значительно облегчало сооружение памятника. Надо заметить, что работающая над инженерно-геологическим мониторингом Ка-лачеевской пещеры О.Е. Вязкова написала ряд статей, поднимающих проблемы сохранения, реставрации и использования меловых пещерных храмов Воронежской области [7, 8]. В них уделялось несколько абзацев и рассматриваемому нами памятнику. С осени 1999 г. пещера исследуется В.В. Степки-ным. Им составляются более подробные планы некоторых помещений, описываются архитектурные детали и граффити подземелья. Данная работа позволила выделить в южной системе ходов пещерный храм и внести соответствующие поправки в общий план памятника, составленный Воронежской секцией спелеологии [9, 10]. Второй пещерный храм был выявлен в структуре подземных лабиринтов в ходе совместного обследования памятника в 2007 г. Н.Е. Гайдуковым и В.В. Степкиным. Результатам данного обследования Калачеевская пещера на Среднем Дону: прочтение сакрального топоса в контексте Виа Долороза 45 была посвящена отдельная статья [11]. В ней подробно описываются храмы, Н.Е. Гайдуковым высказывается гипотеза об их возникновении в XIII-XIV вв. на основе анализа литургического устройства, проводятся параллели с подземными культовыми архитектурными сооружениями других территорий. В 2013 г. под руководством А.А. Гунько в Калаче-евской пещере проводится топосъемка объекта. В результате появляется новый, более точный план Кала-чеевского пещерного комплекса (рис. 1), делается детальное морфометрическое описание памятника, выявляется его суммарная протяженность - 892 м [12]. ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЛАЧЕЕВСКИЙ РАЙОН 14? КАЛАЧЕЕВСКИЙ ПЕЩЕРНЫЙ КОМПЛЕКС СВОДНЫЙ ПЛАН верхний прус Съемка: Гунько А.А., Степкин В.В., Гунько А.П., 2012 г. Рис. 1. План Калачеевской пещеры на Среднем Дону. Топографическая съемка А.А. Гунько, 2012. Наложение номеров станций Виа Долороза - В.В. Степкин, 2018 г. Значимый вклад в изучение истории Калачеевской пещеры был внесен А.М. Бойко и Е.С. Свиридовой. В 2015-2016 гг. выходят в свет их совместные статьи, посвященные воспоминаниям местных жителей о подземелье. В них собран богатый материал о последнем этапе функционирования подземелья в ХХ в., приводятся местные легенды [13, 14]. Вместе с тем до настоящего времени остается открытым вопрос как о первоначальном этапе строительства комплекса, так и о семантике его лабиринтов. Поиск ответов на эти взаимосвязанные вопросы поможет не только понять предназначение отдельных составляющих Калачеевской пещеры, но и наметить пути выявления семантической составляющей других культовых пещер на Русской равнине. Для решения задачи выявления символической нагрузки лабиринтов Калачеевской пещеры применим структурно-семантический метод, способствующий выявлению семантики отдельных архитектурных элементов пещер в структуре подземного комплекса. Также историко-системный подход поможет понять специфику рассматриваемого объекта на историческом фоне доминирующей культуры. В качестве гипотезы исследования выдвинем тезис об отражении в структуре Калачеевской пещеры сакрального пространства Иерусалима, где ходы пещеры - это улицы города, а отдельные его помещения - здания. Выдвижение данной гипотезы и ее обоснование составляют новизну работы. На возможность постановки и решения данной проблематики указывает существующий прецедент в пещерах Дивногорского и Усть-Медведицкого монастырей в Подонье [15, 16]. Так, в урочище Малые Дивы не позднее XVII в. была вырублена в мелу галерея вокруг пещерного храма, символически отражающая путь Иисуса Христа к месту распятия - Виа Долороза (Via Dolorosa), Путь Скорби, Крестный Путь. Крестный Путь (Via Cruris) был воссоздан и в Усть-Медведицком монастыре игуменьей Арсенией (Себряковой) в последней четверти XIX в. Однако надо заметить, что воспроизведение Виа Долороза как в Дивногорских, так /и в Усть-Медведицких пещерах имело в целом символический характер повторения станций (уловных остановок Крестного Пути) при сходстве отдельных архитектурных составляющих. В Калачеевских же пещерах, на наш взгляд, мы встречаемся не только с символическим характером воспроизведения улицы Виа Долороза в Иерусалиме, но и с планиграфиче-ским, в центральной и северной частях подземного лабиринта. Если наша гипотеза верна, то необходимо найти отправную точку структурно-семантического анализа. В Дивногорском монастыре такой точкой стало прочтение станции Голгофа, выраженной повышением и понижением пещерного хода с количеством ступеней, соответствующим иерусалимскому прототипу в храме Гроба Господня [15]. В Калачеевской пещере такой точкой может стать «Колонна бичевания», читаемая В.В. Степкин 46 в северо-восточной части лабиринта и относящаяся к второй станции, символической остановке на Пути Скорби. Посетивший Иерусалим в конце XIX в. протоиерей А. Ковальский писал о ней: «2-я стация - место бичевания и место, где Спаситель взял Свой Крест, чтобы нести на Голгофу; здесь устроена капелла бичевания: Ecce homo» [17. С. 222]. Ecce homo - «се Человек», так звучали слова Понтия Пилата о Христе во время суда. Калачеевская «Колона бичевания» представляет собой частично вырезанный из меловой породы объект с ярко выраженным основанием и капителью (рис. 2, б). Вверху срединной части мы видим восьмилепестковую розетку, внизу - равносторонний крест, заключенный в квадрат. Согласно сложившемуся культу Пути Скорби, именно на второй станции на Христа возложили крест, и отсюда он начал путь к искуплению грехов всего мира, путь к преодолению смерти, к вечности. Символика квадрата в этом контексте может читаться как отражение земного пространства нашего мира с четырьмя основными направлениями структурирования: север, юг, восток, запад, или - вперед, назад, влево, вправо. И если квадрат, находящийся внизу колонны, - это символ земного мира, то круг, находящийся в верхней части колонны, - символ небесного мира, вечности. Отсутствие у круга конца и начала указывает на вневременной характер бытия. Число «восемь» использовалось в христианской архитектуре как символ вечности. Неслучайно «храм Гроба Господня виделся средневековым архитекторам именно в виде восьмиугольника» [18. C. 4]. Восьмиугольный купол венчает в настоящее время и капеллу бичевания в Иерусалиме. а б Рис. 2. Пилястры в Калачеевской пещере с вырезанными на них восьмилипестковыми розетками и пальмовыми ветвями; б - «Колонна бичевания» в Калачеевской пещере Идея начала символического пути к победе над смертью, к вечности подчеркивается находящимися неподалеку от калачеевской «Колоны бичевания» двумя спаренными пилястрами с вырезанными на них восьмилепестковыми розетками и пальмовыми ветвями (рис. 2, а). Эти пилястры расположены у выхода из часовни. Их можно рассматривать как две колонны -символ врат, символ начала пути, итог которого - воскресение, победа над смертью. Именно эту идею отражают пальмовые ветви в христианской культуре, встречающиеся еще на стенах римских катакомб [19. С. 147, 231]. Примечательно, что в контексте архитектурной символики колонн-врат была выстроена арка в иерусалимском прототипе. Н. Гусев так писал о ней, идя по Виа Долороза в 1900 г.: «Через несколько шагов перекинута через улицу арка. По преданию, она находится на том самом месте, куда Пилат вывел Божественного Страдальца, облитого кровью, в багрянице поругания и в терновом венце и, показав Его народу, воскликнул: “Се человек!” Эта арка так и носит наименование “Се человек!|” За аркой вскоре показывают место бичевания Спасителя...» [20. С. 354]. Таким образом, мы вычленили на калачевском Пути Скорби символические первые две станции, обращаясь к письменным источникам, относящимся к предполагаемой верхней временной границе создания пещерного памятника. Возвратимся к воспоминаниям А. Ковальского и рассмотрим в целом иерусалимский Крестный Путь для идентификации остальных символических остановок в Калачеевской пещере. Коваль- Калачеевская пещера на Среднем Дону: прочтение сакрального топоса в контексте Виа Долороза 47 ский писал: «Преторий Пилата составляет первую станцию; 2-я стация - место бичевания и место, где Спаситель взял Свой Крест, чтобы нести на Голгофу, здесь устроена капелла бичевания: Ecce homo; 3-я станция - место первого падения Спасителя с Крестом; 4-я -место встречи Спасителя с Пречистою Своею Матерью; 5-я - место, откуда Симон Киринейский начал помогать нести Крест; 6-я - дом Вероники. Когда она увидела из окна Спасителя, то, схватив полотенце, выбежала и отерла пот и кровь с Его лика, который отпечатлелся затем на плате. 7-я станция - Спаситель другой раз падает с Крестом... 8-я станция находится за судными воротами, составляющими границу города; здесь был произнесен декрет, осуждающий Его на смерть. 9-я - место третьего падения с Крестом, в двадцати шагах от храма Гроба Господня, 10-я - место, где с Него были сняты одежды и где он был напоен оцтом, 11-я - пригвождение к Кресту, 12-я - где Он вознесен на Крест и умер. 13-я - где Он был принят на руки Иосифа и Никодима, 14-я - место положения во Гроб» [17. С. 222]. Рассмотрев в целом Виа Долороза Иерусалима, поставим задачу вычленения оставшихся остановок Пути Скорби в Калачеевской пещере. Для этого, опираясь на нашу гипотезу совпадения ходов пещеры с улицами Иерусалима, обратимся к картографическому материалу. В Оксфордском археологическом путеводителе по Святой Земле мы видим нумерацию станций на улице Виа Долороза (рис. 3) [21. P. 40]. Надо заметить, что расположение улиц в районе Пути Скорби в этом путеводителе совпадает с изображенными на плане «Иерусалима и его ближайших окрестностей по Ван-де-Вельду, Тоблеру, Вильсону и Шику», опубликованном в Санкт-Петербурге в 1878 г. [22], и с другими картографическими материалами того времени на русском и иностранном языках1. Если мы будем двигаться по Виа Долороза Калаче-евской пещеры от первой и второй станции в западном направлении, то вскоре дойдем до развилки с пересечением коридора, идущего с севера на юг, - современная улица Эль-Вад в Иерусалиме. В шести метрах к северу от развилки в мелу вырезан шестиконечный крест с максимальным размером 1 м на 0,5 м. В районе рассматриваемой развилки располагаются третья и четвертая станции Виа Долороза. Как мы уже отмечали, третья станция - это «место первого падения Спасителя с Крестом», можно предположить, что вырезанный в мелу крест отображает именно эту остановку. Пятая станция в Калачеевской пещере находится в районе следующего перекрестка, откуда Виа Долороза вновь продолжает идти в западном направлении. При этом параллельно данному отрезку улицы в Иерусалиме идет в настоящее время улица а-Мидраша, соединяющаяся с ней переулком Эль-Бейрам в районе шестой станции2. Данное пространственное расположение улиц калькируется системой ходов в Калачеевской пещере. После пересечения с улицей Бейт а-Бад на Виа Долороза мы наблюдаем седьмую и восьмую станции. В Калачеевской пещере они также могли повторяться в этом дублированном пространстве. Далее создатели Калачеевской пещеры проявили творчество, связанное с тем, что в иерусалимской традиции станции с десятой по четырнадцатую находятся внутри храма Воскресения Христова. Понятно, что о создании аналогичного столь сложного проекта в пещере речь идти не могла. Какое решение устроители калачеевского подземелья нашли далее для отражения в сакральном пространстве станций Виа Долороза, выяснить доподлинно не представляется возможным. Мы можем лишь выдвинуть предположение относительно локализации в Ка-лачеевской пещере двенадцатой и четырнадцатой остановок Пути Скорби. Двенадцатая станция - Голгофа, -на наш взгляд, хорошо читается в круговом поднимающемся и спускающемся ходе, рядом с восьмой станцией. На нее ведет пять ступеней. Характер обработки стен в районе Голгофы носит грубый, невыравненный характер. На их поверхности видны следы рубящего орудия труда. Это может свидетельствовать как о незавершенности обустройства данной станции, так и о творческом замысле выделения таким образом есте- В.В. Степкин 48 ственного характера скальной породы иерусалимской Голгофы в отличие от других станций, расположенных в городе. Четырнадцатая станция может быть прочитана в отдельной часовне, к северу от третьей остановки. Здесь у восточной стены вырублен уступ, который может читаться как символическое погребальное ложе. Рассматривая перенос Виа Долороза в сакральное пространство Калачеевской пещеры, надо заметить, что в иерусалимском прототипе большинство станций маркируется лишь прибитой табличкой с номером остановки. Это, в свою очередь, делает затруднительной иную, кроме планиграфической, идентификацию скопированных в калачеевском подземелье символических остановок Крестного пути. Исключение здесь могут представлять вторая станция, маркируемая колонной, третья станция, выделенная крестом, и двенадцатая станция, подчеркнутая перепадом высот. Таким образом, сопоставив систему ходов в центральной и северной частях Калачеевского лабиринта с иерусалимской улицей Виа Долороза, мы нашли очевидное пространственное соответствие как по сторонам света, так и по пропорциональному соотношению расположения улиц-ходов. Остается теперь выяснить хронологический отрезок создания данного участка пещеры. Верхняя граница, как мы уже отмечали, - это XIX в. В это время пещера уже существовала, и картографический материал данного столетия помог нам в определении ее символической нагрузки. Определение нижней границы является задачей более сложной. Если говорить о зарождении традиции Виа Долороза в Иерусалиме, то она относится к XIV столетию и связана с деятельностью ордена францисканцев [21. P. 37]. Воплощение иерусалимского сакрального топоса в русской архитектуре получает развитие с XVI-XVII вв. [23]. «Необходимо отметить также наличие изначального притока населения в Калач из Правобережной Украины, входившей в третьей четверти XVIII в. в состав Речи Посполитой» [24. С. 17-18]. Это немаловажный фактор, если учитывать, что перенесение в Россию иерусалимского топоса проходило в рамках вестернизации [25. С. 203]. В XVII в. строятся кальварии, скульптурные композиции на сюжеты страданий Христа, в Польше (Зебжидовская и Вейхеровская) и в Литве (Вильнюсская и Жямайтийская). В XVIII в. кальварии создаются в Белоруссии (Минская и Мядельская). Это могло оказать косвенное влияние на ментальность мигрантов в Калач с данных территорий. Не будем забывать также, что, по словам Струкова, в XIX в. в Кала-чеевской пещере трудился крестьянин из Могилевской губернии, вошедшей в состав России после раздела Речи Посполитой. Не исключено влияние на калачеев-цев и отечественного опыта построения Нового Иерусалима под Москвой в XVII в. Но в любом случае это лишь исторический фон ментальности, ведь устроители лабиринтов Калачеевской пещеры копировали непосредственно сакральное пространство Иерусалима. Наблюдать сакральное пространство Иерусалима и загореться желанием его воспроизведения на родине можно было во время паломничества. О паломничестве в Иерусалим жителей Воронежской епархии Ф. Никонов писал в середине XIX в. следующее: «Немного найдется в епархии селений, где не было бы ни одного человека, совершившего путешествие в Иерусалим. Пилигримы собираются из разных селений большей частью весною или в летнее время и в августе стараются пуститься в Черное море из Севастопольской, как было до войны, или Одесской пристани. Путь их обыкновенно лежит на Константинополь и Афонскую гору, где богомольцы считают долгом посетить несколько монастырей. Отплывши отсюда, они к берегам Палестины пристают в Яффе (древней Иоппии), страстную седьмицу и особенно день Воскресенья Господня стараются проводить в самых местах, освященных великими событиями, совершившимися в сии дни - в Иерусалимских храмах, и, поклонившись всем Иерусалимским и окрестным святыням, а также посетив священные места у Иордана, направляются к горе Синаю. Только немногие возвращаются в отечество прямо из Палестины. Но бывшие в монастырях Синая опять заходят в Иерусалим и тогда уже из Яффы отплывают в Россию. Путешествия сии обыкновенно продолжались от 2 до 3 лет. Но с открытием пароходных сообщений, время это сократилось более чем вдвое... Почти все простые богомольцы приносят с собой в дома разные священные вещи.» [26. С. 326-327]. Могли приносить пилигримы с собой открытки и топографические карты с изображением Иерусалима. При этом надо заметить, что калачеевский останец весьма напоминает по внешнему виду иерусалимскую возвышенность, на которой был построен Старый Город. Но почему для переноса сюда было выбрано не наземное, как в Иерусалиме, а подземное пространство? Здесь могло быть несколько причин. Подземное строительство не требовало таких трудозатрат, умений и согласований, как наземное. Кроме того, подземный, более скрытый, труд был предпочтительнее в рамках народной сакрализации поселенческой округи. Ведь сакрализация объектов, помимо храмового пространства, не всегда находила понимание среди властей различного уровня [27, 28]. Надо заметить, что в контексте калькирования в Калаче сакрального пространства Иерусалима по-новому можно взглянуть и на расположенный в 1,5 км к северо-западу от пещер Воскресенский храм, построенный в 1818 г. на месте ранее созданного в 1775 г. Престольный праздник этого храма был в память освящения иерусалимского Воскресенского храма. В настоящее время Воскресенский храм г. Калач недействующий. Местному краеведу Е.С. Свиридовой удалось собрать множество легенд о засыпанных подземных ходах, идущих от этого храма к Калачеевской пещере [29]. Если говорить не об историческом фоне, когда могла была быть построена в Калачеевской пещере Виа Долороза, а о боле точной датировке, то здесь нам видится следующее перспективное направление исследований. Во-первых, это изучение архитектурной истории улиц, сопутствующих Виа Долороза и воспроизведенных в Калачеевской пещере. Помимо датирующего элемента, это также поможет понять семантику других ходов пещеры, за пределами Пути Скорби. Возможно, например, прочтение в этом контексте Калачеевская пещера на Среднем Дону: прочтение сакрального топоса в контексте Виа Долороза 49 углублений в нижней части стены западной части пещеры как моделирования водных источников. Во-вторых, перспективным видится проведение археологических исследований засыпанных частей подземелья, в ходе которых могут быть обнаружены датирующие артефакты. В-третьих, немаловажно сопоставить рассмотренные нами в статье северную и центральную части ходов пещеры с южной системой лабиринтов при наличии возможности ее датирования естественнонаучными методами по присутствующей органике в заливке пола одного из помещений. Переходя к выводам рассмотрения семантики сакрального пространства Калачеевской пещеры, следует отметить подтверждение выдвинутой гипотезы об отражении здесь Виа Долороза - символического Пути Скорби Христа в Иерусалиме. Планиграфия Крестного Пути как в Иерусалиме, так и в Калачеевской пещере носит идентичный характер, символизм которого усиливают настенные граффити. Учитывая, что перед этим нами была решена задача прочтения Виа Долороза в пещерах донского Дивногорского монастыря [15], мы можем говорить о разработке нового методологического подхода, который может применяться для прочтения сакрального пространства других культовых пещер Европейской части России XVII-XIX вв. Его основу составляет обращение к картографическому материалу и такому жанру паломнической литературы, как хождения, для выявления на родине пилигримов прототипов построения сакрального пространства в Святой Земле. Помимо методологического аспекта исследования, необходимо подчеркнуть огромный рекреационный потенциал культовых пещер, обладающих сложной сакральной нагрузкой. В связи с этим остро стоит вопрос о сохранении и реставрации данных уникальных памятников историкокультурного наследия. ПРИМЕЧАНИЯ 1 Карта XIX в., Иерусалим, Старый Город. URL: http://mmedia.ozon.ru/multimedia/books_ill/1003259246.jpg; Карта 1900 г., Иерусалим, Старый Город. URI: http://www.cosmovisions.com/qJerusalem1900.htm (дата обращения: 09.01.2018). 2 Современная карта, Иерусалим, Старый Город. URL: http://wikialiyah.moy.su/photo/6-0-67-3?1408482450 (дата обращения: 05.01.2018).
Ключевые слова
паломничество в Иерусалим,
Русская православная церковь,
Крестный Путь Христа,
Виа Долороза,
Калачеевская пещераАвторы
| Степкин Виталий Викторович | Павловская средняя школа | кандидат исторических наук, учитель истории | archeolog@mail.ru |
Всего: 1
Ссылки
Степкин В.В. Пещеростроительство как вид христианского подвижничества в лесостепном Придонье // Вестник церковной истории. М. : Православная энцикл., 2008. № 3 (11). С. 141-150.
Свиридова Е. С. Уникальный храм земли Калачеевской. Калач : Яниза, 2017.
Никольский П.В. Монашество на Дону в XIX веке. Очерк 1. Пещерокопательство в XIX в. // Воронежская Старина. Воронеж : Изд.е Воронеж. Церковного ист.-археолог. комитета, 1910. Вып. 9. С. 149-181.
Никонов Ф. О благочестивых обычаях и религиозных учреждениях, существующих у жителей Воронежской Епархии // Воронежский литературный сборник. 1861. Вып. I. С. 321-372.
Беляев Л.А. Иерусалим видимый и невидимый: о типологии визуальных отражений Святой Земли в древнерусской культуре // Новые Иерусалимы. Иеротопия и иконография сакральных пространств. М. : Индрик, 2009. С. 202-220.
Крохина Н.П., Бредний А.А. Символика Нового Иерусалима в русской архитектуре XVI-XVII веков // Научный поиск. 2012. № 1. С. 52-56.
Бережной А.А. Миграционные процессы на юге Воронежской губернии (XVIII в.). // Из истории Воронежского края : сб. ст. / отв. ред. А.Н. Акиньшин. Воронеж, 2006. Вып. 14. С. 17-23.
Гусев Н. Путешествие во Святую землю // Вятские епархиальные ведомости. 1900. № 8. С. 333-355.
The Holy Land : an Oxford Archaeological Guide / gen. ed. B. Cunliffe. New Yor k: Oxford University Press, 2008. 576 p.
Норов А.С. Иерусалим и Синай : записки второго путешествия на Восток / под ред. В.Н. Хитрово. СПб. : Изд. Н.П. Поливанова, А.А. Ильина и Ко, 1878. [2], XII, 171 с.
Лаврецкий Г.А. Модель Святой Земли в сакральной топографии Полоцка // Вестник Полоцкого государственного университета. Сер. F. Строительство. Прикладные науки : науч.-теор. журнал. 2012. № 8. С. 2-5.
Уваров А.С. Христианская символика. М. : Изд-во Ун-та истории культур ; СПб. : Алетейя, 2001. Ч. I. Символика древнехристианского периода. 256 с.
Шлегель А.А., Рукин М.Д., Мазур И.И. Средневековые паломничества к Святой земле в текстах пилигримов. М. : Акад. Тринитаризма, 2013. 308 с.
Гунько А.А., Кондратьева С.К., Степкин В.В. К изучению пещер Спасо-Преображенского Усть-Медведицкого монастыря // Спелеология и спелестология. : сб. материалов VIII Междунар. науч. конф. Набережные Челны : НГПУ, 2017. С. 111-120.
Степкин В.В. Виа Долороза в пещерах урочища Малые Дивы на Среднем Дону // Вестник Томского государственного университета. 2018. № 426, январь. С. 167-179.
Бойко А.М. Свиридова Е.С. Тайна старой фотографии, или Они жили в пещере // Пещеры как объекты истории и культуры: материалы междунар. науч. форума, Воронеж-Дивногорье, 19-22 апр. 2016. Воронеж : Науч. книга, 2016. С. 33-36.
Бойко А.М. Свиридова Е.С. Калачеевская меловая пещера по воспоминаниям местных жителей // Дивногорский сборник : тр. музея-заповедника «Дивногорье». Воронеж : Науч. книга, 2015. Вып. 5. С. 61-74.
Гунько А.А., Степкин В.В., Кондратьева С.К., Леоньтьев М.В. Новые данные о культовых пещерах Дона по материалам исследований 2012-2013 гг. // Христианские пещерные комплексы Восточной Европы : тез. междунар. науч.-практ. конф. (24-27 апр. 2014, Дивногорье, Воронежская обл., Россия). Воронеж : Истоки, 2014. С. 10-11.
Гайдуков Н.Е. Степкин В.В. Калачеевская пещера на Среднем Дону (по материалам Д. Струкова и современным исследованиям) // Могилянські читання. 2007: Музейники ХХ століття - дослідники украінськоі сакрально! культури : зб. наук. праць. Киів : Нац. Киево-Печерський історико-культурний заповідник, 2008. С. 372-381.
Степкин В. В. Калачеевская пещера (к истории изучения) // Верхнедонской археологический сборник. Липецк : ЛГПУ, 2001. Вып. 2. С. 261 269.
Степкин В.В. Пещерные памятники Среднедонского региона // Культовые пещеры Среднего Дона. М. : РОСИ, 2004. Вып. 4. С. 41-137. (Сер. Спелестологические исследования).
Вязкова О.Е. Проблемы инженерно-геологического изучения и сохранения пещерных храмов на юге Воронежской области // Геоэкология. Инженерная геология. Гидрогеология. Геокриология. 2004. № 3. С. 237-243.
Вязкова О.Е. Инженерно-геологические проблемы изучения и сохранения пещерных храмов Воронежской области // Тезисы 1-го Междуна родного научно-практического симпозиума «Природные условия строительства и сохранения храмов православной Руси», 7-11 окт. 2000 г. Сергиев Посад, 2000. С. 48-50.
Пашкин Е.М. Техническое заключение по теме: «Инженерно-геологическое обследование состояния Калачеевской пещеры» : рукопись. М., 1998.
Гольянов Э.В. Донские пещеры // Заповедные уголки Воронежской области. Воронеж : Центр.-Чернозем. кн. изд-во, 1983. С. 68-71.
Стрелков П.П. Материалы по зимовкам летучих мышей в Европейской части СССР // Труды Зоологического института Академии наук СССР. 1958. Т. XXV. С. 255-304.
Дубянский В.А. О характере растительности меловых обнажений (по исследованиям в Воронежской губ.) // Известия Императорского Санкт-Петербургского ботанического сада. 1903. Т. 3, вып. 7. С. 209-227.
Материалы из фонда Струкова Д.М. в Отделе рукописей Российской государственной библиотеки (ОР РГБ): 31/21.
Трунов М.П. О пещерных храмах Воронежской губернии - по неизданным документам Д.М. Струкова // Труды Воронежской ученой архив ной комиссии. 1904. Вып. 2.
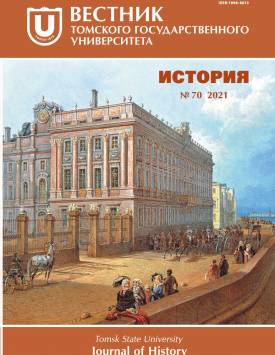

 Вы можете добавить статью
Вы можете добавить статью