Рассматривается позиция русских либералов второй половины XIX в. по одному из самых острых и сложных аспектов межнациональных отношений в Российской империи. Акцентируется внимание на существовании различных точек зрения на сущность и причины антисемитизма и юдофобии, равно и различий в способах и методах их преодоления. При этом показано в целом преобладающее понимание представителями русского либерализма необходимости отказа от дискриминации евреев в государственной политике и общественной жизни.
Jewish question in Russian liberal publicists of the 1870-1890s.pdf Либеральное течение, как и все русское общество, имело весьма расходившиеся суждения относительно еврейского вопроса. При достаточно единодушном осуждении антисемитизма и еврейской дискриминации их причины и пути преодоления неравноправия евреев виделись различными. Принципиальными и непримиримыми противниками антисемитизма были Б.Н. Чичерин, К.Д. Кавелин, В.С. Соловьев. Б.Н. Чичерину представлялась странной и нелогичной юдофобия русского общества. Он напоминал, что иудаизм лежал в основе многих современных религий, и в первую очередь христианства. Поэтому ему было непонятно, как можно ненависть к евреям основывать на христианских канонах, если в их основе лежала созданная евреями Библия, а основоположники христианства гордились своим еврейским происхождением [1. С. 41-42]. Ученый ставил вопрос: может ли истинный христианин, которого религия наставляет на любовь к ближнему, ненавидеть человека за приверженность своей вере [Там же. С. 44]. В.С. Соловьев также рассматривал еврейский вопрос в России через призму взаимоотношений христиан и евреев. Русский философ пытался показать, что для устранения отчуждения между евреями и христианами первый шаг должны сделать христиане. То есть решение проблемы - не в необходимости изменить евреев, а в изменении отношения к ним. Прежде всего должно было поменяться само христианское сообщество, возвратившись к истинным христианским ценностям. Это сделает возможным ликвидировать эксплуатацию, а следовательно, причину ненависти к евреям. Далее мысли В.С. Соловьева приобретали откровенно утопичный характер. Он полагал, что современное ему христианское общество, не являясь истинно христианским, не обладало притягательностью для евреев. Но обретя первозданные этические ориентиры, оно изменит отношение к себе не христиан. Это не означало отсутствия необходимости перемен среди евреев, однако от них не требовалось отказа от своей веры. Лучшая часть еврейства должна была войти в новую теократию, но и остальные могли бы найти себя в новом мире [2. С. 183-184]. Таким образом, подход В.С. Соловьева к еврейскому вопросу принципиально отличался от абсолютного большинства предлагавшихся российскими интеллектуалами и общественными деятелями вариантов. Последние исходили из необходимости ассимиляции евреев различной степени жесткости, но всегда принципиальным было требование культурной, религиозной, социальной адаптации евреев к условиям российского общества и русского этнического большинства. В.С. Соловьев считал ошибочным и бесперспективным подход, основывавшийся на отказе евреев от своих религиозных основ [3. С. 3-4]. Также неверно было обвинять евреев в отсутствии патриотических чувств к стране проживания, поскольку еврейский патриотизм всегда носил национально-религиозный характер, объект почитания которого никогда не локализовался пространственно [Там же. С. 18-19]. Если футурологические построения В.С. Соловьева, нацеленные на изменение общественного сознания, духовных ценностей, этических основ взаимоотношений между людьми, носили отвлеченно-теоретический характер, то работы, посвященные борьбе с антисемитизмом, были публицистически конкретными и политически жесткими. Будучи знатоком еврейских священных книг, философ старался опровергнуть доводы юдофобов и антисемитов (русских и немецких), стремившихся найти в них доказательства религиозной детерминированности ненависти иудеев к христианству. Обращаясь к тексту Талмуда, он доказывал поверхностное знакомство либо вовсе незнание его людьми, делавшими столь неверные и далеко идущие заявления [4. С. 375-376]. Обращаясь к причинам распространения антисемитизма в России, В.С. Соловьев локализовал его эпицентр польско-русскими землями, т.е. Украиной, Белоруссией и Литвой. По его мнению, на этой территории исторически, еще в эпоху Речи Посполитой, сложилась ситуация своеобразной этно-социальной специализации. Землевладельцы-паны в абсолютном большинстве были представлены поляками, а большинство крестьянского населения составляли русские (не малороссы, литвины, а именно русские!). Евреи, несмотря на законодательные ограничения и антисемитизм, составили большинство «городского промышленного класса», активно эксплуатирующего русских крестьян. Поэтому традиционная юдофобия христиан (поляков-католиков В.Н. Кудряшев 132 и русских-православных) была дополнена ненавистью к инородцам-угнетателям. В.С. Соловьев видел в данном факте подтверждение безусловных способностей евреев к предпринимательской деятельности, но отказывался считать эксплуатацию проявлением их национального характера. Далее он предлагал рассуждения, схожие с логикой народников: евреи не создали экономику, построенную на жесточайшей эксплуатации, они используют «правила игры», разработанные европейским капитализмом [2. С. 183]. В.С. Соловьев с горечью отмечал, что российское общественное мнение и публицистика все более приобретали откровенно антисемитский характер. Он недоумевал, почему евреям приписывали исключительно негативные черты, в то время как среди представителей любой народности достаточно и негодяев, и праведников, и было бы неверно распространять индивидуальные личностные качества на весь народ. Возвращаясь к обвинению евреев в национальной предрасположенности и предпочтении к занятию исключительно предпринимательством, публицист напоминал об ограничениях, существовавших для евреев на другие виды трудовой деятельности. Таким образом, профессиональная специализации евреев была вынужденной и вызывалась внешними факторами, не имея отношения к национальному характеру [5. С. 95]. К.Д. Кавелин, обращаясь к юдофобам, указывал на очевидные противоречия в их суждениях. Выступая в защиту христианских ценностей, они нарушали христианские заповеди, разжигая ненависть к ближнему. Образованная часть общества должна была подавать пример веротерпимости и толерантности. Но, к сожалению ученого, значительная часть ее, поднимая на щит национальные интересы русского народа и апеллируя к его национальному сознанию, на деле игнорировала его. Благодаря особенностям географического положения и исторического развития в русском народе выработался особый космополитизм, не отвергавший национальные или религиозные особенности, но учитывавший их в выстраивании союза «разноплеменных и разноверных народов». К.Д. Кавелин писал: «Особенность и сила русского народа в том именно и состоит, что он умеет, оставаясь собой, уживаться со всеми племенами, народами и верами» [6. Стб. 10931094]. И именно в этом качестве и заключался залог великого будущего русского народа. Поэтому те, кто видел защиту национальности в консервации традиций и отгораживании от других народов, на деле показывали незрелость национального сознания. Выдавая за непреходящие национальные ценности «бытовые черты, которые казались бесспорными и вечными принадлежностями той или другой народности или страны», они не дотягивались до народного гения, «который лежит глубже, в идеалах всеобщего добра и правды» [Там же]. То есть истинные ценности универсальны у всех народов, что и демонстрировал русский народ, выстраивая на их основе отношения в многонациональном российском сообществе. Тем очевиднее ошибочность и вредность проповедовавшегося «известной частью русского общества» отношения к инородцам и иноверцам, основанного на возведении в абсолютную ценность русских национальных черт, т.е. «народных и вероисповедательных особенностей», при умалении и уничижении прав других народов. К.Д. Кавелин называл уроном для национального достоинства лицемерное отношение к представителям других народов, допускавшее сбор с них налогов и податей, но сохранявшее дискриминацию по национальному и религиозному признакам. Для либерала был сомнителен патриотизм, допускавший признание неравенства сограждан, так же как национальные чувства, признававшие достоинства только своего народа: «Пока племенная и вероисповедательная равноправность не станет одною из бесспорных, всеми одинаково сознаваемых наших задач и живо ощущаемых потребностей, до тех пор культурное значение и призвание русского народа и государства останется сомнительным и спорным, и национальный патриотизм недалеко уйдет от квасного» [Там же. Стб. 1096]. В.С. Соловьев и Б.Н. Чичерин также настаивали на недопустимости дискриминации по национальному или религиозному признаку. Осознанное возбуждение религиозной нетерпимости и национальной ненависти противоречило христианским принципам и «развращало общество», подавляя гуманистические ценности. Поэтому с антисемитизмом следовало бороться хотя бы из чувства национального самосохранения, ради будущего России. Ученые видели в российском антисемитизме разновидность межнациональной ненависти и вражды, недоверия, питаемого к представителям другого народа, характеризуя подобные настроения как «зоологические чувства», и считали, что им не место в гражданском обществе [1. С. 51-52; 5. С. 95]. Главная особенность рассуждений Б.Н. Чичерина -отсутствие неприязни к евреям, поэтому то, что антисемитами вменялось им в вину, ему виделось как их достоинство. Ученый восхищался тем, что евреи, несмотря на многовековые бедствия и гонения, смогли сохранить чистоту своей веры, обычаев и языка [1. С. 40]. Их обособленность и замкнутость в рамках российского общества объяснялась реакцией на антисемитизм и естественным стремлением к сплочению любого народа перед общими угрозами. Поэтому пресловутая еврейская кагальность была не чем иным, как результатом политики правительства, ограничивавшей права еврейского населения, и антисемитских настроений русского общества [Там же. С. 52]. Ученый призывал отказаться от демонизации евреев и воспринимать их как сограждан, что позволило бы русскому обществу избавиться от многих фобий. Например, извечное опасение, что евреи захватили контроль над экономикой, и особенно над финансовой сферой, он интерпретировал как показатель талантов евреев, способных в условиях дискриминации развернуть свой бизнес. И наличие таких талантливых и предприимчивых людей только во благо обществу, поскольку они являются двигателями его развития. Обращая внимание на опыт Франции с ее известными еврейскими финансовыми кланами, Б.Н. Чичерин полагал, что и в России подобное положение не может рассматриваться как угроза ее экономическому суверенитету: «Полагаю поэтому, что и у нас распростра- Еврейский вопрос в русской либеральной публицистике 1870-1890-х гг. 133 нение способного, предприимчивого и культурного племени по всей русской земле могло бы существенно поднять ее благосостояние» [1. С. 48-49]. Итак, сторонники данного подхода призывали предоставить евреям равные с другими народами России права. Они обращали внимание на положения Основного Закона Российской империи, дававшего право всем народам на сохранение своего вероисповедания [Там же. С. 45]. Кроме того, по их мнению, государство не должно вмешиваться в вопросы веры. Дискриминация евреев становилась очевидной в сравнении с мусульманами, не имевшими ограничений ни в правах проживания, ни в возможностях занятия предпринимательством [1. С. 42; 6. Стб. 1091; 7. С. 95]. Наиболее решительно был настроен Б.Н. Чичерин, выступавший за полную ликвидацию ограничений в отношении евреев, возражая сторонникам постепенной и поэтапной отмены дискриминационных мер [1. С. 44-45]. Острую реакцию либеральных публицистов вызывали еврейские погромы, регулярно повторявшиеся в южных губерниях России в 1870-1880-е гг. Описывая сами погромы, публицисты отмечали их массовость, вовлеченность в них представителей разных категорий населения и полное пренебрежение к элементарным моральным нормам, захватившее не только маргиналов, но и добропорядочных граждан. Журналисты обращали внимание читателей, что произошедшие убийства и грабежи ни в чем не повинных людей стали результатом не только действий пьяной толпы и отдельных маргиналов, а также показательного бездействия местных властей на начальном этапе волнений, когда можно было локализовать конфликт. Более всего либералов настораживало и огорчало равнодушие большинства почтенных обывателей, с любопытством взиравших вначале на погромы, а затем на наказания погромщиков. Никто из них не попытался не только защитить, но даже укрыть гонимых евреев. Это показывало степень разобщенности общества по национальному признаку, когда убийство сограждан другой национальности воспринималось спокойно [8. С. 413-414; 9. С. 109-110]. Л.А. Полонский считал погромы, прокатившиеся по югу России, в значительной степени результатом продолжавшейся политики дискриминации евреев по национальному и религиозному признакам. Не только иные обычаи и вера, которых продолжало придерживаться большинство евреев, заставляли русских людей видеть в них чужаков, но евреи воспринимались ими как парии, официально признанные людьми низшего сорта. Ситуация требовала быстрых и решительных мер, поскольку существовавшее положение наносило вред не только евреям, но и всему русскому обществу, так как не исключало новой волны погромов, грозивших расколом общества [10. С. 354]. При этом одновременно еврейские погромы воспринимались либералами уже не только как межнациональные и конфессиональные, но имевшие также классовую природу. В статье в «Русской мысли» как о доказанном факте говорится об агитации социалистов-анархистов, предшествовавшей волнениям и бывшей одним из побудительных мотивов, и, как отмечал журналист, видимо, агитация упала на благодатную почву, т.е. совпала с настроениями населения [9. С. 112113]. Автор отмечал страх, охвативший русское общество, ожидавшее, что бунты перекинутся и в другие районы России. Это ожидание выхода волнений за пределы черты оседлости показывало, что они воспринимались как социальные, а не только как религиозные или национальные [Там же. С. 109-110]. Несмотря на локальный характер событий, они до предела обострили ситуацию во всей России. Ожидание новой вспышки насилия охватило все регионы, и любой слух или провокация были чреваты самыми непредсказуемыми последствиями. Данная тенденция в оценке причин погромов становится заметной в целом ряде либеральных изданий. Пытаясь найти истоки традиционной ненависти православного населения к евреям, в них обращается внимание на то, что только религиозной неприязнью объяснить погромы сложно, учитывая высокий уровень толерантности русского народа, проявляющийся в долгих добрососедских отношениях с мусульманами [11. С.142-143; 12. С. 99-100]. Главной причиной еврейских погромов либеральные публицисты видели нищету и разорение малорусского крестьянства, страдающего от засилья кулаков и ростовщиков, прорвавшиеся в массовых беспорядках. Поэтому и меры, предлагаемые для выхода из кризиса, носили экономический и политический характер [12. С. 99]: это необходимость системной государственной помощи крестьянским хозяйствам, предоставление дешевых кредитов, которые должны были ослабить зависимость от сельских ростовщиков, оказание правовой и судебной поддержки крестьянам для выхода из кабалы несправедливых договоров или предотвращения их заключения. Публицисты выражали уверенность в неэффективности продолжения дискриминации евреев и считали правильным ее скорейшую ликвидацию. Русский народ и без полицейских мер в состоянии был поддерживать государственное единство, но для этого необходимы были развитие самого широкого самоуправления, распространение его на национальные окраины и привлечение всех национальностей (евреев в том числе) [11. С. 142-143; 12. С. 99-100]. Таким образом, в части либеральных изданий национально-религиозный характер погромов не отрицался полностью, но акцент делался на его социальноэкономических причинах, что приводило к убежденности в необходимости прежде всего социально-экономических мер по их устранению. Не оспаривая тезиса о том, что нищета толкала людей на преступления, следует обратить внимание на недооценку глубины межнациональных противоречий, свойственную многим либеральным авторам. Они не видели в религиозной и национальной неприязни угрозу российской государственности и уповали на толерантность русского народа и его способность к сплочению вокруг себя других национальностей. Поэтому не предлагалось мер по изменению религиозной и национальной политики в аспекте именно межнациональных отношений.
В.Г. [Гольцев В.И.] Внутреннее обозрение // Русская мысль. 1881. № 6. С. 91-108.
Драгоманов М.П. Евреи и поляки Юго-Западного края // Вестник Европы. 1875. № 7. С. 133-179.
Внутренняя хроника // Вестник Европы. 1883. № 10. С. 352-374.
Внутренняя хроника // Вестник Европы. 1871. № 5. С. 401-427.
С. Пр. Погром евреев // Русская мысль. 1881. № 6. С. 109-127.
Соловьев В.С. Письмо к автору (вместо предисловия к книге Ф.Б. Геца «Слово подсудимому») // Тайна Израиля. СПб. : София, 1993. С. 94-95.
Кавелин К.Д. Наши инородцы и иноверцы // Собрание сочинений. СПб. : Тип. М.М. Стасюлевича, 1898. Т. 2. Стб. 1088-1096.
Соловьев В.С. Протест против антисемитического движения в печати // Тайна Израиля. СПб. : София, 1993. С. 95-103.
Соловьев В.С. Талмуд и новейшая полемическая литература о нем в Австрии и Германии // Собрание сочинений : в 8 т. СПб. : Тип. Просвещение, 1914. Т. 6. С. 3-32.
Соловьев В.С. Евреи, их вероучения и нравоучения. Исследование С.Я. Диминского // Собрание сочинений : в 8 т. СПб. : Тип. Просвещение, 1914. Т. 6. С. 374-380.
Соловьев B.C. Еврейство и христианский вопрос // Собрание сочинений : в 8 т. СПб. : Тип. Просвещение, 1914. Т. 4. С. 142-188.
Чичерин Б.Н. Польский и еврейский вопрос. Берлин : Изд. Г. Штейниц, 1899. 68 с.
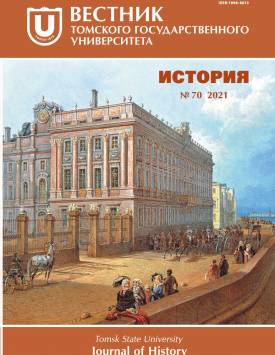

 Вы можете добавить статью
Вы можете добавить статью