Следы использования огня в межжилищном пространстве поселений эпохи неолита и палеометалла в Северном Приангарье
Археологические исследования в зоне затопления водохранилища Богучанской ГЭС, проведенные в 2008-2012 гг. дали большое количество разнообразного материала вследствие беспрецедентного масштаба работ. В качестве объектов исследования были выбраны следы горения, находящиеся за пределами сооружений. Посредством применения комплекса общенаучных и дисциплинарных методов был проведен анализ накопленной базы такого рода данных. В результате исследований выделено четыре типа следов горения, расположенных в межжилищном пространстве, дана их сравнительная характеристика и предложена интерпретация.
Traces use of fire in inter-house space of settlements neolithic and paleometal age in Northern Angara region.pdf Огонь в системе жизнедеятельности человека играет важную роль. В настоящее время, как и в древности, огонь используется для приготовления пищи, изготовления орудий труда, обработки материалов. Освоение этой стихии оказало значительное влияние на развитие технологий и изменения в адаптации человека к природно-климатическим условиям. В поле зрения археологии попадает значительное количество материальных свидетельств того, как в древности человек осваивал и использовал огонь. Это могут быть кострища с верхнепалеолитической стоянки [1], очаги в жилищах на поселении бронзового века [2], разнообразные следы горения в захоронениях неолита-энеолита [3], обожженные кости на местах промысла [4], обожженные фрагменты сырья в местах его добычи [5] или инструменты, предназначенные для добычи огня [6]. Это разнообразие достаточно ярко иллюстрирует данные объекты в хронологическом, культурном и морфологическом отношении. Данные свидетельства можно разделить на предметы и следы использования огня. Под следами использования огня понимаются структурные изменения в культуросодержащих отложениях, которые выражены формированием прокаленных участков с накоплением углисто-золистых отложений. Такие следы могут являться элементами конструкций, которые были сделаны из дерева, глины, камня или других материалов. По признаку пространственного расположения такие следы могут быть разделены на те, что расположены в пределах какого-либо сооружения (очаги) или за его пределами в межжилищном пространстве (кострища, прокалы). Именно вторая категория следов является объектом данного исследования. Археологические исследования на территории Северного Приангарья начались в середине XIX в. и наибольшее развитие получили в период строительства ангарского каскада гидроэлектростанций в 50-70-е гг. XX в., продолжившегося в 2000-е гг. [7. С. 3-16; 8. С. 512]. В результате был накоплен существенный объем материала, для осмысления которого требуется комплексный подход. Ввиду специфики аварийно-спасательных археологических работ исследования проводились сплошными площадями. В период 2008-2012 гг., который является самым интенсивным в истории археологического исследования Северного Приангарья, было изучено 222 объекта археологического наследия, общая площадь которых составила 165 тыс. кв. м [8. С. 531]. Такой масштаб полевых работ позволил зафиксировать значительное количество объектов, расположенных в межжилищном пространстве поселений. При ином формате полевых археологических исследований это пространство исследуется частично ввиду «фрагментарного изучения поселенческих комплексов» [2. С. 67]. Среди объектов, обнаруженных на широких площадях межжилищного пространства, большую долю занимают следы использования огня разного морфологического облика, пространственного расположения и культурно-хронологической характеристики. Наблюдаемые объекты представлены в значительном количественном и качественном разнообразии. Фиксация их местоположения в контексте изучаемого культурного пространства археологического памятника позволила выделить их основные параметры и характеристики. Учитывая описанные выше обстоятельства, необходимость в систематизации и последующем изучении данных объектов стала очевидной. Целью данного исследования является классификации следов, которые были зафиксированы во внежилищном пространстве поселенческих комплексов. Для Следы использования огня в межжилищном пространстве поселений эпохи неолита и палеометалла 153 этого были определены задачи по сбору сведений о выявленных следах горения в формате структурированного банка данных, выделению морфометрических признаков, выявлению закономерностей в их пространственной и культурно-хронологической привязке в контексте археологического памятника. Поскольку следы горения являются одним из остаточных свидетельств использования древним человеком определенной пирогенной технологии, то каждый этап ее применения маркируется определенными признаками. Для систематизации и статистического анализа данных признаков был применен атрибутивный подход, заключающийся в выделении атрибутов (признаков) для реконструкции «операционных цепочек» [9. С. 35]. В рамках данного подхода использовались общенаучные методы и методы статистического анализа: многомерная статистика, метод сопряженностей, геометрическая морфометрия. Материалом для настоящего исследования послужили 220 следов использования огня, обнаруженных в межжилищном пространстве 19 поселенческих комплексов эпохи неолита и палеометалла, расположенных в бассейне среднего течения р. Ангары (рис. 1). Определение хронологической принадлежности каждого из объектов было сделано на основе радиоуглеродного датирования материалов и предметов, с которыми изучаемые объекты находились в определенных пространственных взаимосвязях. В качестве культурнохронологических маркеров взяты орнаментированные фрагменты керамики, предметы с установленной атрибуцией. При формировании выборки учитывался ряд критериев, по которым отбирались объекты: наличие подробных фотографий, фиксация на плане раскопа, чертеж плана и профиля заполнения объекта, наличие датирующего материала в заполнении объекта и расположение объекта in situ в отложениях с установленными хроностратиграфическими характеристиками. Первоочередной стояла задача выбраковки объектов, которые по ряду признаков не могут быть определены как антропогенные либо чьи морфометрические параметры были искажены в результате постседимен-тационных деформаций. Для этого данная выборка была проанализирована методами многомерной статистики с использованием программ PASW Statistics 18 и STATISTICA 8.0, на основании чего были выделены объекты, чьи значения мощности заполнения, углового коэффициента соответствия и слоистости подходили под установленные параметры следов контролируемого использования огня [10]. Из первоначальной выборки было отобрано 168 объектов, у которых прослеживалось многослойное заполнение мощностью более 9 см, обладающих угловым коэффициентом соответствия более 0,6. Последующие аналитические манипуляции проводились именно с этой выборкой. О 1 К'одіінск f f ; *} АнпфіГ ft 80 км J Еклтеримбурі Красноярск Челябинск Новосибирск и-' 1000 км V А. •ч - Рис. 1. Карта Северного Приангарья с отмеченным месторасположением памятников, материалы которых были использованы в исследовании Из первоначального объема было исключено 52 объ- стями являются значения мощности заполнения по-екта, определенных как следы неконтролируемого рядка 4-7 см, углового коэффициента соответствия использования огня. Их отличительными особенно- менее 0,6 и значения коэффициента преднамеренности Д.А. Бычков, П.В. Волков, В.П. Колосов 154 в диапазоне 0,000014-0,000091. Последний параметр -это математическая модель, отражающая соотношение площади и мощности следов горения. Методологическое обоснование параметра и его апробация на материалах полевых исследований и экспериментальных полигонах приведена в отдельной работе [11]. Данные значения на порядок меньше минимальных значений у следов из выборки контролируемого использования огня. Это подтверждается эмпирическими данными: естественные возгорания покровного характера покрывают большую площадь, но из-за температурного воздействия малой интенсивности генерируемые ими следы горения имеют незначительную мощность [12; 13. С. 536541]. Среди объектов данной выборки нет объектов, имеющих в своей структуре следы преднамеренной подготовки - создания углубления, обкладки. В заполнении 81% объектов данной категории не было установлено наличия предметов материальной культуры. Предполагается, что следы контролируемого использования огня возникли в результате целенаправленных действий человека, а значит, их преднамеренный характер отражен в морфометрических параметрах следов. Согласно атрибутивному подходу, данные параметры - это значения признаков, измеряемые у изучаемых объектов. Следовательно, при их анализе выделяются как «сквозные», так и типообразующие признаки. Применительно к объектам настоящего исследования за такой признак принимается форма следа горения в плане. Основанием для данного решения являются закономерности, выявленные между формой следа горения и пиротехническим устройством, использование которого его образовало [14. С. 162-171]. Исходя из этого, предполагается, что статистический анализ форм следов горения позволит выявить особенности использования генерировавших их пиротехнических устройств на изучаемой территории. Анализ форм следов контролируемого использования огня проводился методами геометрической морфометрии с использованием программы MorphoJ и модуля tpsDig. Анализируя морфологическую изменчивость объектов, было установлено, что выделяются четыре устойчивые формы: округлая, каплевидная, трапециевидная и вытянутая (рис. 2). На приведенном графике по оси абсцисс крайнее положительное значение соответствует вытянутой форме, а крайнее отрицательное - округлой. На оси ординат отображены в крайнем положительном значении трапециевидная форма и в крайнем отрицательном -каплевидная. Далее установленные формы были проанализированы с маркировкой типовой принадлежности для определения их однородности. Как показывает график морфологической вариабельности (рис. 3), выделяемые округлые и вытянутые формы достаточно однородны в своей массе. Трапециевидные и каплевидные формы, напротив, неоднородные, и отмеченные ими объекты имеют значения формы, входящие в диапазон других форм. Данный результат указывает на то, что наблюдаемое морфологическое многообразие неслучайно и детерминировано определенными факторами. Рис. 2. График морфологической вариабельности следов контролируемого использования огня. Маркировка статистически выделяемыми диапазонами значений коэффициента преднамеренности: 1 - 0,0004-0,0009; 2 - 0,001-0,002; 3 - 0,002-0,004; 4 - 0,004-0,008; 5 - 0,008-0,04 155 Следы использования огня в межжилищном пространстве поселений эпохи неолита и палеометалла Рис. 3. Внутригрупповая вариабельность форм: 1 - округлые; 2 - трапециевидные; 3 - каплевидные; 4 - вытянутые Форма следа горения, которая фиксируется исследователем, является конечным элементом в цепочке причинно-следственной связей. Для выявления влияющих на это факторов был проведен сравнительный анализ следов горения, сгруппированных по признаку формы в соответствующие типы. Анализировались культурно-хронологические, морфометрические и пространственные параметры объектов. В результате были выявлены характерные особенности, свойственные для каждого из типов следов горения. К трапециевидным следам горения было отнесено 55 объектов (рис. 4, 1). Хронологической особенностью данного типа является равномерное расположение на протяжении всего хронологического диапазона выборки от начала I тыс. до конца VI тыс. до н.э. Морфометрической особенностью данного типа следов горения является «двойной диапазон» значений мощности заполнения, в который кучно укладываются все объекты трапециевидной формы - от 9 до 16 и от 19 до 30 см. Значения коэффициента преднамеренности располагаются в наибольшем по выборке диапазоне от 0,00046 до 0,015 со средним значением 0,00344. Особенностью пространственных характеристик объектов данного типа является равномерное расположение в культурном пространстве поселений. Трапециевидные следы горения расположены на разном удалении от построек, водоемов и других объектов. В основном выделяются диапазоны 10-45 и 85-110 м. Можно сказать, что данные объекты встречается как в непосредственной взаимосвязи с другими элементами пространства, так и автономно. Относительно геоморфологической ситуации расположения объектов данного типа нужно отметить, что они преимущественно приурочены к участкам форм рельефа без уклона. Округлыми следами горения в генеральной выборке является 41 объект (рис. 4, 2). Распространенные в V и I тыс. до н.э., в своем заполнении они содержат наиболее широкий предметный комплекс - фрагменты керамических сосудов, каменные артефакты, изделия из кости и рога, фаунистические останки и отходы металлургии (шлаки, крица). При этом данный тип следов горения обладает самым минимальным диапазоном значений мощности заполнения и коэффициента преднамеренности - 10-20 см и 0,00133-0,00797 соответственно. Округлые следы горения ближе остальных типов следов горения расположены к сооружениям - от 3 до 21 м. Но вместе с этим есть отдельные объекты, расположенные на расстоянии 100-150 м от сооружений. На основании этого можно сделать предположение о том, что округлые следы горения остались от пиротехнических устройств, которые использовались как дублеры внутрижилищных очагов, так и в качестве отдельных элементов. В обоих случаях данные пиротехнические устройства аккумулировали вокруг себя хозяйственную деятельность разного характера, что подтверждается ее материальными свидетельствами. Вытянутых следов горения насчитывается 29 объектов (рис. 4, 3). Наибольшее распространение имеют с конца IV по VI тыс. до н.э., но встречаются и объекты, относящиеся к I и III тыс. до н.э. У данных следов горения значения мощности заполнения находятся в минимальном диапазоне по выборке - от 10 до 14 см. Остальные морфометрические параметры так же име- Д.А. Бычков, П.В. Волков, В.П. Колосов 156 ют самые минимальные значения. Можно сделать вывод, что вытянутые следы горения являются «наименьшими» в выборке по большей части параметров. Тем не менее в заполнении объектов этого типа встречаются все возможные предметы материальной культуры в почти одинаковом соотношении. Расстояния от сооружений, водоемов и других объектов до вытянутых следов горения указывают на то, что они не находились в каких-либо взаимосвязях с другими объектами культурного пространства. Рис. 4. Следы горения разных типов, обнаруженные в межжилищном пространстве поселенческих комплексов в Северном Приангарье: 1 - след горения трапециевидной формы из раскопа на местонахождении Кода 1Б (по: [15. Рис. 74. С. 57]); 2 - след горения округлой формы из рекогносцировочного раскопа № 60 на стоянке Сергушкин 3 (по: [16. Рис. 307. С. 139]); 3 -след горения вытянутой формы -прокал № 13, стоянка Пашина (по: [17. Рис. 193. С. 124]); 4 - след горения каплевидной формы - прокал № 13 на стоянке Парта (по: [18. Рис. 380. С. 153]) Следами горения каплевидной формы является 43 объекта (рис. 4, 4). В подавляющем большинстве случаев они относятся к периоду V-IV тыс. до н.э., и в их заполнении встречается наибольшее количество фрагментов керамических сосудов и наименьшее количество каменных артефактов. Мощность заполнения у объектов данного типа находится в диапазоне от 9 до 18 см, а среднее значение коэффициента преднамеренности составляет 0,00421. Относительно особенностей пространственного расположения важно отметить, что, как и округлые и вытянутые следы горения, каплевидные зачастую расположены вблизи водоемов на расстоянии от 10 до 70-90 м. Выделение четырех типов следов контролируемого использования огня позволило не только провести их сравнительный анализ, но и проследить динамику изменений морфометрических характеристик во времени. Для этого были использованы значения коэффициента преднамеренности для каждого объекта из выборки. Имеющиеся значения были соотнесены с абсолютными и относительными датировками изучаемых объектов. Порядка половины объектов датировано относительно залегающих в их заполнении предметов материальной культуры. Хронологические определения предметного ряда были взяты из публикаций по результатам археологических исследований в зоне затопления Богучанской ГЭС [8; 19. С. 190-192; 20. С. 50-54]. Для незначительного количества следов горения были получены определения абсолютного возраста методом AMS-датирования С14. Данные результаты были приведены в некоторых архивных материалах. Статистический анализ соотношений между значениями коэффициента преднамеренности и хронологическими определениями объектов позволил получить график изменения их морфометрических параметров в исторической ретроспективе (рис. 5). На полученном графике совершенно явно выделяются периоды наибольшей и наименьшей активности в использовании огня во внежилищном пространстве. Динамика активности в данном случае определяется значениями коэффициента преднамеренности, который отражает целенаправленный характер использования Следы использования огня в межжилищном пространстве поселений эпохи неолита и палеометалла 157 огня. Периодам возрастания активности соответствуют хронологические периоды 8000-7500 л.н., 70004000 л.н. и 3000-2000 л.н. Периоды спада локализованы на хронологической шкале промежутками 75007000 л.н. и 4000-3000 л.н. Наблюдаемая динамика может быть объяснена теми природно-климатическими условиями, в которых осуществлялась данная хозяйственная деятельность древнего населения Северного Приангарья. Исходя из опубликованных сведений о палеоклиматической ситуации на изучаемой и сопредельных территориях [21. С. 177-178; 22. Рис. 4. С. 74; 23. С. 92-96], можно сделать вывод, что периоды активного использования огня во внежилищном пространстве связаны с сухим и холодным климатом. Наименьшая активность в использовании огня связана с резким повышением влажности и среднегодовых температур. Вероятно, эти изменения в климате спровоцировали миграции древнего населения, что отразилось на хозяйственной деятельности. Полученные сведения о динамике использования огня носителями разных культур позволили рассмотреть данную хозяйственную деятельность с принципиально иной точки зрения. Датировка, л.н. Коэффициент преднамеренности 1 -□ 2-0 3-0 4-Д Рис. 5. Динамика изменения морфометрических параметров у следов горения разного типа в хронологическом диапазоне: 1 - трапециевидные; 2 - вытянутые; 3 - округлые; 4 - каплевидные. Д.А. Бычков, П.В. Волков, В.П. Колосов 158 Основываясь на морфолого-функциональном подходе А. Леруа-Гурана [24], предлагается интерпретация изучаемых объектов, основанная на взаимосвязи морфологических особенностей следа горения и пиротехнического устройства. Из этнографических сведений об использовании огня коренными народами Восточной Сибири известны примеры того, как функциональное назначение и окружающие климатические условия определяли конструкцию пиротехнического устройства и способы добычи огня [25-27]. Необходимо упомянуть, что наличие определенной взаимосвязи между конструкцией и следом было многократно проверено в результате специальных экспериментальных исследований [28-31]. Типы следов горения, выделенные по результатам статистического анализа, соотносятся нами с наиболее распространенными технологическими вариантами костровых конструкций, такими как «экранный», «круглый», «юрлык», «нодья» (рис. 6). Вытянутый Рис. 6. Взаимосвязь между типами следов горения и разными костровыми конструкциями Трапециевидные следы горения связаны с использованием «экранных» костровых конструкций. Первостепенным доказательством являются факты обнаружения таких объектов in situ. Ярким примером такой находки являются остатки кострища, обнаруженные на местонахождении Кода 1Б в 2009 г. [15. Рис. 74. С. 57]. Во-вторых, как показывают этнографические данные, «экранные» конструкции применялись для использования огня в непосредственной близости от укрытия [14. С. 167]. Результаты статистического анализа трапециевидных следов горения также указывают на их расположение в непосредственной близости от объектов, интерпретируемых исследователями как жилищные конструкции. Принимая во внимание динамику морфометрических признаков в исторической ретроспективе, можно сделать вывод, что трапециевидные следы горения отличались высокими значениями коэффициента преднамеренности преимущественно в периоды сухого и холодного климата. Наибольшая их концентрация зафиксирована на хронологическом отрезке 7000-5500 л.н. Это указывает на «популярность» связываемых с ними «экранных» конструкций в соответствующие периоды времени. Таким образом, следы горения трапециевидной формы интерпретируются нами как следы использования «экранных» костровых конструкций, которые использовались рядом с жилищами, в том числе и у наземных построек. Следы горения округлой формы связаны с использованием огня в форме «круглого» костра. Данное пиротехническое устройство в различных культурах могло иметь множество вариантов - от простого дымокура до так называемого «внешнего очага». Как показывает анализ выборки по следам горения контролируемого использования огня, в их заполнении выявляется самая большая доля предметов, связанных с каменным производством. Вероятно, использование огня в форме круглого костра сопричастно с производством изделий из камня, происходило в непосредственной близости от сооружений, фактически «у порога». Описания аналогичных производственных площадок «у костра», которые были реконструированы по материалам различных поселенческих комплексов, в научной Следы использования огня в межжилищном пространстве поселений эпохи неолита и палеометалла 159 литературе встречаются зачастую [1. С. 43; 5. С. 10-11; 14. С. 171-204; 32; 33]. Говоря о культурно-хронологическом контексте распространения данных следов горения, можно сделать вывод, что наибольшее развитие данный способ использования огня приходится на период 7500-5500 л.н., который укладывается хронологические рамки эпохи неолита на данной территории. Каплевидный тип следов горения внежилищного пространства связывается с использованием огня в форме костра, называемого «юрлык». Данная конструкция достаточно универсальна и в практиках различных групп населения может иметь множество вариантов. Именно универсальность конструкции обусловливает ее распространение фактически во все хронологические периоды. Наиболее ярко выделяется период с хронологическими отметками 3000-2000 л.н. На данном этапе разработки проблематики использования огня на изучаемой территории доказательное объяснение этого факта не может быть представлено. Также необходимо отметить, что следы горения каплевидной формы могут возникать в результате однократного использования пиротехнических устройств, расположенных на участке формы рельефа с уклоном порядка 35°. Данная закономерность вытекает из результатов статистического анализа следов горения данного типа. Установлено, что доля каплевидных следов горения, расположенных на участках ландшафта с таким уклоном, составляет 14%. Учитывая перечисленные факты, следы горения каплевидной формы не могут быть интерпретированы однозначно. Вытянутый тип следов горения внежилищного пространства наиболее характерен при использовании таких костровых конструкций, как «нодья». Данная конструкция отличается тем, что, во-первых, может гореть длительное время, во-вторых, оставляет след горения с соотношением сторон порядка 1 : 3. Такие следы горения не свойственны другим пиротехническим устройствам, известным по результатам полевых археологических исследований. В процессе постседи-ментационных деформаций в культуросодержащих отложениях контуры следа горения не могут настолько «вытянуться» без каких-либо сопутствующих изменений. Как показывают эксперименты, только для конструкций типа «нодья» характерны настолько вытянутые следы горения [29. С. 143]. Распространение данного типа следов горения в хронологическом диапазоне выборки говорит о том, что конструкция «но-дья» имела одинаковое распространение во все затрагиваемые исторические периоды. По всей видимости, данная конструкция была достаточно универсальной, чтобы использоваться в качестве стационарного и оперативного источника тепла. В результате проведенного исследования установлено, что в процессе полевых археологических исследований на 19 археологических памятниках в зоне затопления Богучанской ГЭС было зафиксировано более 500 следов горения, которые разделены на две категории: следы неконтролируемых возгораний и следы контролируемого использования огня. Объекты первой категории исключены из анализа, поскольку по ряду признаков были подвержены постседиментационным деформациям. Наибольший информационный потенциал и научную значимость имеют объекты второй категории. По результатам анализа внутригрупповой вариабельности было выделено четыре типа следов контролируемого использования огня. Собранные данные проанализированы методами описательной статистики, на основании чего определены признаки, характерные для всех объектов в выборке: форма, относительная и абсолютная датировка, расположение на участке древней дневной поверхности, гипсометрические характеристики данного участка, мощность заполнения, слоистость, наличие предметов материальной культуры в заполнении, длина, ширина, коэффициент преднамеренности, расстояния до ближайшего сооружения и водоема. Выделенные признаки обусловливают типовое разнообразие изучаемых объектов и позволяют проводить аналитические мероприятия. На основании анализа полученных характеристик объектов исследования выделены закономерности, позволяющие объяснить их пространственную и культурно -хронологическую атрибуцию. Фрагментарность полевых исследований может ограничивать планиграфический анализ изучаемого пространства археологического памятника. В связи с этим роль следов горения как элементов пространства воспринимается как незначительная, в результате чего сам объект не представляется исследователям самоценным и уже вследствие этого не изучается наряду с другими свидетельствами хозяйственной деятельности древнего населения. Тем не менее с привлечением современных методов и на больших выборках анализ данного материала является чрезвычайно перспективным. Методический инструментарий, примененный в данном исследовании, еще не полностью адаптирован к специфике объекта исследования. В большинстве своем примененные методы были заимствованы из других направлений археологии, дисциплин, научных областей. В процессе исследования такие данные об объектах, как их датировка, были усреднены, поскольку слишком детальный критический анализ хронологической атрибуции отдельного объекта выявил бы больше опровергающих датировку сведений, чем возможностей для его хронологической привязки. Учитывая данные обстоятельства, необходимо отметить, что результаты исследования не являются безапелляционными. Дальнейшее развитие данного направления археологических исследований позволит выработать методологию анализа и интерпретации, более адекватную по отношению к объекту исследования, и получать результаты с большей степенью верификации. Полученные сведения о характере и особенностях свидетельств использования огня на изучаемой территории позволяют не только формулировать суждения о хозяйственной деятельности древнего населения, но и подойти с новой точки зрения к пониманию процессов адаптации к природно-климатическим условиям Северного Приангарья. Одной из перспектив развития данного направления в археологической науке видится создание региональных схем использования огня в контексте жилищного и межжилищного пространства. Применительно к проблемам археологического Д.А. Бычков, П.В. Волков, В.П. Колосов 160 изучения Северного Приангарья необходимо отметить перспективу продолжения исследований по материалам Богучанской археологической экспедиции, по скольку их необходимо интегрировать в существующие схемы историко-культурного развития региона в разные исторические эпохи. ПРИМЕЧАНИЕ 1 Материалы полевых исследований данных поселенческих комплексов были изучены в Научном архиве Института археологии и этнографии СО РАН (Ф. 1. Оп. 1. Д. 387-394, 397-398, 400, 409-412, 413-414, 434-435, 436-437, 450-457, 466-475, 522-530, 539-544, 609-611, 612-613, 622-625, 651-660).
Ключевые слова
использование огня,
кострища,
поселения,
неолит,
палеометалл,
Северное ПриангарьеАвторы
| Бычков Дмитрий Александрович | Институт археологии и этнографии СО РАН | инженер-исследователь отдела охранно-спасательной археологии | bda.nsk@yandex.ru |
| Волков Павел Владимирович | Новосибирский государственный университет | доктор исторических наук, ведущий научный сотрудник лаборатории гуманитарных исследований | volkov100@yandex.ru |
| Колосов Владимир Павлович | Государственный Эрмитаж | младший научный сотрудник отдела Античного мира | tepavi@yandex.ru |
Всего: 3
Ссылки
Jerand P., Linderholm J., Hedman S.-D., Olsen B.B. Spatial perspectives on hearth row site organisation in Northern Fennoscandia through the analysis of soil phosphate content // Journal of Archaeological Science. 2016. № 5. С. 361-373.
Alperson-Afil N., Richter D., Goren-Inbar N. Phantom hearths and the use of fire at Gesher Benot Ya’aqov, Israel // PaleoAnthropology. 2007. C. 1-15.
Чирков М.В. Лычагина Е.Л. Экспериментальная археологизация очагов на суглинистом грунте // Вестник научной ассоциации студентов и аспирантов исторического факультета Пермского государственного гуманитарно-педагогического университета. Сер. Stadia Historica Jenium. 2009. № 1. С. 18-21.
Мингалёв В.В., Чирков М.В. Эксперименты по археологизации разнотипных кострищ и очагов // Вестник музея археологии и этнографии Пермского Предуралья. 2008. № 2. С. 53-63.
Бычков Д.А., Евменов Н.Д. Следы горения отопительных кострищ с точки зрения магнитометрии: результаты эксперимента // Новые материалы и методы археологического исследования: от археологических данных к историческим реконструкциям : материалы IV конф. молодых ученых. М., 2017. С. 142-144.
Волков П.В. Экспериментальные исследования отопительных костров древности // Методология и методика археологических реконструкций. Новосибирск : Ин-т археологии и этнографии СО РАН, 1994. С. 104-112.
Митько О.А. Способы получения огня на Алеутских островах во второй половине XIX века // Вестник Новосибирского государственного университета. Сер. История, филология. 2012. Т. 11, № 7. С. 301-308.
Дмитриева Л.В. Семейный огонь и культ домашнего очага в фольклоре коренных народов Сибири // Сибирский филологический журнал. 2013. № 2. С. 5-13.
Одгаард У. Ритуал кормления огня в очагах циркумполярных культур // Уральский исторический вестник. 2014. № 2. С. 79-88.
Seminaire sur les structures d’habitat. Les temoins de combustion. Paris : College de France, 1973. 43 с.
Rasskazov S.V., Levi K.G. Periodization of recent and Late Pleistocene - Holocene geodynamic and paleoclimatic processes // Geodynamycs & Tectonophysics. 2014. № 5. Р. 81-100.
Кузьмин С.Б., Белозерцева И.А., Шаманова С.И. Палеогеографические события Прибайкалья в голоцене // Успехи современного естествознания. 2014. № 12. С. 64-75.
Рудковский С.И. Палеогеография Севера Западной Сибири в конце II - начале I тысячелетия до н.э. // Культуры и народы Западной Сибири в контексте междисциплинарного изучения : сб. музея археологии и этнографии Сибири им. В.М. Флоринского. Томск, 2005. С. 177-182.
Гурулёв Д.А. Предварительные результаты анализа керамических комплексов Усть-Ковинской группы памятников (Северное Приангарье) // Евразия в кайнозое: стратиграфия, палеоэкология, культуры. 2014. № 3. С. 47-55.
Гурулёв Д.А., Максимович Л.А. Керамика бронзового века Северного Приангарья // Материалы VII Международной научной конференции «Древние культуры Монголии, Байкальской Сибири и Северного Китая». Красноярск, 2016. С. 185-194.
Савин А.Н. Отчет об археологических раскопках многослойной стоянки Парта в Кежемском районе Красноярского края в 2010 году. Т. 3 // Архив ИАЭТ СО РАН. Ф. 1. Оп. 1. Д. 624.
Гришин А.Е. Отчет о раскопках на многослойной стоянке Пашина и местонахождении деревня Пашино в Кежемском районе Красноярского края в 2009 году // Архив ИАЭТ СО РАН. Ф. 1. Оп. 1. Д. 414.
Герман П.В. Отчет об археологических исследованиях (раскопках) на территории памятника археологии Сергушкин 3 в Кежемском районе Красноярского края в 2009 году. T. 2 // Архив ИАЭТ СО РАН. Ф. 1. Оп. 1. Д. 398.
Волков П.В. Опыт эксперимента в археологии. СПб. : Нестор-История, 2013. 416 с.
Грачев И.А. Отчет об археологических спасательных работах на местонахождении Кода 1Б в Кежемском районе Красноярского края в 2009 году. T. 2 // Архив ИАЭТ СО РАН. Ф. 1. Оп. 1. Д. 400.
Черных В.В. Первые пожары и их происхождение // Известия Иркутского государственного университета. 2010. № 1. С. 97-105.
Bellomo R.V. A Methodological Approach for Identifying Archaeological Evidence of Fire Resulting from Human Activities // Journal of Archaeological Science. 1993. № 20. C. 525-553.
Бычков Д.А. Особенности археологизации следов горения в условиях подзолистых почв бассейна р. Большой Юган // Человек и Север: антропология, археология, экология : материалы всерос. науч. конф. Тюмень, 2018. № 4. С. 40-44.
Бычков Д.А., Волков П.В. Признаки контролируемого использования огня: по материалам поселений эпохи неолита и палеометалла в Северном Приангарье // Вестник Новосибирского государственного университета. Сер. История, филология. 2018. Т. 17, вып. 3: Археология и этнография. С. 92-99.
Павленок К.К., Белоусова Н.Е., Рыбин Е.П. Атрибутивный подход к реконструкции «операционных цепочек» расщепления камня // Вестник Новосибирского государственного университета. Сер. История, филология. 2011. Т. 10, вып. 3: Археология и этнография. С. 35-46.
Деревянко А.П., Цыбанков А.А., Постнов А.В., Славинский В.С., Выборнов А.В., Зольников И.Д., Деев Е.В., Присекайло А.А., Марковский Г.И., Дудко А.А. Богучанская археологическая экспедиция : очерк полевых исследований (2007-2012 годы). Новосибирск : Изд-во Ин-та археологии и этнографии Сиб. отд-ния Рос. акад. наук (ИАЭТ СО РАН), 2015. 564 с.
Васильевский Р.С., Бурилов В.В., Дроздов Н.И. Археологические памятники Северного Приангарья. Новосибирск : Наука, 1988. 224 с.
Тарасов А.Ю. Зобков М.Б. Энеолитические мастерские западного побережья Онежского озера: статико-планиграфический анализ // Труды Карельского научного центра РАН. 2015. № 8. С. 3-16.
Митько О.А. Двулезвийные кресала из археологических памятников Сибири и Дальнего Востока и их аналогии из Нуристана // Вестник Новосибирского государственного университета. Сер. История, филология. 2011. Т. 10, вып. 7: Археология и этнография. С. 246-255.
Steffen M., Mackie Q. An Experimental Approach to Understanding Burnt Fish Bone Assemblages within Archaeological Hearth Contexts // Canadian Zooarchaeology. 2005. № 23. С. 11-37.
Фернандес К.Т. Использование огня в массовых захоронениях неолита-энеолита: определение, попытка интерпретации и дифференциро ванная диагностика // Stratum plus. 2010. № 2. С. 261-267.
Нестерова М.С., Ткачев Ал.Ал. Очажные устройства в структуре поселенческих комплексов пахомовской культуры // Вестник археологии, антропологии и этнографии. 2011. № 1. С. 63-71.
Хаценович А.М., Рыбин Е.П., Гунчинсурэн Б., Олсен Д.В. Кострища стоянки Толбор-15: планиграфия поселения и деятельность человека в ранней стадии верхнего палеолита Монголии // Вестник Новосибирского государственного университета. Сер. История, филология. 2015. Т. 14, вып. 7: Археология и этнография. С. 38-49.
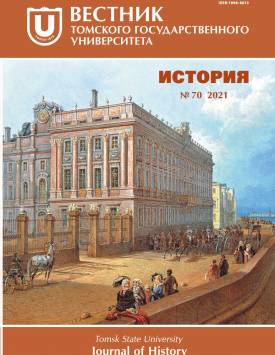

 Вы можете добавить статью
Вы можете добавить статью