Генерал-губернатор Восточной Сибири Н.Н. Муравьев-Амурский и положение о ламайском духовенстве 1853 г.
Продолжающаяся в XIX в. инкорпорация Сибири в Россию породила вопрос о колониальном положении Сибири в составе Российской империи, судьбах народов Сибири в составе России. Во взглядах на вновь присоединенные племена правительство руководствовалось в основном финансовыми соображениями. Однако окраинная политика империи на всех этапах отличалась известной гибкостью и поливариантностью, что являлось одним из важных условий сосуществования имперского ядра и окраинных территорий государства. Ярким примером такой практики стала конфессиональная политика одного из наиболее известных представителей генерал-губернаторского корпуса Азиатской России графа Н.Н. Муравьева-Амурского в Забайкалье, в частности разработка и принятие положения о ламайском духовенстве 1853 г., вплоть до конца империи определившего стандарты взаимоотношения государства и буддисткой церкви в России.
Nikolay Muravyov-Amursky as the governor-general of Eastern Siberia and the regulation on the lamai clergy in 1853.pdf Процесс вхождения Сибири в состав России начался в конце XVI в., носил весьма противоречивый характер и имел длительную историческую перспективу. Это было не только военное, но и административное и экономическое закрепление за Российской империей новых территорий и народов огромного Зауральского края. Дальнейшая инкорпорация Сибири в Россию породила проблему взаимоотношений периферии и государственного ядра, вопрос о колониальном положении Сибири в составе Российской империи, судьбах народов Сибири в составе России. Во взглядах на вновь присоединенные племена правительство руководствовалось в основном финансовыми соображениями. Однако окраинная политика империи на всех этапах отличалась известной гибкостью и поливариантностью [1], что являлось одним из важных условий сосуществования имперского ядра и окраинных территорий государства. Ярким примером такой практики стала конфессиональная политика одного из наиболее известных представителей генерал-губернаторского корпуса Азиатской России графа Н.Н. Муравьева-Амурского в Забайкалье, в частности разработка и принятие положения о ламайском духовенстве 1853 г., вплоть до конца империи определившего стандарты взаимоотношения государства и буддисткой церкви в России. Ко времени назначения Н.Н. Муравьева генерал-губернатором Восточной Сибири (1847) вверенное его правлению генерал-губернаторство представляло собой огромную территорию, раскинувшуюся от берегов Енисея на западе и до побережья Тихого океана на востоке. Дальнейшее продвижение России на Восток в значительной степени определялось властным влиянием на ее географическую конфигурацию, расположением управленческих центров, наличием институциональной структуры, мотивами и, что не менее важно, результатами ее деятельности. В этом смысле административное переустройство Восточной Сибири, затеянное Н.Н. Муравьевым, и образование Забайкальской области в 1851 г. [2; 3. С. 146] как нельзя более отвечали стратегическим замыслам генерал-губернатора по закреплению дальневосточных территорий в составе России. Дальнейшая инкорпорация Сибири в Россию со всей очевидностью порождала проблему взаимоотношений государственной власти с нерусскими народами окраинных территорий не только в аграрной политике, сфере административного, социокультурного устройства, но и в области религиозных отношений. Движение России к Великому океану неминуемо должно было опираться в том числе и на поддержку коренных народностей края. Историю взаимоотношений светских и духовных властей в России нельзя назвать безоблачной. Во времена петровских преобразований происходит замена патриархата Священным Синодом, и обязанности главы «первенствующей и главенствующей» церкви России стал выполнять назначаемый государством чиновник. Тем не менее православная церковь продолжала претендовать на эксклюзивное положение в государстве, а священнослужители на протяжении XVIII и XIX вв. добивались расширения своих сословных привилегий [4. С. 98-110]. Полиэтничность государства, как и религиозное многообразие подданных, по мнению московских, а впоследствии - петербургских властей, не рассматривалась как нечто ненормальное. Важен был факт принадлежности к определенной конфессии, что расценивалось как свидетельство наличия морали, порядка и послушания закону, пусть и с национальными очертаниями. Однако нельзя не признать, что все империи в конечном итоге стремятся к единообразию, в том числе и религиозному, источником которого должен быть сюзерен - монарх. Конфессиональная политика Российского государства в отношении сибирских «инородцев» была неразрывной составной частью имперской политики в Сибири в целом. В основе всех мероприятий самодержа- Л.М. Дамешек, И.Л. Дамешек 32 вия в церковной сфере в Азиатской России лежало признание большой политической и социокультурной значимости распространения православия среди «инородцев». Принятие православия аборигенами рассматривалось как составной элемент политики интеграции. В то же время это был и важный социокультурный процесс. Таким образом, в российской колонизационной модели восточных окраин империи политические и социокультурные цели взаимно дополняли друг друга. Окраинная политика империи отличалась прагматизмом и известной гибкостью [5. С. 87-110], однако это не означает, что имперские цели по насаждению «русского духа» на окраинах государства отходили на второй план. Конфессиональное разнообразие народов России рассматривалось правительством как вынужденное, временное явление. Принципиальные взгляды сибирской администрации на эту тему были изложены иркутским генерал-губернатором А.П. Игнатьевым в специальной «Программе деятельности генерал-губернатора Восточной Сибири и правительственных мероприятий в отношении этого края с 1887 г. и приблизительно на 10 лет» (см.: Библиотека РГИА. Печатные записки. № 131). Применительно к народам Сибири конечной целью программы, как отмечал сам автор, становилось «обрусение “инородцев”», полное подчинение их русскому законодательству [6]. Это предложение высокопоставленного чиновника, прозвучавшее при слушании его отчета в Комитете министров, настолько понравилось Александру III, что на полях документа он с восторгом написал: «Да! Весьма пора» [7]. В достижении этой цели сторонники «обрусительного» направления в политике по отношению к народам Сибири немаловажную роль отводили православию. Даже в конце XIX в. в Восточной Сибири нередки были случаи массового крещения бурят по различным «поводам», «случаям» и т.д. В 1891 г. в Иркутской губернии, в аларских степях, в связи с проездом цесаревича Николая Александровича развернулась массовая кампания по крещению бурят. В Петербург прибыла с жалобами целая бурятская делегация. Она не была принята царем, но слухи об этих безобразиях проникли в печать. Даже князь В.П. Мещерский, издатель консервативного «Гражданина», по этому поводу замечал, что слухи эти «весьма неутешительны», а религиозные преследования в Прибайкалье напоминают «самые лютые времена» [8. С. 130]. Однако в соседней - Забайкальской - области религиозная политика государства по отношению к бурятам была иной. Отсутствие четко обозначенной цинской границы, пограничной стражи, традиционное кочевое скотоводство бурятских племен, требовавшее постоянного перемещения на больших земельных пространствах, наконец, мощные, сложившиеся на протяжении веков буддистские традиции понуждали правительство при выработке конфессиональной политики в этом специфическом регионе империи мыслить категориями не только религиозного, но внешнеполитического порядка. Последний фактор напрямую соприкасался с экономическими интересами России в этой части Азии, связанными с сохранением статус-кво в области выгодной для России торговли с Китаем. В условиях нарастающей активности Великобритании в регионе, зачастую недружественной политики последней на Дальнем Востоке «ламский вопрос» становился еще одной опорной базой для продвижения интересов России в Приамурье. В Восточной Сибири буддизм стал распространятся с середины XVII в. Русский посол в Китае Николай Спафарий во время своего трехлетнего путешествия по Сибири тщательно вел дневник, в котором применительно к Забайкалью 70-х гг. XVII в. отмечал наличие «ламских юрт» в долине р. Селенг [9. С. 169]1. Однако только после формального определения границы России и Китая в 1727 г. царское правительство приступило к регламентации положения буддистов в России. Первым нормативным актом российского правительства в этом отношении стала «Инструкция пограничным дозорщикам» 1728 г. С.Л. Владиславича-Рагузинского, которая четко определила автокефалию еще не существовавшей буддийской церкви и предписала готовить лам исключительно из среды местного бурятского населения [10. С. 32-36]2. В 1741 г. указом императрицы Елизаветы Петровны буддизм был официально признан одним из вероисповеданий России и утверждены штаты буддийского духовенства. В 1822 г. Устав об управлении инородцев М.М. Сперанского подтвердил право сибирских инородцев на свободу вероисповедания [11]. Однако наступательное движение русской православной церкви на народы Сибири, с одной стороны, и сокращение доходности края - с другой, породили в определенных кругах российской администрации сомнения в правильности такой политики. Растущие недоимки в Забайкалье, неприятие бурятами православия стали связывать с быстрым ростом числа лам (в середине XIX в. общее число жителей-буддистов достигло 125 тыс. человек, а число священнослужителей 4 556) и освобождением последних от уплаты налогов. Именно поэтому в 30-х гг. XIX в. возник ряд проектов по ужесточению политики в отношении буддийской церкви в Забайкалье. Естественно, Н.Н. Муравьев при разработке своих вариантов решения буддийского вопроса должен был учитывать ранее высказанные суждения, тем более что они исходили от высокопоставленных чиновников министерства внутренних дел (проекты камер-юнкера Левашова и генерал-губернатора Восточной Сибири А.С. Лавинского). В то же время он хорошо сознавал, что насильственные меры по ограничению связи бурят-буддистов с сопредельными монгольскими племенами не только приведут к падению престижа империи в этом отдаленном от центра страны крае, но и могут породить сепаратистские настроения, возбудить «ропот» среди бурят -в этом до сих пор «робком... покорном и совершенно довольном своим положение народе». В итоге в 1853 г. было принято «Положение о ламайском духовенстве Восточной Сибири». Положение утверждало 285 штатных лам и 34 дацана, все остальные должности объявлялись вне закона. В своих основных чертах это положение действовало до конца романовский империи. Запретительные черты, ограничивающие связь забайкальских лам с Монголией, диктовались интересами Генерал-губернатор Восточной Сибири Н.Н. Муравьев-Амурский 33 дальневосточной политики России. Монголия, входившая в состав Маньчжурской империи, рассматривалась правительством как возможный потенциальный противник усиления позиций России на Дальнем Востоке. В то же время на практике запретительные меры не достигли желаемых результатов. Ламаизм во второй половине XIX в. стремительно распространяется в Забайкалье. В эпоху контрреформ 1880-1890-х гг. на всероссийских съездах миссионеров стали открыто раздаваться требования по пересмотру положения 1853 г. в сторону ужесточения. Первый такой съезд состоялся в Иркутске летом 1885 г. [12]. В его работе приняли участие высшие сибирские иерархи: архиепископ Иркутский Вениамин, епископы Томский - Владимир, Енисейский - Исаакий, Селенгинский - Мелетий, Ки-ренский - Макарий. Кроме того, в работе съезда участвовали генерал-губернатор Восточной Сибири А.П. Игнатьев, военный губернатор Забайкальской области Я.Ф. Барабаш, исполняющий должность Иркутского гражданского губернатора Петров. Заседания съезда были открытыми лишь частично, «чтобы не возбуждать неблагонамеренных толков» среди бурят. Архиепископ Вениамин, наоборот, выступал за проведение открытых заседаний, дабы буряты поняли, «чего должно ждать от них христианское правительство» и не надеялись на продолжение покровительственной политики по отношению к ламаизму. Подлинные причины пристального внимания участников съезда к этому вопросу были без обиняков сформулированы на первом же заседании. «Этого требует, - констатировал съезд, - великая и высокая важность обращения инородцев к христианству во всех отношениях - и в религиозно-нравственном, и в гражданском, как верный шаг к объединению их с русским народом и обрусению». В 1892 г. в Петербурге с целью выработки общих организационных и идеологических мероприятий состоялось «особое совещание о мерах к облегчению христианской проповеди в Забайкалье». В совещании участвовали обер-прокурор Синода К.П. Победоносцев, министр внутренних дел И.Н. Дурново, приамурский генерал-губернатор А.Н. Корф. Участники совещания признали «существенно необходимым» переработать положение 1853 г. в сторону ужесточения [13. С. 21-22]. Однако, несмотря на все усилия ведомства К.П. Победоносцева по ограничению влияния буддизма в Забайкалье, Министерство иностранных дел последовательно занимало противоположную позицию, предпочитая стабильную внешнеполитическую ситуацию в регионе, усиление влияния России в сопредельных буддистских странах - Монголии и Китае -сомнительным успехам распространения православия в регионе. Подобная практика объясняется в первую очередь геополитическим соображениями: стремлением обеспечить прочность границ с сопредельными странами, воспрепятствовать захвату приграничных территорий соперниками или включить эти территории в сферу влияния недружественных России государств. Для осуществлена этих целей требовалась поддержка всех проживающих на данной территории народов. Такая политика являлась прежде всего отражением стратегических и внешнеполитических интересов российского правительства, ибо вплоть до конца XIX в. именно эти факторы, а не соображения экономического порядка, определяли основой вектор внешнеполитической деятельности государства [4, 13]. ПРИМЕЧАНИЯ 1 Дневник Н. Спафария был опубликован Ю.А. Арсеньевым в 1882 г. См.: Записки русского географического общества по отделению этнографии. Т. X, вып. I. СПб., 1882. 2 Подробнее см.: Дамешек Л.М. Потестарные институты власти народов Сибири и их эволюция в административную систему империи в XVIII в. (К 280-летию со дня издания Инструкции пограничным дозорщикам С.Л. Владиславича-Рагузинского и 250-летия именного указа Сенату «Об отправлении капитана Щербачева в Сибирь...» // Вестник Бурятского научного центра Сибирского отделения Российской академии наук. 2013. № 2 (10). С. 68-77.
Ключевые слова
инородцы,
коренное население,
ламаизм,
религия,
генерал-губернатор,
управление,
окраины,
империя,
Сибирь,
РоссияАвторы
| Дамешек Лев Михайлович | Иркутский государственный университет | доктор исторических наук, профессор, заведующий кафедрой истории России | levdamshek@gmail.com |
| Дамешек Ирина Львовна | Иркутский государственный университет | доктор исторических наук, профессор кафедры истории и методики Педагогического института | dameshek@rambler.ru |
Всего: 2
Ссылки
РГИА. Ф. 381. Оп. 22. Д. 189. Л. 1, 7 об.
Каппелер А. Россия - многонациональная империя. Возникновение, история, распад. М. : Прогресс, 1996. 342 с.
ПСЗРИ. Собрание I. СПб. : В тип. II отделения собственной Е.И.В. канцелярии, 1830. Т. 38. С. 394-416. № 29126. Ст. 288.
История Бурятии : в 3 т. Улан-Удэ : Бурят. науч. центр Сиб. отд-ния РАН, 2011. Т. II. 621 с.
Историческая записка о китайской границе, составленная советником Троицко-Савского пограничного правления Сычевским в 1846 году. М. : В университетской тип., 1875. 292 с.
РГИА. Ф. 1284. Оп. 223. Д. 200. Л. 12, 12 об.
Зайончковский П.А. Российское самодержавие в конце XIX столетия. Политическая реакция 80-х - начала 90-х годов. М. : Мысль, 1970. 442 с.
Российский государственный исторический архив (РГИА). Ф. 391. Оп. 1. Д. 73. Л. 9.
Дамешек Л.М., Дамешек И.Л. Сибирь в системе имперского регионализма. (1822-1917 гг.) // Дамешек Л.М. Избранное. Иркутск : Оттиск. 2018. Т. I. 456 с.
Миронов Б.Н. Социальная история России периода империи (XVIII - начало XX в.) : в 2 т. СПб. : Дмитрий Буланин, 2003. Т. 1. 548 с.
Дамешек И.Л. Сибирь в системе имперского регионализма (компаративное исследование окраинной политики России в первой половине ХІХ в.). Иркутск : Оттиск, 2002. 208 с.
Полное собрание законов Российской империи (ПСЗРИ). Собрание второе. СПб. : В тип. II отделения собственной Е.И.В. канцелярии, 1852. Т. 26. С. 476-483. № 25394, 25395.
Дамешек Л.М., Дамешек И.Л. Азиатское приграничье и внешнеполитические полномочия генерал-губернаторов Азиатской России // Вест ник Томского государственного университета. 2019. № 61. С. 21-25.
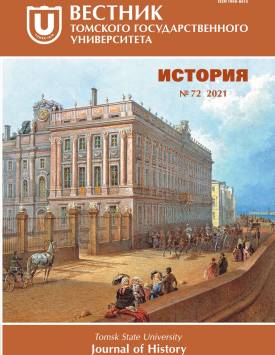

 Вы можете добавить статью
Вы можете добавить статью