Предпринята попытка проанализировать феномен тюремного террора начала ХХ в., проявившийся в многочисленных нападениях революционеров на сотрудников пенитенциарной системы Российской империи. Делаются выводы о том, что в народнический период нападения характеризовались исключительно «оскорблениями действием», а покушения на жизнь сотрудников начались с 1906 г. Основными побудительными причинами и факторами тюремного террора стали мстительные мотивы революционеров и апелляции к обществу, а также репрессивный характер царской тюремной системы.
Prison terror of revolutionaries in the Russian Empire.pdf Проблематика тюремной системы России вызывает постоянный интерес у исследователей. Специфика режима заключения, проблемы структурной организации, ведомственной принадлежности и финансирования, сословная, социальная и политическая регламентация пенитенциарной системы являются предметом научной дискуссии исследователей. К актуальным вопросам можно отнести и феномен «тюремного террора», проявившийся в многочисленных актах революционного экстремизма против сотрудников пенитенциарной системы Российской империи начала ХХ в. Этот вопрос ранее затрагивался в исследованиях, посвященных революционному терроризму начала ХХ в., в первую очередь в работах К.Н. Морозова [1], Э.Р. Ка-дикова [2] и др. В данной публикации автором предпринята попытка, помимо фактологического отражения феномена, проанализировать причины и факторы его появления и распространения. Обвинения царизма в необоснованных репрессиях и «непропорциональном» насилии по отношению к оппозиционному движению и его участникам звучали всегда, и этому есть достаточно подтверждений. Наиболее выраженно в XIX в. репрессивные механизмы борьбы с общественным и революционным движением проявились в ходе расследований по делу «хождения в народ» («процесс 193-х»). Вопиющим фактом является то, что в течение трех лет предварительного следствия по этому делу в тюрьмах скончались и покончили с собой 55 и сошли с ума 38 подследственных. Несоответствие следственных действий и мер совершенному деянию вынужден был фактически подтвердить и суд, оправдавший 80 обвиняемых, но которых царь, несмотря на решение суда, подверг административной ссылке. Многочисленные нарушения закона, несоблюдение процессуальных норм и судебных процедур в ходе рассмотрения дела, несмотря на усилия адвокатов и самих подсудимых, остались без надзорных последствий, судебного или административного расследования. Примером жестокого и внеправового насилия, получившего широкую революционную и общественную известность, стало и телесное наказание осужденного А.П. Емельянова (Боголюбова) по приказу генерала Ф.Ф. Трепова (25.07.1877). Революционным ответом на порку Боголюбова стало известное покушение В.Н. Засулич на градоначальника (24.01.1878). В сговоре с Засулич находилась народоволка М.А. Колен-кина, которая должна была одновременно совершить покушение на прокурора «процесса 193-х» В.А. Желе-ховского, но не имела возможности с ним встретиться. Помимо этого покушения, ссылаясь на вынужденный и защитный характер своих действий, обвиняя сотрудников царской прокуратуры в насилии и желая этими покушениями обратить внимание общественности на происходящее беззаконие, народники предприняли еще два нападения: неудачное покушение на киевского товарища прокурора М.М. Котляревского (23.02.1878) и убийство генерал-прокурора Южного края, военного прокурора г. Одессы В.С. Стрельникова (18.03.1882). Все эти прецеденты были совершены в отношении сотрудников или чиновников, связанных с судебной системой самодержавия. Характерно, что из более 30 убийств и покушений, осуществленных народниками во второй половине XIX в. на предателей-провокаторов, разного уровня государственных служащих и самого императора, нет ни одного террористического покушения на служителей тюрем. Связано это с тем, что в программных народнических положениях тюремщики как политические объекты возможных террористических атак не значились. По отношению к тюремным служащим преимущественное значение приобрел революционный мотив личной мести, который реализовывали исключительно сами осужденные. Из ограниченных для заключенных форм протеста и борьбы использовалось только физическое оскорбление, конкретно - пощечина. Именно пощечина в XIX в. стала самым распространенным способом сопротивления и порицания деспотической тюремной власти. Юридически пощечина могла быть отнесена к «оскорблению действием должностных лиц при отправлении ими служебных обязанностей» и по Уложению уголовных наказаний 1845 г. могла караться жестоко, вплоть до смертной казни. А так как скрыть судебный приговор вследствие этого происшествия тюремные власти не имели возможности, то такие протесты выступали и опосре- Тюремный террор революционеров в Российской империи 45 дованной апелляцией к общественному мнению в защиту участи политзаключенных. При этом стоит учитывать, что по разным причинам это «оскорбление действием» тюремщиков не всегда доходило до судебного рассмотрения. Для революционной России конца XIX в. тюремные протесты являлись новой формой борьбы. Политзаключенные всеми способами старались отделить себя от осужденных по уголовным статьям, а свое отличие от уголовных преступников подчеркнуть. Борясь против жестокого тюремного режима, отстаивая право осужденных на личное достоинство и требуя его уважения от тюремных служащих, политзаключенные решались на изматывающие голодовки, самоубийства и «оскорбление действием». Так, пощечину от арестанта Алексеевского равелина Петропавловской крепости С.Г. Нечаева заслужил в 1875 г. шеф корпуса жандармов А.Л. Потапов. Организатор кружка «сиби-ряков-автономистов» А.В. Долгушин влепил в 1881 г. оплеуху смотрителю Красноярского острога. В 1882 г. на пощечину решилась Е.Н. Ковальская, «оскорбившая действием» начальника иркутской тюрьмы и в наказание закованная в наручники [3. С. 468]. 26 октября 1883 г. дал пощечину генерал-губернатору Восточной Сибири Д.Г. Анучину арестант иркутской тюрьмы К.Г. Неустроев. В 1884 г. в Шлиссельбургской тюрьме Е.И. Минаков (24.08) ударил по лицу врача-садиста Н.И. Заркевича, а И.Н. Мышкин (24.12) бросил миску в смотрителя М.Е. Соколова, за что оба были по приговору суда расстреляны. В 1889 г. пощечина, данная коменданту каторги В.П. Масюкову, явилась прологом к «карийской трагедии». 31 августа народоволка Н.К. Сигида ударила коменданта, надеясь вызвать этим его отставку. Однако вместо этого она была подвергнута порке розгами (07.11). Протестуя против применения телесного наказания к политзаключенной, в ту же ночь покончили жизнь самоубийством униженная и оскорбленная Сигида, каторжницы М.П. Ковалевская, М.В. Калюжная, Н.С. Смирницкая. В мужской тюрьме в знак протеста и солидарности с заключенными женщинами яд приняли 16 политзаключенных (12.11), из которых И.В. Калюжный и С.Н. Бобохов скончались. Трагедия стала известна не только российской, но и мировой общественности. Власть распорядилась более телесные наказания к заключенным женщинам не применять, а Карийскую каторгу ликвидировать [4]. В 1902 г. заключенная Шлиссельбургской крепости В.Н. Фигнер сорвала погоны со смотрителя в знак протеста против очередного ужесточения тюремного режима. Можно отметить, что для пострадавшего от пощечины должностного лица в XIX в. такое оскорбление могло означать символическую «публичную казнь», что и произошло с генерал-губернатором Анучиным. После приговора и казни К.Г. Неустроева местное общество объявило губернатору Анучину обструкцию игнорированием так, что ему пришлось покинуть Иркутск [5. С. 138]. При всем этом за весь XIX в. не известно ни одного покушения со стороны революционеров на жизнь работников пенитенциарной системы. Кардинальным образом ситуация изменилась в начале ХХ в. Первая российская революция 1905-1907 гг. оказалась следствием системного кризиса российского общества и государства. Кризис усугубился резким ростом революционного, националистического и социального экстремизма. Правительство под нажимом общественного и революционного движения начало проводить насущные экономические и политические реформы. Одновременно с этим для разрешения актуального общественно-политического противостояния оно расширило комплекс репрессивных мер, в том числе и внеправового характера. Политическая нестабильность и неопределенность первой половины 1905 г. сказались на пенитенциарных учреждениях. В этот период политических вольностей и послаблений в тюрьмах нередки были ситуации, когда в политических камерах днем не закрывались двери, посетители с воли могли бесконтрольно и неоднократно общаться с задержанными, а те неограниченно выписывали себе из магазинов продукты. Однако выбранный в конце 1905 г. карательно-репрессивный курс правительства быстро сказался и на местах заключения: начинается борьба тюремной администрации с «вольным поведением политических заключенных», увольняются прежние «мягкотелые» сотрудники, ужесточается режим пребывания. Для многих политарестантов эти изменения оказались шокирующими. Кроме того, резко ужесточаются меры наказания за нарушения тюремного режима, а политические статьи приговора только еще более усугубляют критическое отношение персонала к осужденным. Эти изменения вызывают протестные акции как в стенах заключения со стороны осужденных, так и на свободе со стороны гражданской общественности. Причем, и это стало особенностью ситуации, характер режима в местах заключения и его нюансы, несмотря на имеющиеся ведомственные инструкции и положения, преимущественно определялись местной администрацией и персоналом конкретной тюрьмы. Как отмечал спустя два десятилетия завсегдатай царской тюрьмы революционер К. Адамович, «тюремный режим не есть нечто неизменное. Он различен для различных тюрем в разное время и в различных обстоятельствах» [6. С. 6]. В это время в обществе начинает формироваться сугубо критическое отношение к служащим судебно-исполнительной системы, а на жизнь самих служащих предпринимаются многочисленные покушения. В дальнейшем на долгие годы «тюремный террор» становится одной из наиболее выраженных составных частей революционного экстремизма, а режимные вопросы и положение политзаключенных - постоянной конфликтной темой для местной и государственной власти. Отправной точкой этого террора, вероятно, стоит признать издевательства над эсеркой М.А. Спиридоновой. Совершившая покушение на тамбовского губернского советника Г.Н. Луженовского (16.01.1906) Мария Спиридонова была избита, подвергнута жестокому допросу и издевательствам со стороны подъесаула П.Ф. Абрамова (Авраамов, Аврамов) и помощника пристава Т.Х. Жданова. Переданное на волю ее откровенное, описывающее страдания письмо было перепечатано в газетах [7]. Поднялась невиданная с «дела Боголюбова-Засулич» волна общественного негодова- О.Н. Квасов 46 ния, а Спиридонова стала символом и «великомученицей» революции 1905 г. Власть вынуждена была открыть служебное расследование, которое шло вызывающе медленно и закончилось предсказуемым опровержением «домыслов» террористки [8]. ЦК ПСР санкционирует теракты против Абрамова (02.04.1906) и Жданова (04.05.1906), которых застрелили партийные боевики. Эсеровская печать мстительное обоснование убийств перемежала аргументами «общественного правосудия» и справедливости. Такую форму осуществления «правосудия» одобрительно приняло не только революционное подполье, но и - с «пониманием» - значительная часть общественности. Так, в одной из столичных газет указывалось: «Не ради торжества чувства мести требовало русское общество суда над Аврамовым и Ждановым, - но ради принципа воздаяния по закону преступнику... Убийство Жданова -только результат правительственного безначалия. Жданов убит потому, что наша власть до того убила закон, который мог бы защитить народ от преступных посягательств Жданова» [9]. Позже на этих же аргументах настаивали эсеры в прокламации, объясняющей причины убийства начальника Нерчинской каторги Ю.И. Метуса (28.05.1907), указывая, что это был «единственный ответ на действия правительства, ибо другой путь - путь запроса народных представителей в Государственной думе об ужасах, которые творил Метус с присными в Акатуе и Алгачах над заключенными - не привел ни к чему» [10. С. 58]. Огромный по объему массив воспоминаний о царских застенках позволяет даже спустя десятилетия увидеть, насколько болезненно «царские университеты» запечатлелись в памяти людей. В годы революции каждое оппозиционное издание старалось акцентировать и конкретизировать жестокости царского режима. В 1920-1930-е гг., помимо многочисленных отдельных мемуаров, в стране выходят специализированные журналы «Каторга и ссылка», «Пролетарская революция», «Кандальный звон» и другие, призванные в том числе собрать, сохранить и изучить воспоминания революционеров о царской тюрьме. Этот очень значительный по объему материал позволяет заключить, что для революционеров именно в образе «тюремщиков» сконцентрировались все самые тенденциозные и отвратительные черты самодержавной системы. Именно в первой половине 1906 г. поднялась волна покушений на тюремных служащих. Весной 1906 г. в Риге убит «исключительно жестокий» помощник начальника уездной тюрьмы [11. С. 189]. 13 мая смертельно ранен в Саратове начальник губернской тюрьмы Шаталов [12. Л. 40, 56-57]. Характерно, что замечания о жестоких порядках начальнику саратовской тюрьмы делались даже со стороны местного прокурора [11. С. 63]. Особый размах приобрел тюремный террор в северо-западных губерниях империи. 6 июня ранения получил в результате взрыва брошенной в него бомбы начальник ковенской тюрьмы Гумберт [14. С. 48-53], смертельно ранен помощник начальника радомской тюрьмы И.Ф. Пурский (01.07.1906) [15. Т. 4. С. 100-105], застрелен начальник гродненской тюрьмы С.А. Дружиловский (25.07.1906) [Там же. Т. 5. С. 122-124]. К концу года накал противостояния возрастает на столько, что агрессивная сторона начинает все более активно использовать взрывчатые вещества. 17 октября во двор санкт-петербургской одиночной тюрьмы брошена бомба «огромной разрушительной силы», которая по счастливой случайности не взорвалась [16]. 19 ноября в дымовую трубу квартиры начальника екатеринбургской тюрьмы Г.В. Кадомцева подброшена бомба, от взрыва которой разрушена вся печь, но начальник остался невредим [17. С. 168-170]. Наряду с тюремным террором начинает множиться «судебный террор». Жестокие военно-судные приговоры не только шокируют общественность, но и вызывают ответную реакцию жестокости и мести со стороны революционных организаций. К наиболее крупным «судебным» терактам 1906 г. относят убийство эсерами главного военного прокурора генерал-лейтенанта В.П. Павлова (27.12.1906). Многочисленные свидетельства дают основание утверждать, что страх революционной мести на долгое время увязался за служащими тюрем и мест заключения. Так, убийство Абрамова настолько повлияло на начальника борисоглебской тюрьмы, что, как замечал местный революционер-арестант, «режим в тюрьме сразу же послабел. На другой же день начальник разрешил широкое свидание заключенных политиков с родственниками и полную передачу пищи и вещей» [18. С. 14-15] . А убийство начальника саратовской тюрьмы внесло «заметное смятение в ряды распоясавшихся насильников, и некоторое время никто из них не осмеливался сесть твердо и прочно на место Шаталина, памятуя роковой финал этой славной карьеры» [19. С. 189]. По мнению же эсерки-каторжанки М. Школьник, после убийства начальника Нерчинской каторги Ю.И. Метуса (28.05.1907) и начальника Акатуйской каторжной тюрьмы С.А. Бородулина (28.08.1907) «режим на каторге стал много лучше и оставался таким до 1910 г.» [20]. Тюремный террор приобрел особый размах в следующем году, что нашло отражение и в революционно-партийной печати. Так, после убийства 15 октября 1907 г. начальника Главного тюремного управления А.М. Максимовского эсеровская печать с восторгом перечисляла: «.не один уже из тюремных злодеев поплатился жизнью. Бородулин и Метус, Гудимо и Иванов в Петербурге, Прибыловский в Астрахани, Желтовский в Луцке, Савич в Феодосии, Смирнов в Красноярске, Симбирский в Двинске, Сафарук в Одессе, Богоявленский в Тобольске, Триятский в Симбирске, Шакалов в Саратове, Г рецкий в Кельцах, Струков в Туле и многие другие уже пали от руки революционеров. Вечная слава члену Партии, молодой девушке Рагозинниковой, сразившей Максимовского!» [21]. Это сообщение позже будет перепечатано многими эсеровскими провинциальными изданиями. В сообщении перечисляются следующие события: начальник Саратовской тюрьмы Шакалов убит 13.05.1906; начальник Дерябинской временной тюрьмы Н.И. Гудимо убит 17.01.1907 в Санкт-Петербурге; начальник Астраханской тюрьмы Н.Я. Прибыловский убит 09.03.1907; начальник Луцкой тюрьмы (Волынская губ.) Желтов- Тюремный террор революционеров в Российской империи 47 ский ранен 24.03.1907; начальник Одесской тюрьмы Шафарук убит 11.04.1907; начальник Нерчинской каторги генерал Метус убит 28.05.1907; покушение на начальника Красноярской тюрьмы Смирнова совершено 23.06.1907; смотритель Тобольской каторжной тюрьмы А.Г. Богоявленский убит 26.07.1907; начальник Келецкой тюрьмы Н.И. Грецкий убит 27.07.1907; начальник Петербургской одиночной тюрьмы А.А. Иванов убит 13.08.1907; начальник Акатуевской тюрьмы С.А. Бородулин убит 28.08.1907 в г. Пскове; помощник начальника Симбирской тюрьмы Триятский убит 23.07.1907 во время массового бунта. О Савиче, Симбирском и Струкове сведений обнаружить не удалось. Помимо этого, в 1907 г. в результате покушений был убит уфимский тюремный инспектор Кольбе (19.02.1907) , ранены начальник тверской тюрьмы Зверев (29.01.1907), помощник начальника ростовской тюрьмы Щербаков (09.04.1907), смертельно ранен надзиратель тамбовской тюрьмы В.Д. Куйденко (01.05.1907) , а также совершены неудачные покушения на начальников тамбовской тюрьмы Козьмина (03.03.1907) и Петербургской одиночной тюрьмы Ма-хмут-бека (13.10.1907). Прямо на московской улице было совершено вооруженное нападение неизвестных на трех тюремных надзирателей, один из которых был убит (09.05.1907). В следующем году покушения на тюремных служащих продолжились. Были убиты прямо на улице -в Перми помощник начальника губернской тюрьмы А.Н. Калагов (06.03.1908), а в Оренбурге помощник губернского тюремного инспектора А.П. Вишневский (28.10.1908) . В обоих случаях следствие оказалось безрезультатным. Революционные события начала века породили еще одно новшество - вооруженные нападения политических заключенных на служащих внутри тюрем. Несмотря на очевидную угрозу высшей меры наказания, возмущенные произволом тюремной администрации арестанты стали прибегать к насильственным акциям. Для этого использовались не только подручные средства камер, но и специально доставленное с воли оружие. Так, находящаяся в Московской пересыльной тюрьме эсерка Фрума Фрумкина, даже выяснив нежелание сокамерниц участвовать в покушении на начальника тюрьмы Багрецова, явившись к нему на прием, произвела в него выстрел из спрятанного револьвера (30.04.1907). В той же пересыльной тюрьме «известный социалист-революционер Максим Бердягин, хороший друг Фрумкиной, сидя в общей камере, бросился во время обыска на помощника Северина с ножом в руках, легко ранив его в шею» [22. С. 94]. В марте 1909 г. в этой же тюрьме анархист К. Бузульчук с ножом в руках напал на помощника начальника тюрьмы Сердюкова, в результате чего тот получил легкое ранение, а террорист погиб. В свою очередь, и жестокое отношение к заключенным в некоторых тюрьмах становилось вопиющим. Так, только в печально знаменитой Орловской каторжной тюрьме в 1908 г. (первый год каторги) из 795 заключенных замучен был 91 человек, или около 11,5% общего состава каторжан, в 1909 г. - 70 человек, или 10%, в 1910 г. - 88 человек, или 10%, в 1911 г. - 114 человек из 750, или более 15%, за 9 месяцев 1912 г. - 74 из 717 заключенных; туберкулезом болело более 15% заключенных политкаторжан [23. С. 34-41]. Сопротивление ужесточению тюремного режима приобретало часто коллективный характер, в ответ на него со стороны тюремной администрации следовали репрессивные меры уже коллективной ответственности, подчас чрезмерно жестокие и внеправовые. На эти суровые акции «наведения должного порядка» революционные партии, в свою очередь, считали необходимым отвечать «революционным приговором». Так, смертельное ранение начальника саратовской тюрьмы произошло после того, как по распоряжению Шаталова в наказание за обструкцию, устроенную арестантами одиночных камер, «заключенные растаскивались казаками по карцерам и многие по дороге нещадно избивались плетьми» [19. С. 189]. За жестокое подавление массового протеста в Вологодском централе, в ходе которого двое заключенных были убиты и 76 высечены, устраивается покушение на жизнь местного тюремного инспектора А.Е. Ефимова (15.04.1911). Само покушение было санкционировано ЦК ПСР и осуществлено специально присланным «летучим боевым отрядом». Организатору и исполнителю акции эсерке Л.И. Рудневой удалось скрыться с места преступления [24. С. 135-141]. Анархисты планировали взорвать комплекс административных и жилых зданий Орловского централа, но в завершающей стадии подготовки от акции отказались из-за огромного числа возможных жертв среди родственников тюремных служащих. Позже членом Сибирского летучего боевого отряда эсеров Б.И. Лагуновым, также с санкции ЦК ПСР, будет совершено покушение на начальника Зерентуй-ской каторги И.И. Высоцкого (18.08.1911), повинного в смерти кумира партии Е.С. Созонова. Высоцкий будет ранен, а Лагунов приговорен к смертной казни, замененной двадцатью годами каторги. Таким образом, можно наблюдать, как взаимными усилиями еще сильнее раскручивалась «кровавая воронка насилия». Исследователь А.П. Михеев, ссылаясь на имеющиеся в отчетах Главного тюремного управления данные о количестве убитых тюремных служащих, указывает, что с 1906 по 1913 г. при разных обстоятельствах насильственная смерть настигла 97 представителей начальствующего состава тюрем и надзора. Особо выделяются в этой печальной статистике четыре года -1906, 1907, 1910 и 1911, когда были убиты 11, 33, 12 и 18 человек соответственно [25. С. 224]. Цифры, по всей видимости, заниженные, так как в журнале министерства юстиции, в структуру которого входило и ГТУ, только за 1907 г. указывалось: «В этом году были убиты: начальник Главного тюремного управления А.М. Максимовский, один губернский тюремный инспектор, начальник Нерчинской каторги, начальник и 2 смотрителя сибирских тюрем, 5 помощников начальников тюрем, 126 чинов тюремной стражи» [26. С. 169], а еще 169 служащих тюремного ведомства получили ранения [27. С. 31]. Таким образом, характер экстремистских эксцессов против тюремных служащих и их количество дают О.Н. Квасов 48 основание говорить об исключительном всплеске тюремного террора в начале ХХ в. В числе факторов и причин, вызвавших его появление, исследователи в первую очередь выделяют репрессивность режима пенитенциарных учреждений, мстительные мотивы преступников (особенно с декабря 1905 г.) и исторические обстоятельства особого накала общественнополитического кризиса Первой российской революции 1905-1907 гг. Во-вторых, отсутствие единого правового и режимного порядка в тюрьмах и - шире- централизованного администрирования местами лишения свободы в империи. В-третьих, что немаловажно, многочисленные факты произвольного ужесточения тюремного режима по инициативе местной администрации. И в-четвертых, существование режимных льгот и привилегий, наличие сословной системы и разделение в местах заключения политических и уголовных преступников. Совокупность этих факторов повлияла на то, что в общественном, а тем более революционном, сознании царский тюремный служащий ассоциировался с худшими представителями власти, а сама пенитенциарная система, и в частности тюрьма, стала символом самодержавия. Представленные выше факты позволяют сделать, помимо историографических выводов о глубоком социальном и государственном кризисе российского общества начала ХХ в., выводы и практического характера. Во-первых, очевидно, что судебноисполнительная система (в том числе и пенитенциарная) ассоциируется с административной властью, а при определенных исторических и политических обстоятельствах подчас становится символическим ее выражением. Это втягивает пенитенциарную систему в несвойственную ей идеологическую борьбу и социальные противоречия. Во-вторых, в административном отношении необходимо наличие единообразного правового режима, применяемого универсально и равно ко всем категориям осужденных. В свою очередь, служащим тюремно-исполнительной системы необходимо иметь ровное, одинаковое и нейтральное отношение ко всем осужденным.
Звягинцев А.Г., Орлов Ю.Г. В эпоху потрясений и реформ. Российские прокуроры 1906-1917. М. : РОССПЭН, 1996. 432 с.
Михеев А.П. Тобольская каторга. Омск, Наука, 2007. 343 с.
Лучинский Н.Ф. Наши тюремные и тюремно-благотворительные учреждения // Журнал Министерства юстиции. 1910. № 1. С. 165-197.
Никитина Е.Д. Покушение на тюремного инспектора Ефимова // Каторга и ссылка. 1927. № 2 (21). С. 135-141.
Салтык Г.А. Каторга и ссылка в судьбе неонародников Центрального Черноземья: 1908-1916 гг. // Ученые записки : электронный научный журнал Курского государственного университета. 2008. № 3.
Школьник М.М. Жизнь бывшей террористки. URL: http://www.memo.ru/nerczinsk/szkol6.htm
Труд : орган Петербургского комитета и Совета Рабочего союза. 1907. № 17, окт.
Брильон И.Н. На каторге : воспоминания революционера. М. ; Л. : Московский рабочий, 1927. 207 с.
Коротков И. В Саратовской тюрьме // Каторга и ссылка. 1923. № 6 (6). С. 189-199.
Залежский В.Н. На партийном фронте между двумя революциями. М. : Л. : Печатный двор, 1925. Ч. 1: В эпоху реакции (1906-1912 гг.). 92 с.
Русское слово. 1906. 20 окт.
Сухоруков С. История Екатеринбургской тюрьмы // Урал. 2007. № 12. С. 148-224.
Книга русской скорби. СПб. : Типо-лит. Невский, 136, 1910. Т. 4. 197 с.; Т. 5. 176 с.
Киселев А.А. Бомба для генерал-губернатора. Революционный террор и чиновники МВД Белорусских губерний в 1905-1907 гг. // Белорусская думка. 2008. Июнь. С. 48-53.
Карнишин В.Ю. Общественно-политический процесс в Поволжье в начале XX века. Пенза : Изд-во Пенз. гос. техн. ун-та, 1992. 132 с.
Российский государственный исторический архив (РГИА). Ф. 1328. Оп. 2. Д. 15.
Крастынь Я.П. Революция 1905-1907 гг. в Латвии. М. : Изд-во АН СССР, 1952. 243 с.
Русь. 1906. 12 февр. № 27.
Заключение о прокурорском надзоре // Русское государство. 1906. 8 апр.
Голос. 1906. 5 мая.
Кадиков Э.Р. Эсеровский террор в Сибири в начале ХХ в. // Вестник Омского университета. Сер. Исторические науки. 2016. № 1 (9). С. 42-69.
Троицкий Н.А. Царизм под судом прогрессивной общественности: 1866-1895 гг. М. : Мысль, 1979. 350 с.
Адамович К. Отбитая тюрьма. М. : Изд-во Всесоюзного общества политкаторжан и сс.-поселенцев, 1928. 88 с.
Ушерович С.С. Смертные казни в царской России. Харьков : Изд-во Всеукраинского совета общества политкаторжан и сс.-поселенцев, 1933. 504 с.
Карийская трагедия 1889 г. : (воспоминания и материалы). Петроград : ГИЗ, 1920. 76 с.
Морозов К.Н. ПСР в 1907-1914 гг. М. : РОССПЭН, 1998. 623 с.
Кадиков Э.Р. Об эсеровском «тюремном терроре» в Сибири в начале ХХ в. // Проблемы историографии и источниковедения отечественной и всеобщей истории : сб. науч. ст. / Ом. гос. ун-т им. Ф.М. Достоевского. Омск, 2011. С. 31-40.
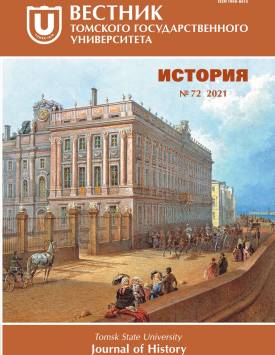

 Вы можете добавить статью
Вы можете добавить статью