Рассматривается трансформация русской конницы, связанная с петровскими культурными реформами. Основой для анализа избраны военно-административные документы конца XVII - начала XVIII в. Акцент в исследовании сделан на изучении новых требований к уровню взаимодействия всадника и лошади, которые позволили русской коннице уже к концу первого десятилетия XVIII столетия не только достичь уровня ведущих кавалерийских школ Западной Европы, но и превзойти их. Воссоздание хода петровских военных преобразований поможет более точно понять их специфику и последствия.
Russian horseman between the Muscovy and the Russian empire.pdf К концу Московского царства конница продолжала оставаться основой русской армии. В это время она имела весьма самобытные формы, сложившиеся в результате смешения различных культур. Основу войска составляла иррегулярная поместная конница («временное» войско), мобильная и многочисленная. Ее численность к концу XVII в. равнялась приблизительно 60 тыс., и она состояла из конных сотен дворянской и татарской конницы. Всадники поместной конницы были известны как «добры и конны и оружейны» [1. С. 191]: по качеству боевой подготовки до определенного момента она была лучшим видом вооруженных сил России. Однако с 1680-х гг. поместная конница начинает терять боеспособность и вместе с ней свое значение, уступая и пехоте, и войскам иноземного строя [2. С. 9, 10]. На рубеже XVII-XVIII вв. современник Петра И.Т. Посошков подверг поместную конницу резкой критике, приписав ей «неимение основных понятий о воинской дисциплине, массу “нетчиков”, желание “саблю из ножен не вынимать”» [Там же. С. 24]. «Клячи худые, сабли тупые», - утверждал он [3. С. 17]. Так или иначе, ее неспособность к успешным наступательным действиям не оспаривалась, поскольку главной воинской задачей доныне предполагалась исключительно оборона. «Воинское дело первое из мирских дел, яко важнейшее для обороны своего отечества», -говорил Петр I [2. С. 67]. В западноевропейских войнах XVIII столетия, где от конницы требовались прежде всего выучка и техничное маневрирование, поместное войско могло выступать только как вспомогательная сила, равно как и другой вид временного ополчения «русского строя» - даточная конница. Более прочих развитый боевой навык имела конница городового войска казаков-помещиков и «стремянных» стрельцов как первый вид русской «непременной», т.е. регулярной, конницы. Рейтарские и драгунские полки, состоящие частью из наемников-иностранцев, частью из русских под руководством иностранных офицеров, несколько уступали им, так как были рассчитаны преимущественно на бой огнестрельным оружием на медленных аллюрах, не требовавших от всадника особой выучки [4. С. 288]. Таким образом, в общий состав русской конницы к концу XVII в. входило 25 копейно-рейтарских полков драгунского типа, а также поместная дворянская конница и люди за ней, даточные конные, городовые, слободские и донские казаки в числе «нестройных» войск и временных ополчений общим числом свыше 55 тыс. человек; кроме того, гарнизонные стрельцы и драгуны (количественных данных по этим видам войска нет) [2. С. 50-51]. В 1694 г. имелись рота палашников и рота конных гранатчиков [5. С. 12; 6. С. 114]. Недостатком такого устройства была прежде всего его многоукладность, когда каждая из групп была обособлена и имела свою специфику. Ратная повинность этого времени отличалась неопределенностью и неравномерностью. Слабыми сторонами «русского строя» также были его архаическая система снабжения и долгая и нестабильная мобилизация, что задерживало выступление армии на театр войны (так, сосредоточение к Нарвскому сражению 1700 г. заняло более месяца [2. С. 74], к Крымскому походу 1687 г. - два месяца). Поместная система не предполагала систематического воинского обучения, что прослужило к крайне размытым требованиям к качеству военной выездки (т.е. к качеству взаимодействия кавалериста и боевой лошади). «Известно есть всему миру, какова скудность и немощь была воинства российского, когда оное не имело правильного себе учения», - писал Ф. Прокопович (цит. по: [4. С. 43]). В царских указах понятие готовности к государевой ратной службе ограничивалось расплывчатым понятием «добрый»: «.. .да у вас же бы и у людей ваших, которые за вами в полках будут, было огненное ружье, фузеи и пистоли добрые, а лошади польские или ногайские или домашние, или иные какие, добрые ж», -говорится в Указе от 4 декабря 1698 г. [1. С. 525-526]. Данный текст почти буквально повторяет Указ «О содержании служивым людям лошадей добрых и к стрельбе обычных» от 19 апреля этого же года: «.чтоб. для Его Государевы службы были лошади Польские или домашние или Ногайские, или иные какие добрые и к стрельбе заобычные, чтоб которые стрельбы не боялись; а буде. у кого на Его Государеве смотре, или по смотру на Его Государеве службе в полках Б.Л. Шапиро 96 у Бояр и Воевод таких добрых и к стрельбе заобычных лошадей не будет, и тем за то быть от Великого Государя в опале и в наказанье без пощады» [1. С. 450-451]. Таким образом, одним из главных недостатков русской конницы на конец XVII в. было отсутствие единой и постоянной системы подготовки как всадника, так и его лошади. Ключевым моментом в ее развитии стали петровские реформы, призванные превратить Россию в европейскую державу. Первые шаги по переустройству относятся к 1698 г., когда начинается формирование регулярных драгунских полков. В сентябре этого года генералом А.М. Головиным был набран первый 4-ротный драгунский полк, названный Преображенским драгунским полком (полк иноземца «старого выезда» А.А. Шневенца). «Из того выбираю, чтоб были собою человечные и не глупы...» [3. С. 2], -докладывал Головин Петру I, отбирая лучших из дворян и дворянских и шляхетных недорослей московских чинов (царедворцев), достигших 15 лет, ростом не менее 151 см (2 аршина 2 вершка) [Там же. С. 1, 6]. В августе 1700 г. генералом А.А. Вейде был сформирован второй драгунский полк (полк Е.А. Гулица). Однако новонабранные драгуны были мало знакомы с конной службой и поначалу по своим качествам могли называться только пехотой, посаженной на коней. Оба полка вместе с наскоро набранной поместной конницей Б.П. Шереметева участвовали в Нарвском сражении в ноябре 1700 г. (1 400 драгун, 5 250 всадников поместной конницы [2. С. 74]). Итоги этого сражения хорошо известны. Поместная конница в панике отступила в самом начале боя, бежав с поля сражения к Новгороду; во время переправы через Нарву утонули около тысячи ее всадников [3. С. 18]. Потери новоприбранных драгун тоже были весьма существенны: полк Шневенца потерял 279 всадников, полк Гулица - 133 [4. С. 154]. Нарвский разгром показал все недостатки подготовки русской кавалерии на рубеже веков и послужил к форсированию преобразований. Очевидно, что русская конница as is не могла выполнять тех задач, которые ставились перед русской армией в войнах первых десятилетий XVIII столетия. Согласно замыслу «в Европу прорубить окно», Петру I предстояло прежде всего создать новую боеспособную армию, для чего необходимо было определить такие принципы подготовки всадника, которые позволили бы не только достигнуть уже сложившегося общеевропейского уровня, но и превзойти его. Выбор государя был сделан в пользу конницы драгунского типа: она не исключала спешивание в бою, что наиболее соответствовало современной тактике ведения конного боя. Петр I повелел Б.А. Голицыну набрать в десяти низовых городах 10 драгунских полков и сверх оных в Новгороде два полка. Полки, каждый на 1 тыс. человек, были набраны к середине 1702 г.; кроме того, были сформированы Малолетний драгунский полк, переданный в школу при Посольском приказе, и выборная драгунская рота, оставленная при Золотой Палате и Приказе Казанского дворца; все они получили относительно единую организацию [3. С. 21, 32; 7. C. 30]. Общие военно-административные распоряжения по драгунам возлагались на главу Разрядного приказа Т.Н. Стрешнева [2. С. 79]. Ближняя канцелярия выдала Золотой Палате 100 тыс. рублей «на покупку лошадей для свейской службы» [3. С. 26]. Обзаведение лошадьми, по признанию Б.А. Голицына, было самым больным местом новосозданной кавалерии: «.превеликое теснение имею сердцу своему в лошадях», - сообщал он Петру I в апреле 1701 г. [Там же]. В 1703 и в 1707 гг. были предприняты попытки создать кирасир и легкую кавалерию. В 1709 г. из драгунских полков были выделены гренадерские роты, временно сведенные в три конногренадерских, или драгунских гренадерских, полка. Аналогично были переформированы драгунские фузилерные полки. Учреждение регулярной конницы требовало расходов: снабжение одного только драгунского полка стоило свыше 23 тыс. рублей (согласно «Ведомости что в Кавалерии полков и кто в оных командиры и откуда на те полки из приказов жалованье дается» от 1711 г.) [8. С. 617]; общий расход на содержание армии за 10 лет, с 1701 по 1710 г., удвоился. Для высвобождения средств на военные нужды существенно сокращаются расходы на содержание Двора: со свыше 224 тыс. рублей в царствование Федора Алексеевича до 56,5 тыс. в 1701 г. [9. С. 81, 85-86]. Ограничения затронули все сферы дворцовой жизни; не могли они не коснуться и придворного конного хозяйства. К началу петровского правления на дворцовых конюшнях содержалось свыше 5 тыс. лошадей [9. С. 40, 43, 62]. В с. Коломна находилась Собственная конюшня, где в разные годы содержалось от 287 до 311 лошадей, предназначенных для личных нужд царя [10. С. 30]. Численность остального поголовья, военного и хозяйственного назначения, царь лично оценивал в 50 тыс. рублей [11. С. 9]. После начала Северной войны Конюшенный приказ для экономии средств был передан в ведение Ин-германландской канцелярии Дворцовых дел под управлением А.Д. Меншикова [8. С. 298]. Часть из государственных конных заводов была закрыта (Бе-седский, Воробьевский, Остожский), другие же были переданы людям, имевшим силы, знания и материальные средства для их содержания. Давыдовский завод был отдан боярину Т.Н. Стрешневу, возглавлявшему в конце 1690-х гг. Конюшенный приказ, Покровский завод - стольнику и ближнему кравчему К.А. Нарышкину, Хатунский - думному дьяку Д.А. Иванову, возглавлявшему Иноземский, Рейтарский и Пушкарский приказы, Юховский (Юхотский) и Уславцевский -генерал-фельдмаршалу графу Б.П. Шереметеву, Великосельский - генералу князю А.И. Репнину, Софьин-ский - князю М.П. Гагарину, Бронницкий - первому помощнику Петра I в формировании русской кавалерии и первому русскому генералу от кавалерии, в будущем светлейшему князю А.Д. Меншикову. Два конезавода, Таннинский и Александровский, были подарены Петром I жене Екатерине [9. С. 81-82; 10. С. 30]. Всего было роздано 10 дворцовых конных заводов. Потребности царского двора обеспечивались оставшимися 11 заводами в Московской, Владимирской и Костромской губерниях. Стоит отметить, что ценой преобразований конного хозяйства была утрата старо- Русский всадник между царством и империей 97 русской боярской породы лошади. Крепкая, но тяжелая, она не соответствовала новым потребностям и условиям [10. С. 30]. В то же время реализация царских замыслов требовала значительного количества лошадей, включая и ремонт (пополнение), поскольку убыль в военное время была весьма значительна (так, например, в разделе «убитые лошади, раненые и безвестно пропавшие» по «Табели потерь, понесенных Русской драгунской конницей в сражении под Калишем 18 октября 1706 года» значилось 678 единиц [12. С. 450-451]). Также требовалась замена лошадям, отслужившим свой срок. «В поход со мной пойдут 9 полков драгунских, да только они безконны», - сообщал Петр I в августе 1703 г. Б.П. Шереметеву [13. С. 233-234]. Динамика содержания царских указов о военноконской повинности («лошадиных наборов») для кавалерии и конных рекрутов в 1704-1707 гг. и их интенсивность ясно иллюстрируют, по выражениям Б.П. Шереметева, и «конницы малолюдство», и ее «малоло-шадство» [3. С. 51, 54] в первые годы XVIII столетия. В 1704-1706 гг. производятся смотры недорослей, и «которые... явятся собою добры и человечны, и тех писать конной службы» [14. С. 432], т.е. следует определение их в драгунские полки (указы «О высылке недорослей на смотр. О распределении явившихся в драгунские полки, о даче им амуниции и о штрафах с неявившихся», «О взятии у Дьяков сказок о их детях и о записании недорослей, находящихся не у дел, в драгуны», «О записании в драгуны недорослей, которые избегая от службы записались в разные Приказы» [8. С. 256, 285, 351]. С 1706 г. в конную службу набирались «служивые московские и городовые» в офицеры и рядовые [Там же. С. 346]. С 1705 г. главным средством комплектования драгунской конницы объявляется набор конных рекрутов -сначала с 80 дворов «по [одному] даточному конному человеку, одежного с лошадью и с ружьем. а лошадям и ружью у тех даточных быть добрыми» [Там же. С. 313], в 1706 г. - по 1 человеку с 50 дворов «московских и городовых дворян третьей статьи» [Там же. С. 353]. В особых случаях новоприбранные драгуны подкрепляются пехотой, посаженной на лошадей. Так, в сентябре 1708 г. отряд из 10 драгунских полков под личным начальством Петра I был усилен пятитысячной пехотой, посаженной на коней [2. С. 86, 125]. Рекрутам, не знакомым с искусством конного боя, предоставлялись мало и неравномерно обученные лошади, полученные от населения по военно-конской повинности (в качестве альтернативного источника пополнения конского состава также выступали реквизиция и трофейный захват; закупки в правление Петра I почти не практиковались). «Лошадиные наборы» вводятся с 1706 г.; первоначально лошади собирались «с полной сбруей и вооружением, на поставленных и непоставленных помещиками рекрут. со 100 дворов по человеку. а буде они тех лошадей к смотру. не приведут и не запишут и на них те лошади и конская сбруя взято будет вдвое» [8. С. 350]. В следующем году военно-конская повинность распространяется на попов и диаконов «по числу при ходских дворов, с московских с 150, а с городских с 200 дворов по одной драгунской лошади. ценой по 12 рублей лошадь, а меньше б той цены не были, в драгунскую службу годных, чтоб были летами меньше десяти лет» [Там же. С. 383]. Тогда же «били челом московских сороков священники и диаконы, что им драгунских лошадей вскорости взять стало негде», после чего повинность была заменена на денежный сбор по 15 рублей за лошадь [Там же. С. 393]. С началом русского похода Карла XII летом 1708 г. интенсивность рекрутского и лошадиного набора еще более усилилась. К 1711 г., согласно первым Штатам русской армии, регулярная кавалерия была представлена 33 драгунскими полками на 33 тыс. лошадей [Там же. С. 592]. Для этого на армейские нужды был изъят почти весь племенной состав дворцовых конских заводов и конюшен [11. С. 9]. Вскоре прекратило свое существование большинство частных конных заводов, не получивших освобождения от военных наборов [15. С. 20]. Результатом ужесточения «лошадиных наборов» с лиц всех сословий стало увеличение численности русской конницы, но не ее качества. Драгуны и легкая кавалерия в первые годы XVIII столетия довольствовались в основном небольшими коренастыми ногайскими лошадками (как было и в прежние времена) и местными лошадьми крестьянских некрупных пород «только б были крепкие и здоровые» [9. С. 87]. Так, согласно инструкции, данной государем фельдмаршалу Огилви перед Гродненской операцией в феврале 1706 г., следовало «лошадей из Гродни тутошних жителей, хто они ни есть. из монастырей и домов, и також в чем нужда есть, взять нуждное без крайнего разоренья, а лошадей всех» [14. С. 270]. Особым было положение в конногренадерских полках, куда подбирались лошади особые, рослые, в основном жеребцы голштинской породы или трофейные шведские кони, приученные к взрывам и выстрелам [9. С. 89]. От конногренадера же требовалось непростое умение вести такую лошадь на различных аллюрах. Необходимость в обучении «людей к лошадям не-заобычных» [3. С. 301] проявилась сразу же после сформирования первых драгунских полков. Еще в июне 1701 г. Б.П. Шереметев обращал внимание Петра I на то, что в драгунских полках, прибывших в действующую армию, «из начальных людей нет никого кто бы знал строй драгунский» [7. С. 31; 16. С. 79], включая и полковника драгунского полка, созданного комиссией Голицына, стольника Н.Ф. Мещерского. В 1701-1702 гг. были составлены «Учение драгунское» и «Краткое положение с нужнейшими объявлении при учении (конного) драгунского строю, како при том поступати и во осмотрении имети господам вышним офицерам и прочим начальным и урядникам, и учити на конях стройством, как последует» [17. С. 80, 84]. «Краткое положение.» стало первым русским кавалерийским уставом, где было сформулировано требование, чтобы «кони шли ровно и люди сидели бодро» [7. С. 31] в плотно сомкнутом строю. В июле 1703 г. драгунские полки получили «Статьи во время воинского походу» - уточняющую ин- Б.Л. Шапиро 98 струкцию А.Д. Меншикова с резолюцией Петра I: «Достойное учреждение войску» [3. С. 197]. В качестве дополнений к «Кратким положениям...» перед Калишской операцией в июле 1706 г. Меншиковым были составлены и изданы «Артикул краткий» (дополнение основных положений в 12 главах) и рисунок, представлявший порядок (стан) кавалерии на отдыхе и в бою [14. С. 333]. Издания 1703-1706 гг. представляли и поясняли основные положения по строевой и боевой подготовке драгунских полков. Главным содержанием дополнений можно назвать стремительность кавалерийской атаки на полных аллюрах и ее основное действие холодным оружием: «коннице отнюдь из ружья не стрелять. но с едиными шпагами наступать на неприятеля», -гласила петровская инструкция драгунам от 1706 г. [4. С. 348]. Петровское же «Учреждение к бою по настоящему времени» от 1708 г. более четко обозначило общее направление подготовки кавалерии. Ее основными положениями становятся: 1) отделение одиночного обучения для новобранцев от совокупного (т.е. группового) для старослужащих, уже усвоивших элементы как конного, так и пешего строя; 2) краткость и ясность формулировок, понятных новобранцам. 3 практичность [2. С. 71, 167; 18. С. 29]. Точное исполнение сформулированных Петром I правил службы гарантировало стабильно высокое качество подготовки кавалерии, полученное в наикратчайший срок. При этом официально определялись только самые существенные положения, остальное отдавалось на усмотрение командования: это составляло характерную особенность петровской тактики, резко отличную от западноевропейской. Необходимость дополнений была вызвана несомненным улучшением качества боевой подготовки драгунской кавалерии. «Люди, государь, во оном полку, когда конным учением поисправятца, доволно добры и лошади отпущены добры ж», - сообщал полковник П.М. Апраксин о состоянии своего полка в 1706 г. [14. С. 369]. В том же 1708 г. Петр I разработал новые положения конного боя, которые учитывали изменение качества русской конницы. Документ под названием «Правила сражения» заменял устаревшую атаку колоннами на атаку в развернутом строю: «.больше фронта взять велел, чтоб линеями, а не колоннами, как прежде учинено было, атаковать могла» [19. С. 10]. Для подготовки конницы и управления ею в помощь русским офицерам первоначально приглашались иностранцы. Так, обучением драгунских полков заведовал А.М. Головин, а для командования «новыми» драгунскими полками были назначены полковники-иноземцы, в том числе опытнейший шведский офицер на русской службе, единственный среди генералов, прошедших все ступени воинской карьеры от рядового кавалериста, Р.Х. Боур (Баур) и др. [4. С. 368; 20. С. 85]. Кроме того, на русскую службу в качестве образчиков были приняты саксонские кавалеристы [21. С. 313]. Учебную программу составляли упражнения конного строя (смена аллюра, разворот из походной колонны в шеренгу для атаки, сомкнутый строй «колено в колено» и т.д.), вольтижировка с оружием, искусство рубки и конное фехтование. Приемы западноевропейского конного боя были освоены довольно скоро: первые победы новосозданной регулярной конницы отмечаются уже в конце 1701 г. в ходе Ингерманландской операции [3. С. 62]. В 1703 г. в сражении на р. Сестре (так называемое «Драгунское дело Рене» 7 июля 1703 г.) драгуны, владея линейным боевым построением по правилам западноевропейского военного искусства, уже шли «фрунт на фрунт», атакуя на галопе в шеренгах [2. С. 92]. К 1705 г. в организации русской конницы были достигнуты более чем серьезные успехи. Уже были положены ее прочные начала, которые в дальнейшем только совершенствовались, о чем, например, свидетельствует разгром шведского корпуса Мардефельда драгунами Меншикова под Калишем в октябре 1706 г. К этому времени кадровый состав кавалерии сменяется: офицеры-иноземцы почти полностью вытесняются русскими дворянами. Первыми крупными боевыми успехами русской кавалерии стали победы при Лесной осенью 1708 г. и под Полтавой летом 1709 г., где были развиты основы военного искусства, впервые продемонстрированные в сражении на р. Сестре. Именно тогда Петр I обратил внимание, что шведы сидели на лошадях «заводской крови» [22. С. 82]. Сравнение шведских и русских лошадей оказалось не в пользу последних. Часть этих эффектных лошадей была захвачена и отправлена в качестве племенного материала на Коломенскую государеву конюшню как «образец для русской конницы» [9. С. 87]. С этого момента началось восстановление упраздненного в первые годы столетия отечественного коневодства, конечной целью которого было названо полное обеспечение не нужд дворца, как ранее, а русской армии. Одними из наиболее подходящих для кавалерии в то время признавались шлезвиг-голштинские лошади, быстрые, выносливые, крепкие, но при том гармоничные. В январе 1712 г. была сделана попытка завести эту породу и в России: издается указ «завести конские заводы, а именно: в Казанской, Азовской и Киевской губерниях; а для заводу кобыл и жеребцов купить в Шлезии и в Пруссах» [8. С. 779]. В ожидании результатов по обеспечению армии конским составом были приняты меры по поддержке торговли лошадьми (указы от 30 октября 1713 г. «О невзятии с лошадей пошлин в Москве и в городах у служивых и у приезжих торговых иноземцев» и от 26 октября 1716 г. «О выдаче жалованья посланцам Аюки Хана Калмыцкого, приезжающим в Москву с табунами для покупок, по 300 руб. в год из Посольской Канцелярии» [23. С. 65, 479]). Военный опыт первого десятилетия XVIII столетия и промежуточные результаты преобразований были закреплены в Воинском уставе от 30 марта 1716 г., составленном на основе шведского военного законодательства при непосредственном участии Петра I [4. С. 374]. Устав составлен из нескольких частей, или книг: «Устав воинский», «Артикул воинский с кратким Русский всадник между царством и империей 99 толкованием», «Краткое изображение процессов» и «Экзерциции» [23. С. 203-461]. Устав имел систематическое построение; много внимания традиционно было отдано приемам обучения. «Каждый полк по списку пересмотреть и при том гораздо примечать каждого офицера и драгуна, в совершенном ли они порядке обретаются... как их должность по воинским регламентам требует, и имеет ли надлежащую чистоту в начале в воинской арматуре, ружье и во всякой амуниции и в мундире, також лошади драгунские и подъемные, и конская сбруя. в добром ли присмотрении и чистоте обретается, и во всем ли такой порядок содержится как Воинский Устав повелевает и должность офицерская требует. Не меньше всего того вышепо-мянутого надлежит стараться, дабы добрая и благо искусная экзерциция была. как храброй и благообученной кавалерии принадлежит», - указывалось в инструкции «Об осмотре кавалерийских полков и о принятии оных в команду», составленной на основе Устава [Там же. С. 722]. В 1720 г. выходит «Инструкция» А.Д. Меншикова, где отмечается необходимость дважды в неделю обучать кавалеристов экзерцициям на лошадях и даются подробные указания по конному обучению [24. С. 24]. В этом же году Петр I отдает распоряжение астраханскому губернатору А.П. Волынскому «завесть в Аст-рахане чистых лошадей от Персидских жеребцов и Черкесских кобыл» [25. С. 251]. Стоит отметить, что этот указ, как и указ по коннозаводству от 1712 г., не был выполнен (один - из-за неудачного Прутского похода, другой - из-за начавшейся вскоре войны с Персией), что затрудняло и замедляло ход реформ. К образованию империи 22 октября 1721 г. реорганизация кавалерии была в целом завершена. Главным источником и импульсом (внутренней пружиной) преобразований явились итоги «жестокой трехвременной школы» Северной войны 1700-1721 гг. Война показала качественное изменение русской конницы, воспитанной в боевых условиях. Оставаясь численно близкой к дореформенной, архаичная русская конница была преобразована в боеспособную регулярную кавалерию, чей уровень не только отвечал всем тактическим требованиям западноевропейского военного искусства конца XVII - начала XVIII в., но и превзошел их. При этом накопленный поколениями опыт и национальные черты, свойственные русской коннице в допетровское время, - смелость и решительность атаки на быстрых аллюрах - не были забыты; напротив, они были положены в основу обучения и, развитые на более высоком уровне, составили специфику русской кавалерийской школы. Результатом петровских преобразований стал качественный прорыв, который заложил основы военного могущества Российской империи. Русская культура была выведена в парадигму Нового времени. С этого времени образ всадника в русской культуре неразрывно связан с имперской идеей.
Полное Собрание Законов Российской Империи: Собрание первое. СПб., 1830. Т. VI: 1720-1722. 815 с.
Полное Собрание Законов Российской Империи. Собрание первое. СПб., 1830. Т. V: 1713-1719. 780 с.
Де Витт Л.В. Конница: вооружение и владение оружием. М. : Либроком, 2011. 240 с.
Иванов М.С. Возникновение и развитие конного спорта. М. : Профиздат, 1960. 164 с.
Манштейн Х. Записки Манштейна о России. 1717-1744. СПб. : Тип. В.С. Балашева, 1875. 378 с.
Письма и бумаги Петра Великого. М. ; Л., 1948. Т. 8 (июль-декабрь 1708 г.), вып. 1. 407 с.
Рабинович М.Д. Полки петровской армии 1698-1725 : краткий справочник / под ред. Л.Г. Бескровного. М., 1977. 112 с. (Труды ГИМ; вып. 48).
Масловский Д.Ф. Строевая и полевая служба русских войск времен императора Петра Великого и императрицы Елизаветы. М., 1883. 199 с.
Строевые уставы, инструкции и наставления русской армии XVIII века : сб. материалов : в 2 т. / сост. К.В. Татарников. М. : Русская панорама, 2010. Т. 1. 455 с.
Епифанов П.П. Начало организации русской регулярной армии Петром I (1699-1705) // Ученые записки. 1946. № 88 (История СССР). С. 66-99.
Кожевников Е.В., Гуревич Д.Я. Отечественное коневодство: история, современность, проблемы. М. : Агропромиздат, 1990. 221 с.
Письма и бумаги императора Петра Великого : в 6 т. СПб., 1889. Т. 2: 1702-1703. 721 с.
Волынский Н.П. Постепенное развитие русской регулярной конницы в эпоху Великого Петра. СПб., 1912. Т. 1, кн. 2. 485 с.
Витт В.О. Из истории русского коннозаводства. Создание новых пород лошадей на рубеже XVIII-XIX столетий. М. : Сельхозгиз, 1952. 360 с.
Волынский Н.П. Постепенное развитие русской регулярной конницы в эпоху Великого Петра. СПб., 1912. Т. 1, кн. 3. 500 с.
Гусев Ю., Манжола А. Коннозаводство в эпоху Петра I // Коневодство и конный спорт. 1993. № 2. С. 30-31.
Все о лошади / науч. ред. А.И. Жигачев. СПб. : Лениздат, 1996. 525 с.
Полное Собрание Законов Российской Империи. Собрание первое. СПб., 1830. Т. IV: 1700-1712. 881 с.
Денисон Дж. История конницы. СПб., 1897. Т. 2. 339 с.
Военные уставы Петра Великого / вступ. ст. П.П. Епифанова; под ред. Н.Л. Рубинштейна. М., 1946. 80 с.
Азанчевский М.П. История Преображенского полка. М., 1859. 232, 142 с.
Кутищев А.В. Армия Петра Великого европейский аналог или отечественная самобытность. М. : Спутник, 2006. 408 с.
Волынский Н.П. Постепенное развитие русской регулярной конницы в эпоху Великого Петра. СПб., 1912. Т. 1, кн. 1. 320 с.
Масловский Д.Ф. Записки по истории военного искусства в России. 1683-1762 год. СПб., 1891. Т. 1. 356 с.
Полное Собрание Законов Российской Империи. Собрание первое. СПб., 1830. Т. III: 1689-1699. 690 с.
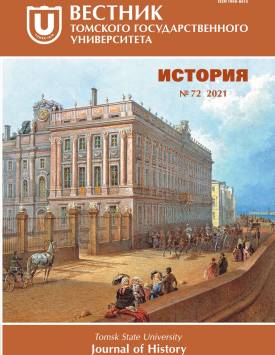

 Вы можете добавить статью
Вы можете добавить статью